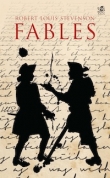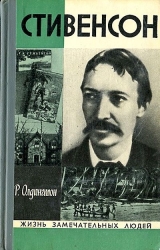
Текст книги "Стивенсон. Портрет бунтаря"
Автор книги: Ричард Олдингтон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
«И вот, лишая его покоя, человека властно терзает физическое желание. Избавиться от него нельзя: врачи, не я, скажут вам, что оно так же свойственно организму, как потребность в пище или сне. В удовлетворении этого желания, когда оно впервые возникнет, душа почти не принимает участия, напротив, она часто сожалеет о содеянном нами и не одобряет его. Но если мужчина полюбит женщину всем своим существом, случайное влечение заменится гармонией всех духовных и физических сил, и все прочее будет вытеснено, поглощено и растворено в его неуклонном стремлении к единой цели. Влечение сохранится, возможно, станет даже сильнее, но будет обуздано и изменится по глубине и характеру. Жизнь перестанет быть цепью измен и раскаяний, ибо теперь мужчина представляет собой гармоничное целое, сознание его движется без помех, как река; при всех крайностях, при всех взлетах и падениях страсти он остается самим собой и может себя не стыдиться».
Нетрудно догадаться, почему малый синедрион, решавший, что Луису следует печатать и что нет, категорически запретил публикацию этого очерка и позволил напечатать его лишь спустя два года после его смерти в сборнике «Ювенилии» («Юношеское»), хотя Стивенсон написал его в двадцать восемь лет. Слова о том, что человек остается самим собой и может себя не стыдиться, в какой-то степени оправдывают суждение Хенли о Стивенсоне, вызвавшее такое негодование всех тех, кто не желает да по самой своей природе и не способен видеть правды.
«В то же время, если он чего-нибудь хотел, – пишет Хенли, – он стремился к цели, совершенно не считаясь с последствиями. Да и к чему? За них всегда был готов ответить «Краткий катехизис». Как бы он ни поступил, хорошо или дурно, он выходил из положения, не теряя присутствия духа и оптимизма. Он терпеть не мог мистера Гладстона, тут я отдаю ему справедливость, но его способность к самообману была, пожалуй, не меньшей, чем у этого государственного мужа».
Между прочим, Гладстон родился в Англии, но родители его были выходцами из Шотландии.
Поездка к Фэнни в Калифорнию, которой предшествовало все вышесказанное, была переломным моментом в жизни Стивенсона. Он прекрасно это понимал и, как всегда, когда дело касалось его самого и его судьбы, добросовестно запечатлел все, кроме самых интимных подробностей, случившееся с ним в течение года с того момента, как он отплыл один из Гринока, и до того, как 7 августа 1880 года вернулся из Нью-Йорка вместе с Фэнни и Ллойдом. Год этот был для него суровым испытанием. Стивенсон выдержал его, в общем, с честью, хотя, если бы не денежная помощь из дома, ему, возможно, пришлось бы отступить. Луис сам весело, но, пожалуй, немного цинично говорил о себе, что он, как кошка, всегда падает на все четыре ноги… правда, две из них – отцовские. Однако неудача его была бы вызвана не недостатком мужества или неумением трудиться, а просто тем, что сочетание физической усталости, умственного перенапряжения, лишений и тревог оказалось бы слишком большой нагрузкой для его здоровья. У нас теперь не вызывает сомнений, что активный туберкулезный процесс в легких, сопровождавшийся кровохарканьем, явился результатом того крайне тяжкого положения, в которое его поставили. Возникает, естественно, вопрос: о чем думали родители и друзья, на целых девять месяцев оставив без денежной помощи такого болезненного, хотя и мужественного, человека? Понятно, никто из них не хотел, чтобы он женился на Фэнни, но, если родители воображали, будто, лишив его материальной поддержки, смогут помешать этому браку, они недооценивали искренность чувств Луиса и силу его характера.
Говорить, что Луис Стивенсон, этот «эмигрант-любитель», пересек Атлантический океан в трюме, будет не совсем точно. Приплатив к шести гинеям – цена билета третьего класса – еще две гинеи, он получил в свое распоряжение каюту второго класса. Хотя от трюма ее отделяла всего лишь тонкая переборка, в ней был стол, за которым он мог писать, и кормили его все же немного лучше, а в Нью-Йорке он был освобожден от карантина, обязательного для эмигрантов. Никто не может сказать, что это были легкие условия для работы. Во время переезда по океану он заканчивал очерк «История одной лжи» и, несомненно, делал многочисленные заметки для «Эмигранта-любителя». Он не прекращал работы и во время утомительного, со множеством остановок двухнедельного пути поездом. Я крепкий мужчина, чего никак нельзя сказать о Стивенсоне, но для меня трех суток в американском поезде без спального вагона более чем достаточно. А он выдержал в четыре раза больше, да еще после всех неудобств и неприятностей океанского плавания.
«Эмигрант-любитель», которого, по словам Грэхема Бэлфура, «друзья Стивенсона критиковали чрезвычайно сурово», был откуплен у издателя отцом Луиса и опубликован только после смерти автора. Почему? Конечно, это было резонно, с точки зрения юриста Чарлза Бэкстера, так как даже спустя много лет и пароходная компания, и несколько человек из команды, а еще больше – из пассажиров третьего класса могли возбудить против Луиса дело за диффамацию. Но истинная причина крылась в ином – автор откровенно рассказывает, с какими бедными, чуть не нищими людьми он общался, и перемежает рассказ о реальных событиях размышлениями, слишком откровенными, чтобы они могли прийтись по вкусу читающей публике. В интересах «романтического» Стивенсона изъятие книги было вполне оправданно, но, если друзья критиковали ее за отсутствие литературных достоинств, они ошибались куда больше, чем следует из саркастического замечания Фэнни об их суждениях.
Каковы бы ни были ее недостатки – а какая книга, особенно хорошая, свободна от них? – «Эмигрант-любитель» был самым зрелым произведением из написанных Стивенсоном к тому времени. Называть его репортажем – значит недооценивать значение книг, она куда глубже. Действие развертывается так живо, что читатель невольно делается соучастником переживаний Стивенсона. В «Эмигранте-любителе» гораздо ярче отображаются социальное неравенство и жестокость во взаимоотношениях людей разных классов, чем в воспоминаниях Роберта Луиса о «howffs» Эдинбурга, где он играл в «бархатную куртку», иди о получасе, проведенном во французской тюрьме. Бессердечие команды по отношению к трюмным пассажирам, которым швыряли в лицо их пищу (в лучшем случае – объедки со стола пассажиров первого класса), с другой стороны – меркантилизм эмигрантов, убежденных в том, что единственная сила на земле – деньги, и ряд других наблюдений, лишавших эмиграцию романтического ореола в глазах Стивенсона и честно изложенных им на бумаге, вряд ли устраивали плутократов той эпохи, однако теперь представляют для нас немалый интерес. Книга является подлинным куском той «Истории английского народа», которую английские историки еще не написали и вряд ли напишут.
Однако «Эмиграпта-любителя» нельзя причислить к «социальному реализму», так как автор не имел определенных политических взглядов. Будучи консерватором, он любит человека, но не доверяет человечеству. Сам по себе ни один персонаж не вызывает у нас неприязни, и Стивенсон не был бы Стивенсоном, если бы чуть не с первых дней не выискал среди обитателей трюма милого ребенка – «некрасивого, веселого бесштанного малыша лет трех с белыми, как корпия, растрепанными волосами и перепачканным патокой и салом лицом», во всех движениях которого сквозили такие «грация и веселость», что «его можно было назвать прекрасным». В противовес этому он пишет, как его поразила привередливость некоторых ремесленников, отказывавшихся («этим даже свиней не кормят») от супа, каши и хлеба, которые сам он находил если не вкусными, то, во всяком случае, сытными. Они были слишком скованны, чтобы веселиться, и все до единого ненавидели войну, приписывая «свои неудачи а часто и свое пристрастие к виски военным кампаниям в Зулуленде и Афганистане». Критики воспрянули бы духом, прочитав следующее рассуждение: «Ничто так не украшает человека, как способность искренне восхищаться; наравне с любовью это свойство никогда не вызывает у нас презрения, даже если оно обращено на неподходящий объект». (В этом больше благожелательности, чем правды.) Им вряд ли понравился бы краткий, но безжалостный набросок человека, который ни разу не сказал ни одного «правдивого, доброго или интересного слова», но они, пожалуй, приняли бы русского, чья песня была «глухой, как коровье мычание, и дикой, как Белое море».
В довершение всего Стивенсон рисует портрет Маккея – тип, который в те времена был далек от процветания, а сейчас правит чуть не всем миром, толкая его к гибели.
«Его глаза были запечатаны корыстолюбием. Он ничего не видел, кроме денег и паровых машин. Он не понимал, что значит слово «счастье». Он забыл простые чувства, испытываемые нами в детстве, а возможно, никогда не вкушал восторгов юности. Он верил в производство, эту фикцию, столь полезную для экономики, словно она реальна, как смех, например; производство при воздержании от спиртных напитков было его богом и поводырем… Если ему казалось, будто что-то, неважно что, может помешать беспрерывному неистовому производству зерна и паровых машин, он негодовал, словно видел в этом заговор против народа… Одному нельзя научиться в Шотландии – быть счастливым. А ведь в этом вся культура и, пожалуй, две трети морали. Не случилось ли так, что, разлучив человека с природой, подавив в нем ряд инстинктов и наложив печать неодобрения на целый ряд его интересов и целые области его деятельности, пуританизм привел нас прямым путем к стяжательству?»
Обратившись от Маккея к остальным спутникам по плаванию, Стивенсон отзывается с похвалой о лучших из них за то, что они «не грубы, не суетливы, не любят спорить», «всегда готовы помочь, деликатны терпеливы и спокойны»; он даже считает, что их «деликатность лежит ближе к истокам истинного благородства, чем вежливость в более рафинированных и претенциозных кругах». И все же он вынужден сознаться, что:
«Все они, до единого, интересовались лишь отдельными фактами и стремились к сведениям ради самих сведений, – правда, люди всех классов проявляют подобный аппетит, когда ежедневно поглощают в огромном количестве всевозможную газетную болтовню… Они не видели связей между явлениями, но хватались за так называемую причину и считали вопрос решенным. Например, источником всех зол в Англии, по их мнению, было правительство, а следовательно, лекарством от них должен быть правительственный переворот… Они и слышать не хотят о том, что им самим надо исправиться, но желают, чтобы весь мир изменился в одно мгновение, и они смогли бы, оставаясь по-прежнему ленивыми, расточительными и распущенными, пользоваться жизненными благами и уважением, которые должны служить наградой за противоположные качества…»
Это лишь немногие примеры наблюдений, запечатленных в «Эмигранте-любителе». Некоторые из них, без сомнения, менее разительны сейчас, чем в то время, когда Стивенсон их делал, другие наводят такую же грусть, как пророчества Кассандры, когда наступает наконец время их свершения.
Тому, кто интересуется, как развивались мысль, мастерство и характер Стивенсона, книгу эту стоит внимательно прочитать от начала до конца. Человека, видевшего все то, о чем говорится в «Эмигранте-любителе», и сумевшего так рассказать об этом, нельзя обвинить в поверхностном знании жизни, как и в том, что он только и способен писать детские книжки или, пусть даже прекрасные по стилю, очерки и путевые заметки. Конечно, могут сказать, что его друзья из третьего класса знали, что он джентльмен, и намеренно или ненамеренно «выставлялись» перед ним. Однако Стивенсон решительно отрицает это. Ни пассажиры, ни команда, ни офицеры не отличались проницательностью лондонской или эдинбургской полиции и скорей напоминали полицейского комиссара из Шийона и французских хозяек гостиниц, принимавших его и сэра Уолтера за бродячих торговцев. Матросы называли его «приятель», офицеры – «милейший», а пассажиры-эмигранты считали его кем угодно – от каменотеса до инженера-практика. Так что познания, приобретенные им на корабле, не были искажены ложными отношениями, которые неизбежны при контакте различных классов. И вот именно за те черты, которые являются достоинствами этой книги, так называемые друзья невзлюбили ее и помешали Стивенсону ее напечатать. Чем, кроме снобизма, можно это объяснить? Быть принятым за бродячего торговца в глухой французской деревушке не страшно, это сочли забавной шуткой, к тому же Луис был в компании баронета, но благовоспитанная публика 80-х годов прошлого века, возможно, решила бы, что в «мистере Стивенсоне есть что-то не совсем симпатичное», раз на него глядят как на равного всякие, по его же словам, лентяи, пьяницы и бездельники. Вряд ли в ее глазах это делало ему честь. То, что он прилежно писал каждый день в каюте, выполняя дневной урок, его попутчики, как истые бритты, не ставили ни во что, считая это чепухой, для подобных людей нет смешнее занятия, чем «царапать пером». Добросердечный казначей корабля даже предложил Стивенсону переписать список пассажиров, сказав, что «ему за это заплатят».
Одно дело читать обо всем этом в книге, другое – испытывать на самом деле, и мы вполне можем попять, что первым желанием Стивенсона в Нью-Йорке после того, как он нашел номер в дешевой гостинице, было как следует пообедать, чтобы вознаградить себя за скудный корабельный стол. Ему бы следовало отдохнуть хоть неделю, прежде чем ехать дальше в Калифорнию. К несчастью, у него уже был заказан билет на поезд, отправлявшийся в понедельник вечером (а прибыл он в Нью-Йорк в воскресенье днем), и, к еще большему несчастью, он провел весь понедельник на улице под проливным дождем, так как ему нужно было побывать в самых разных местах, начиная с банков и кончая книгопродавцами. Он так промок, что оставил в номере брюки, носки и туфли, поскольку их невозможно было положить в чемодан. Мы вновь сталкиваемся с непрактичностью Стивенсона, – зная, как у него мало денег, и не представляя, когда она еще их раздобудет, Роберт Луис обедает в дорогом французском ресторане и выбрасывает сырую одежду (в точности, как в Севеннах, где он выкинул баранью ногу и целый хлеб). Настоящая богема не может позволить себе такую роскошь… В довершение всего ему пришлось проделать утомительную, хотя и недолгую, поездку, опять-таки под дождем, в Джерси-сити, откуда отходил поезд, так что, когда он сел в вагон, он опять был весь мокрый. И к тому же он узнал, что у Фэнни воспаление мозга.
Как ни странно, «Через прерии» – менее интересная книга, чем «Эмнгрант-любитель». Произошло это, конечно, вовсе не потому, что Стивенсон, уподобившись среднему англичанину, смотрел на Америку сверху вниз. Напротив, он сам говорил, что «Америка была для меня своего рода обетованной землей», но представление его о ней скорее напоминало мираж, а не реальную картину, поскольку составлялось оно на основании книг об Америке, прочитанных в детстве, и самой американской литературы. «Листья травы» Уитмена и «Уолден» Торо – великолепные книги, типично американские по своему духу; но разве такие типично английские книги, как «Записки Пикквикского клуба» Диккенса и стихотворения Теннисона, могли служить надежными путеводителями по Англии 1879 года? В рассказе об Америке у Стивенсона звучат нотки разочарования; не то чтобы он ее недооценил, но она «не выполнила» того, что обещала. Так образованный американец, высадившись в том же 1879 году в Ливерпуле, мог бы огорчиться, не встретив на улицах добродушных джентльменов, вроде мистера Пиквика, забавных малых вроде Сэма или благородных витий вроде тогдашнего поэта-лауреата Теннисона. К тому же Стивенсон пустился в путь усталым, в «страшно подавленном настроении», а бесконечное путешествие вымотало его еще больше. Правда, ему удалось избежать самого худшего – необходимости спать сидя, так как он взял напрокат несколько досок – их перекидывали с сиденья на сиденье – и подушку, но он не мог раздеться, ему редко удавалось умыться, и в составе не было вагона-ресторана.
«Я могу без преувеличения сказать, что никогда в жизни не чувствовал себя таким зверски усталым, как в ту ночь в Чикаго». А от Чикаго до Сан-Франциско еще очень долгий путь, особенно в поезде для эмигрантов. К тому времени, когда поезд добрался до Лароми (штат Вайоминг), Стивенсон был по-настоящему болен и более чем ошеломлен бессердечием, иначе не назовешь, американских переселенцев – в поезде почти не было эмигрантов из Европы. Его лицо, перекошенное болью, вызывало у них дружный смех, а когда позднее у другого пассажира начался эпилептический припадок, одна из женщин не нашла ничего лучшего, чем сказать; «Надеюсь, он не умрет! Мало приятного ехать в одном вагоне с покойником!» Стивенсону не было «предначертано» досадить этой леди и превратиться в столь нежелательного для нее соседа, но он был близок к этому. В письме, посланном с дороги Хенли, он говорит:
«Каково болеть в эмигрантском поезде, может рассказать только тот, кто это и пытал. Я проспал почти все утро. За целый день сегодня я ничего не съел, лишь выпил две чашки чаю; за каждую из них, назвав первую «завтрак», а вторую «обед», с меня потребовали по пятьдесят центов. Моя болезнь вызывает веселье у многих моих попутчиков, и я кисло улыбаюсь их шуткам».
Несмотря на то, что содержание телеграммы от Фэнни никогда не станет известным, можно предположить, что Стивенсон еще в Англии каким-то образом узнал о ее болезни, и это было одной, если не самой главной, из причин его отчаянной «эмиграции». В кротком письме Бэкстеру, написанном накануне отъезда, он говорит, что Фэнни, «по-видимому, очень больна», и загадочно добавляет: «Я должен хоть бы попытаться заставить ее сделать одно из двух». Но когда поезд наконец прибыл в Сан-Франциско, очень болен был сам Луис. Фэнни к тому времени настолько поправилась, что смогла переехать в Монтеррей, к югу от Сан-Франциско. Туда-то вслед за ней отправился и Стивенсон. Неожиданный приезд больного, измученного дорогой, полунищего Луиса, который еще раз умудрился сбежать от отца, поставил Фэнни в весьма затруднительное положение.
Что она намеревалась предпринять? Одна серьезная задача, стоявшая раньше перед ней была решена, хотя, возможно, и не так, как бы ей хотелось. Белл подала матери пример бескорыстной любви и против ее желания вышла замуж за не очень удачливого художника Джо Стронга. Некоторые из ранних биографов Стивенсона давали понять, будто Белл вышла замуж всего за несколько недель до второго брака миссис Осборн, вызывая тем самым подозрение, что дочь принесла себя в жертву матери. Я с облегчением узнал, что это был брак по любви.
Хотя Белл таким образом была сбыта с рук, проблемы, мучившие Фэнни, не сделались намного легче. Она жила на деньги Сэма Осборна, часто встречалась с ним и без конца обсуждала их положение. Если бы Луис приехал бодрым и готовым действовать хотя бы настолько, насколько это было возможно для такого беспомощного в практических делах человека, привез бы деньги в кармане, согласие отца на их брак и на увеличение годового содержания, она бы не задумываясь решилась на развод и новое замужество. Говорят, друзья предлагали ему деньги перед его отъездом из Англии; если так, с его стороны было крайне глупо не взять их. Случайные литературные заработки Стивенсона никак не могли служить гарантией обеспеченного существования, а у Сэма была работа, и он по-прежнему давал Фэнни деньги. О чем она говорила с Луисом, когда он приехал в Монтеррей, навсегда останется между ними, но вряд ли Фэнни очень его обнадежила. В другом письме Бэкстеру (не опубликованном Колвином), которое было послано через несколько дней после приезда Луиса в Монтеррей, он сообщает, что собирается попутешествовать, что у него нет никаких новостей и что у него «чесотка и разбито сердце». Мало похоже на исполнение «окрыленной любовью мечты!». В довершение ко всему во время путешествия Луис свалился от слабости или от болезни и был подобран и выхожен «старым охотником на медведей», «пилигримом», который странствовал вместе с Фримонтом, [80]80
Фримонт, Джон Чарлз (1813–1890) – американский офицер-путешественник.
[Закрыть]а теперь занимался таким прозаическим делом, как разведение ангорских коз на ранчо в восемнадцати милях от Монтеррея… На этот раз, как видим, путешествие Стивенсона не затянулось.
«Я чуть не умер. Три дня душа моя брыкалась, не желая расставаться с телом… Четыре дня я почти не спал, не ел и не думал. Два дня лежал под деревом в каком-то оцепенении и поднимался лишь затем, чтобы напоить лошадь или разжечь костер и сварить себе кофе, ночью же не смыкал глаз и слушал, как звенят колокольчики на шеях у коз и поют древесные лягушки; каждый новый звук доводил меня до безумия. А затем появился охотник на медведей, заявил, что я «вправду плох», и отвез меня к себе на ранчо».
Казалось бы, полное поражение, и единственный шанс остаться в живых – написать отцу покаянное письмо с просьбой вновь выплачивать содержание и прислать обратный билет домой в обмен на обещание отказаться от Фэнни. Вероятно, мистер Томас Стивенсон был бы рад получить такое письмо – ведь это была бы его первая настоящая победа над сыном и его проклятым упрямством с тех самых пор, как мальчик вырос. Увы, он не доставил отцу этого мрачного удовольствия, и, хотя единственной удачей Роберта Луиса было то, что он все-таки выжил, довольно скоро положение полностью изменилось, во всяком случае, постольку, поскольку это касалось Фэнни. Как он этого достиг – тайна, которая вечно будет терзать наше любопытство. Спору нет, souvent femme varie, [81]81
Сердце женщины изменчиво (франц.)– перевод первой строки песенки герцога из оперы Верди «Риголетто».
[Закрыть]и опять же нет спору, всякой женщине лестно, если мужчина из-за нее чуть не умер, но, с другой стороны, Фэнни было не двадцать, а почти сорок лет, и то, что Луис из-за любви к ней чуть не отправился на тот свет (если даже это и так), ничего не меняло. Он умудрился каким-то образом добраться до Монтеррея, где поселился в меблированных комнатах вместе с доктором-французом, и ел – один раз в день – во французском ресторане… «Два остальных раза я питаюсь за чужой счет» (по-видимому, за счет Фэнни). В письме Бэкстеру, написанном в это время, он заявляет, пожалуй, дав слишком большую волю фантазии, что Фэнни поправляется благодаря ему (Луису), что на январь 1880 года назначен «частный развод» и они с Фэнни поженятся, как только позволят приличия. Луис не объясняет, что такое «частный развод» и чем он отличается от «публичного развода», но, как показало дальнейшее, он вполне отвечал их цели.
Стивенсон прожил в Монтеррее три месяца без Фэнни, уехавшей, чтобы подготовить бракоразводный процесс. Встретиться они должны были в Сан-Франциско. Сэм Осборн не стал им мешать и не только согласился дать Фэнни развод, но обещал содержать ее и Ллойда до тех пор, пока она вновь не выйдет замуж.
Тем временем больной Стивенсон сражался в Монтеррее против нищеты, не щадя сил и здоровья, чтобы заработать деньги («Погоня за монетой сейчас мой главный девиз…»). Он кончил там «Дом на дюнах» и «Эмигранта-любителя» и задумал ряд новых произведений, большую часть которых, правда, как всегда, так и не написал. В письме, относящемся, по-видимому, к октябрю 1879 года, он говорит Хенли о своей мечте увидеть его вдруг рядом с собой в Монтеррее и в связи с этим дает краткий набросок своей тамошней жизни:
«Ты попадешь в салун Санчеса, куда все мы заходим выпить; познакомишься с Бронсоном, редактором местной газеты («Я не понимаю, что такое словесная музыка, – скажет он, – я – механик», но он славный парень), с Адольфо Санчесом, который просто прелесть. Я тем временем схожу на почту за письмами, оттуда мы двинемся вместе по Альварадо-стрит, то утопая в песке, то радостно топая по деревянным тротуарам, и я зайду к Хэдзелю за газетой. Наконец, мы окажемся у Симоно в маленькой задней комнатке с побеленными стенами, за столом, покрытым грязной скатертью, в обществе булочника Франсуа и, конечно, самого Симоно. Возможно, придут также рыбак-итальянец или Огюстен Дютра. Симоно, Франсуа и я бываем там обязательно. Остальные так – случайные люди. Затем – домой, в мои большие пустые комнаты с пятью окнами, выходящими на балкон. Я сплю на полу, в спальном мешке, ты устроишься на кровати. Утром, выпив кофе с коротышкой доктором и его крошкой женой, мы наймем экипаж и проведем чудесный день за городом».
Между прочим, эти «случайные люди» по секрету собирали каждую неделю по два доллара, которые Бронсон выплачивал Луису в виде жалованья как внештатному корреспонденту – дань обаянию Стивенсона и свидетельство доброты простых американцев.
Но все прелестные картинки, которые рисовал Стивенсон, описывая жизнь в Монтеррее, плюс его намек на то, что вскоре ему придется «нести еще более тяжелое бремя», не находили сочувствия и отклика в сердце Хенли, любившего Луиса эгоистической и пристрастной любовью. Его чувство было вполне искренним, но столь же искренними были эгоизм и пристрастное отношение. Хенли хотел, чтобы Луис находился рядом и писал вместе с ним их несуразные пьесы: будучи горячим сторонником имперской политики, он ненавидел Америку и, вероятно, даже на этом раннем этапе терпеть не мог Фэнни. Поэтому, когда Луис стал посылать в Англию свои новые вещи, сперва из Монтеррея, затем, после рождества 1879 года, из Сан-Франциско, Хенли убедил себя (и, по-видимому Колвина), что фактически все написанное Стивенсоном после того, как он отплыл из Клайда на борту «Девонии», – дрянь, и чем дальше, тем становится хуже. Хенли считал, что Луису следует немедленно покинуть Америку (очевидно, не дожидаясь брака с Фэнни), вернуться в «Сэвил» и сочинять пьесы, тогда душа его будет спасена еще при жизни. Очевидно, Хенли и Колвин сперва выражали свое неодобрение долгим молчанием, а затем в ответ на мольбы Луиса короткими, но опять же неодобрительными письмами. В то время, когда ему больше всего была нужна поддержка, они, говоря метафорически, выливали на него по почте ушаты холодной воды. На святках Стивенсон пишет Колвину, что в течение четырех дней ему не с кем было перемолвиться словом, кроме как с официантами в ресторане, и «должен признаться, мужество начало мне изменять». Он надеется, что «Эмигранта-любителя» удастся куда-нибудь пристроить, иначе, «видит бог, я умру здесь с голоду». В следующем письме к Хенли он умоляет: «Не обескураживай меня насчет моей работы… Ты же знаешь, что нищета у порога, а я был серьезно болен!»
Дальше в том же письме он сообщает: «У меня осталось всего восемьдесят долларов, а мне нужны деньги на два дома». Добросердечный Сэм умудрился потерять работу, и в то самое время, когда Луису дорог был каждый цент, ему пришлось посылать деньги Фэнни и Ллойду. Не успел он приободриться, узнав, что при посредстве Хенли журнал «Корнхилл» купил «Дом на дюнах», как пришло письмо от Колвина, где тот называл «Эмигранта» скучной книгой, что абсолютно не соответствует истине. Но какая у Стивенсона была сила духа! Хотя, судя по письму Колвина, рассчитывать на то, что «Эмигрант» принесет ему немного наличных денег, видимо, не приходилось, Роберт Луис тут же сел за работу и написал двенадцать страниц новой вещи – «Через прерии», о чем с вызовом сообщил Колвину, добавив:
«Только честно, Колвин, неужели вы думаете, стоит затрачивать столько эпитетов, столько возвышенного красноречия, чтобы обругать меня? Вы обрушили на меня такую массу многосложных слов, что лишили бы уверенности в себе и более мужественного человека. Все читают мне проповеди; это, конечно, полезно, но вряд ли это пища, нужная человеку, который живет один-одинешенек в чужой стране на сорок пять центов в день, а то и меньше, работает не покладая рук и терзается от грустных мыслей».
А в другом письме резюмирует: «Вы с Хенли оба считаете, что я пишу галиматью». Сейчас совершенно ясно, что Хенли, Колвин и даже Госс вступили в сговор, чтобы заставить Стивенсона вернуться, хотя Хенли вскоре оставил надежду разлучить его с Фэнни. Он не желал верить правдивым рассказам о болезни Стивенсона и его лишениях, в истинности которых не приходится сомневаться, хотя, возможно, Стивенсон немного сгустил краски, когда писал Бэкстеру: «Все последнее время погода стояла чудесная, но сегодня собачий холод, и я продрог до костей. Я собираюсь выйти, чтобы съесть свой грошовый обед, что, как все бедняки, совершаю в полдень, и выпить за ваше процветание». Луис знал, что делал, когда столь патетически взывал к его состраданию. Если отец и не читал сам писем к Бэкстеру, содержание их, как было прекрасно известно Луису, передавалось ему достаточно подробно. Роберт Луис написал Бэкстеру, что не может теперь тратить на еду более двадцати пяти центов в день, и просил продать его книги и выслать ему вырученные за них деньги. Одно из этих писем – неважно какое – принесло желаемый результат. Мистер Стивенсон смягчился и перевел сыну двадцать фунтов, которые из-за какой-то ошибки на почте не были ему вручены. А ведь только перед тем его пытались заманить домой телеграммами, сообщавшими о том, будто отец находится на смертном одре. Зачем только рассказывают историю о Джордже Вашингтоне и боевом топоре?! [82]82
Имеется в виду «анекдот» из канонизированной, хотя далекой от фактов, биографии Джорджа Вашингтона: шестилетний Вашингтон признался отцу в том, что порубил ствол его любимой вишни томагавком. Это признание преподносится как пример честности маленьким американцам.
[Закрыть]
Кстати, о топорах… В том же письме Колвину, где он писал, будто друзья считают его работу «галиматьей», Стивенсон дает отчет о своей жизни в Сан-Франциско, который должен был бы пристыдить это трио – Колвина, Хенли и Госса – за то, что они вмешиваются не в свое дело и пытаются при помощи всяких уловок «спасти» его, заставив вернуться в Англию. Он был написан всего через две недели после грустного рождества, проведенного им в одиночестве, так как Фэнни находилась в Окленде и никак не могла бросить детей и Сэма. Не забывайте, Луис только что был при смерти, и вскоре ему предстояла еще одна схватка с этим мрачным противником. Он испытывал лишения и нужду, и ему отнюдь не делалось легче от тех обескураживающих отзывов о его книгах, которые присылались ему из Англии. И, несмотря на все это, он пишет так весело и остроумно, словно действительно все обстоит прекрасно в этом лучшем из миров. Стоит внимательно прочитать отрывок из его письма, хотя он и длинен, так как благодаря ему перед нами предстает настоящий Стивенсон, его нетребовательность, чувство юмора, мужество и твердая, как кремень, решимость продолжать работу.
«Каждое утро между восемью и половиной десятого утра можно увидеть, как стройный джентльмен в длинном узком пальто, с засунутой за пазуху книгой выходит из дома № 608 по Буш-стрит и бодрым шагом спускается по Пауэлл-стрит. Джентльмен этот Р. Л. С, а книга имеет отношение к Бенджамену Франклину, о котором он собирается написать один из своих восхитительных очерков. Миновав Пауэлл-стрит, он пересекает рыночную площадь и вновь спускается, теперь по шестой авеню, не куда-нибудь, а в филиал кофейни на Пайн-стрит. Я полагаю, он не задумываясь пошел бы просто в кофейню на Пайн-стрит, если бы смог ее найти. В филиале он усаживается за столик, покрытый клеенкой, и раскормленный слуга, выходец из Силезии (по правде говоря, вышедший оттуда пока одной ногой), ставит перед ним чашку кофе и кладет булочку с катышком масла – все, бог свидетель, прекрасного качества. Еще недавно Р. Л. С. находил такое количество масла недостаточным, но теперь он довел точность до такого совершенства, что последняя частичка масла исчезает одновременно с последним куском булочки. За эту закуску он платит десять центов или пять пенсов полновесной английской монетой.