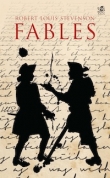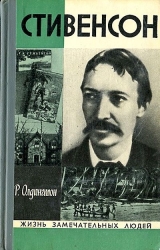
Текст книги "Стивенсон. Портрет бунтаря"
Автор книги: Ричард Олдингтон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
«…Благодарю вас от всего сердца. По правде сказать, с течением времени моя история стала развиваться сама по себе и совершенно вышла из-под моего контроля; ужасный конец, который вначале я уготовил сэру Оливеру, оказался невозможным, и, стыдно признаться, я начисто про него забыл.
Благодаря вам, сэр, он понесет заслуженную кару. Сегодня я посылаю вам оттиски сорок девятой, пятидесятой и пятьдесят первой страниц, а завтра или послезавтра, умертвив священника, отправлю все остальное».
Приключения юного Шелтона стремительно следуют одно за другим тем же случайным манером. На этот раз в книге есть героиня, Джоан Седли, но это «искупается» тем, что почти все время ее пребывания на сцене она замаскирована под мальчика, а затем лишь символически пребывает на заднем плане. Людям, занимающимся вопросами сбыта литературной продукции, было бы интересно выяснить, почему у «Острова сокровищ» и «Черной стрелы» такая абсолютно различная судьба. Конечно, в «Черной стреле» нет столь поразительного персонажа, как Джон Силвер (прототипом которого являлся, между прочим, Хенли), но образы головореза Лоулесса, словно сошедшего со страниц романов Вальтера Скотта, и юного Ричарда Глостера Горбатого поражают тем, с каким мастерством они вылеплены. Стивенсон, как обычно, не жалеет ни крови, ни веревок на шеи, и в книге есть такие потрясающие эпизоды, как встреча Дика и Мэтчема с сэром Даниэлем в обличье прокаженного или похищение, а затем плавание «Доброй надежды». Пожалуй, главная разница между книгами в том, что «Остров сокровищ» – это «фантазия» на языке пиратов и золотых дублонов, а «Черная стрела» – исторический роман (в котором частично использованы письма Пастонов [109]109
Частная переписка, дающая картину жизни Англии середины XV века.
[Закрыть]), а к тому времени исторический роман стал перерождаться в роман «декораций и костюмов», так как в его основе перестала лежать какая-либо идея. У Скотта была верность законному королю, у Кингсли [110]110
Кингсли, Чарлз (1819–1875) – английский священник и писатель.
[Закрыть]– борьба протестантов и католиков, а что хочет сказать Стивенсон в своей «Черной стреле»? Но, несмотря на это, многое, что ставилось в вину этой книге, неоправданно, и ее непопулярность проистекает вовсе не из приписываемых ей недостатков, а из того, что ни события, описываемые в ней, ни время, когда они происходили, не были известны или интересны среднему читателю. Непонятным остается другое – как люди, принимавшие участие в настоящих сражениях, все-таки с интересом читают поверхностное и дилетантское описание кровопролитных боев в романах Стивенсона.
«Принц Отто» разительно отличается от «Черной стрелы». Если бы он не был написан так же мастерски (существенное «если»), трудно было бы поверить, что книги принадлежат одному и тому же автору. Стивенсон работал над «Принцем Отто» с перерывами, начиная с 1879 года; тема романа была им заимствована из одной его ранней трагедии, а название менялось три раза, пока не приобрело настоящий вид. Действие происходит в вымышленном принципате древней Германии, смахивающем немного на Раританию. [111]111
Воображаемое королевство, где происходят события «Зендского пленника» – романа Энтони Хоупа.
[Закрыть]«Принц Отто» имеет тот же порок, что и «Черная стрела», – это не серьезный исторический роман и не вымысел, а и то и другое вместе, чем, вероятно, и объясняется ее непопулярность. Хенли предупреждал автора, что «Принц Отто» не завоюет ему новых читателей, Мередит же, напротив, горячо хвалил книгу, и вовсе не потому, что она была написана в его манере; он увидел, сколько внимания автор уделил композиции романа и его стилю. Эдмунд Госс, вторя критику из «Сэтердей ревыо», протестовал против «ложного стиля» в сцене побега Серафины, считая ее «нарочитой и чудовищной жертвой, принесенной на алтарь Мередита». И действительно, в главе «Принцесса Синдерелла» Стивенсон как бы стремится соперничать с мередитовскими стихами в прозе, такими, например, как главы из «Испытания Ричарда Февереля», где описывается встреча Ричарда и Люси. К сожалению, слабые познания Стивенсона в естественных науках приводят к появлению комических ноток в высоком стиле, что встречается в самых отделанных и прочувствованных периодах книги, как например:
«…в маленьких бесформенных домиках под кровом огромных ветвей, где они спали всю ночь, – возлюбленная с возлюбленным, – тесно прижавшись друг к другу, начали просыпаться ясноглазые, любвеобильные певцы…»
К счастью, лишь немногие рассказы из «Динамитчика» (или второй серии «Новых сказок Шехеразады») можно вменить в вину Луису. Показания современников, как обычно, расходятся: одни говорят, будто все рассказы придумала Фэнни, развлекавшая ими мужа во время его болезни в Йере, другие – что она написала только два из них. Каков бы ни был ее вклад, по всей видимости, Стивенсон их переделал или по меньшей мере придал им «стиль».
Возможно, это и преждевременно, но мне хотелось бы сказать здесь несколько слов о сотрудничестве Стивенсона с женой и пасынком. Если бы мы не знали, что Стивенсон не всегда безоговорочно подчинялся мнению Фэнни, ее претензия на всеведение и право критиковать, изменять и даже налагать вето на работу мужа вызывала бы в нас еще большее беспокойство и возмущение. Один из ее соотечественников определил рассказы Фэнни в «Динамитчике» словами: «На редкость вульгарно». Вопрос о том, полезно или вредно было ее влияние на Стивенсона, можно обсуждать бесконечно. Он ведет к другому вопросу: какую цель ставил сам Стивенсон – стать настоящим художником или добиться популярности и материального успеха? Фэнни была бессильна способствовать достижению первого, более высокого идеала, но для достижения второго она сделала очень много. Недостатком Стивенсона, мешающим ему стать популярным писателем, была излишняя литературность, тоска по эстетизму его юных лет, что мы наглядно увидели в приведенном только что отрывке из «Принцессы Синдереллы». Он мечтал о биографических и исторических трудах, задумал жизнеописание Веллингтона, не взяв на себя труда взглянуть на великолепную серию его «Писем с театра военных действий», и даже на Тихом океане весьма тревожил Фэнни стремлением писать историю Океании вместо пользовавшихся широким спросом путевых заметок и рассказов. Она победила и, в общем, была права.
«Детский цветник стихов»! Вот еще одно свидетельство разносторонности дарования Стивенсона… Конечно, можно припомнить Вольтера, но он никогда не писал в стихах о своем детстве, в XVIII веке это сочли бы неприличным. Еще и сейчас есть люди, которые считают, что «следует с подозрением» относиться к тем, кто хорошо пишет о поре детства. В чем мы должны их подозревать – неизвестно, возможно, в симпатии и сочувствии к человеку. Так или иначе Стивенсон, несомненно, заслуживает всех подозрений, так как действительно хорошопишет о детстве. Но делать это можно по-разному. А. А. Милн, например, писал так, что это нравилось как детям, так и их родителям. Стивенсон, подобно Анатолю Франсу в «Маленьком Пьере», рассказывает о своих детских годах не для детей, а для взрослых, но в то время как Анатоль Франс вспоминает о малыше, каким он был когда-то, с отстраненностью и иронией взрослого человека, Стивенсон пытается вновь пережить те дни и писать так, как, по его мнению, стал бы писать стихи ребенок. В этом неизбежно есть что-то искусственное. Стихи маленьких детей всегда беспомощны и нелогичны и трогают нас, пожалуй, лишь своей наивностью. Какой, даже самый одаренный, ребенок мог бы совладать с таким, например, стихотворением:
Только ребенок, читавший Мильтона и Блейка, хотя и не знающий, что фламинго не питаются рыбой. Очарование этого, как и всех прочих стихотворений в «Детском цветнике стихов», в его нарочитой, утонченной простоте; в нем чувствуется рука мастера, тронувшая детский рисунок. Пожалуй, именно по этой причине детям стихи Стивенсона нравятся меньше, чем стихи Милна или Кэррола. С другой стороны, мы видим здесь художественное мастерство на грани фокуса, ведь этот сборник сугубо личных стихотворений пережил войну, политические перевороты и все капризы и причуды литературной моды.
«Доктор Джекил», о котором мы уже говорили, вышел из печати в январе 1886 года, а в мае – июле того же года в «Янг фолке» стал печататься новый роман Стивенсона – «Похищенный», изданный в июле отдельной книжкой. На этот раз Стивенсон проявил большую интуицию, чем при создании «Черной стрелы», и куда ближе подошел к успешному компромиссу между романом с продолжением для детского журнала и исторической хроникой, между коммерческой книгой и настоящим искусством. Время действия – 1751 год – было достаточно близко к восстанию якобитов, чтобы казаться знакомым для всех еще многочисленных читателей Вальтера Скотта. Местом действия Стивенсон избрал Шотландию и моря, омывающие ее берега, героями – шотландцев, так что писал он о том, что действительно знал. Роберт Луис сам, правда, не с начала до конца, проплыл мимо тех же неприютных берегов, что и герой романа Дэвид Бэлфур, посетил остров Иррейд, где тот потерпел кораблекрушение, и бывал в тех местах, где Дэвид странствовал с Аланом Бреком и испытал все свои злоключения. Письма Стивенсона из Борнмута отцу и одному из двоюродных братьев – Дэвиду показывают, как скрупулезно писатель выверял топографические детали для того, чтобы достоверней изобразить странствования своего героя на суше и на море. Однако, как и всегда, он довольно небрежно отнесся к другим деталям, во всяком случае, не так страстно стремился к правдоподобию, когда в его интересах было им пренебречь. Я не думаю, чтобы даже по шотландским законам середины XVIII века насильственное похищение человека с целью продать его в рабство и лишить наследства могло считаться чем-либо иным, кроме уголовного преступления, однако Стивенсон показывает нам, как ловкий адвокат-шотландец со спокойной душой отказывается за деньги от судебного преследования преступника, чтобы помочь автору привести повествование к успешному концу. Но поскольку до сих пор никто не подверг это сомнению, я, должно быть, не прав.
Даже убежденный противник Стивенсона – если таковые вообще существуют – не может не восхищаться скромностью и выдержкой этого талантливого писателя, благодаря которым, работая для таких низкопробных изданий, как «Янг фолке», он использовал их не только для того, чтобы заработать немного денег, но и для дальнейшего оттачивания своего мастерства. «Остров сокровищ» был озарением гения, но не отвечал требованиям романа с продолжением; «Черная стрела» была хороша для юношеского журнала, при всех своих достоинствах в виде отдельной книги успеха не имела; «Похищенный», которого Стивенсон начал писать только ради денег, без всякого интереса, вдруг ожил и оказался хорош как для журнала, так и в виде отдельной книги. В нем сильно чувствуется влияние Скотта, еще сильнее – Дефо, но, заимствовав многое у своих предшественников, Стивенсон написал при этом вполне оригинальную книгу. Когда она вышла всего полгода спустя после «Доктора Джекила», ее ожидал очень хороший прием, и она, бесспорно, увеличила славу автора, особенно в Соединенных Штатах. Удивительно не это, а удивительно то, что он все еще получал жалкие гроши – за тысячу слов романа с продолжением ему платили в журнале всего тридцать шиллингов.
Оставим «Подлесок», «Воспоминания и портреты» и «Воспоминания о профессоре Дженкине» для дальнейшего разбора и скажем все же несколько слов о двух рассказах, опубликованных в 1885 году. И тот и другой относятся к категории рассказов «ужасов». В многочисленных вариантах воспоминаний о том, как Фэнни заставила Луиса переписать заново «Доктора Джекила и мистера Хайда» и сделать из него аллегорию, неизменно говорится, что она приводила в пример «Маркхейма» в качестве истории без всякого подтекста, а ведь «Маркхейм» тоже в своем, пусть более зашифрованном, роде аллегория – аллегория о пробуждающейся совести. Незнакомец, так неожиданно возникший на месте преступления, не кто иной, как «дьявол» – он же Иисус, – и аллегорически показывает борьбу «добра» и «зла» в душе Маркхейма. Как это нередко бывает при чтении моралистических произведений, читателя немного смущает, что кто-то обязательно должен быть зверски убит для того, чтобы грешник смог затем раскаяться в убийстве. И вряд ли Стивенсон подумал, что, вернувшись после рождественской прогулки и встретив в дверях незнакомца, сказавшего «с подобием улыбки на губах»: «Сходите за полицией, я убил вашего хозяина» (последняя фраза рассказа), служанка обязательно должна завизжать и упасть в обморок, – это отнюдь не та «нота», на которой автор хочет нас покинуть. К тому же, хоть это и мелочь, Стивенсон тогда еще не усвоил, что излишняя тщательность в отделке предложения может принести ему вред и что стремление любой ценой избежать банальностей хуже, чем банальность. Многократно приводилась цитата из «Маркхейма», где, желая сказать, что тот отнял жизнь у старика так, как часовщик останавливает часы, Стивенсон пишет:
«А теперь благодаря его поступку этот маятник жизни остановлен, подобно тому как часовых дел мастер, сунув палец в механизм, останавливает ход часов».
«Олалла» претендует на большее. Так же как было с «Доктором Джекилом», если не весь замысел вещи, то, во всяком случае, центральную часть сюжета – «внутренний дворик, мать, комнату матери, Олаллу, комнату Олаллы, встречу на лестнице, разбитое окно, безобразную сцену с укусом». – подсказали Луису во сне пресловутые «человечки». Можно установить, хотя бы частично, происхождение этого сна. Работа Луиса над жизнеописанием Веллингтона могла навести его на мысль об Испании периода войны в Пиренеях – в качестве места и времени действия; эпизод, где Фелип мучает белку, идет, как говорят, от «Странной истории» Булвера-Литтона, а в трагической судьбе семьи героини чувствуется влияние бальзаковского «Палача». Садизм Фелипа, если расшифровать все намеки, должно быть, тот же «вампиризм» его матери. Олалла, в которой ничего подобного нет, является жертвой фамильного проклятья и, боясь передать его своим детям, не позволяет любви к пришельцу-англичанину завести ее слишком далеко. Для многих читателей вся история чересчур романтична и образна, и, не вдумавшись в нее, они говорят, что она неудачна. Конечно, она неудачна, но неудача эта выше многих чужих удач. Слабее всего конец. Стивенсон явно не знал, что делать с приснившейся ему ситуацией, а для Фэнни уровень рассказа был слишком высок. Пожалуй, самым естественным и правильным было бы, если бы Олалла убежала от матери и всех связанных с ней ужасов и испытала бы беспредельное счастье в браке с англичанином, а затем еще более беспредельное отчаяние при виде того, как страшный наследственный недуг возродился в их единственном ребенке… но читатели ни за что бы этого не перенесли, и Фэнни, несомненно, наложила бы свое вето. Если бы Стивенсон оставил рассказ на время и снова пересмотрел его, он, безусловно, нашел бы другой, более драматический финал.
Конечно, далеко не все произведения, о которых мы сейчас говорили, были созданы в «борнмутский период»; «Принц Отто», к примеру, за исключением двух последних глав, был написан еще в Йере. И, понятно, в Борнмуте Стивенсон работал и над другими книгами и задумал многое из написанного потом, но это лишь усиливает наше восхищение его трудолюбием и многосторонностью. Талант его имел много граней, и писатель щедро оделял читателей их сиянием. Не его вина, если современники предпочитали те из них, которые сверкали менее естественным блеском. Чтобы выяснить, какие из этих граней лучше, какие хуже, нужно время, и опять же не его вина, если критики до сих пор склонны измерять литературные достоинства книги количеством проданных экземпляров. С другой стороны, восхищаясь тем, как много написал Стивенсон, не следует смотреть на него как на «поденщика пера» вроде Бальзака и даже Скотта, хотя Скотт при всей своей баснословной плодовитости сумел прожить очень насыщенную жизнь. Возможно, временами Стивенсон работал сверх меры, как это неизбежно происходит с писателями, но в целом он, судя по всему, вел себя вполне разумно, подчинялся всем ограничениям и вынужденному отдыху, которые предписывали врачи, и вкушал те радости, которые были ему по силам. Если он так много написал, это объяснялось главным образом тем, что у больного, месяцами прикованного к дому, есть достаточный досуг. Может быть, в Борнмуте Фэнни и правда заразила его своей мнительностью, но ведь она была рядом с ним и на Самоа, в самый деятельный период его жизни. Вероятно, во время бесконечных безмолвных часов в постели бывали минуты, когда этот жизнерадостный человек остро ощущал мрачную иронию своей «судьбы», предначертавшей певцу оптимизма, вольных дорог и приключений стать узником четырех стен (и где? – в Борнмуте!), который даже не в силах спеть: «Ио-хо-хо и бутылка молока!» Но какую бы роль мы ни отводили «судьбе» и влиянию тех, кто окружал Стивенсона, лишь собственный неукротимый дух спас его от «матрацной могилы» Гейне. А ведь немногие поездки, на которые решался Луис, почти всегда кончались горловым кровотечением.
Как ни преданно и, пожалуй, даже деспотически ни защищала Фэнни мужа от опасностей внешнего мира, жизнь все же наносила ему удары, которые даже ей не удавалось отражать. 12 июня 1885 года умер Флеминг Дженкин. Смерть его потрясла Стивенсона почти так же, как смерть Уолтера Ферриера, и вместо памятника он задумал и затем написал биографию Дженкина. В письме Колвину из Гонолулу, датированном мартом 1889 года, Стивенсон говорит:
«Дорогой Колвин, вам и Флемингу Дженкину, двум людям старше меня по возрасту, которые взяли на себя обузу сделаться моими друзьями, я обязан всем, что я знаю, и тем, что я есть».
Это высокая похвала, но щедрость натуры Стивенсона проявлялась, в частности, и в том, что он публично, как минимум в посвящении, признавал свои обязательства перед людьми. Некоторые, вероятно, считают – и, возможно, среди них был и Стивенсон, – что Камми во многом вела себя неразумно по отношению к нему и даже причиняла ему вред, но сила и искренность ее любви были бесспорны, и Стивенсон помнил только об этом, когда писал Камми письма и посвятил ей «Детский цветник стихов». Так же точно подошел он к жизнеописанию эдинбургского профессора, преподававшего ему инженерное дело. Принципы отбора материала недвусмысленно выражены в следующей фразе из биографии Флеминга Дженкина:
«Как раз накануне того дня, когда я получил от него это неприятное (для меня) письмо, он написал мисс Белл из Манчестера в куда более любезном тоне; я не буду приводить первого из писем, я приведу второе – надо быть беспристрастным».
Беспристрастие биографа, однако, заключается в том, что он констатирует факты без предвзятости, без «за» или «против», избегая suppressio veri (утаивать правду) в той же степени, как и suggestio falsi (нагромождать ложь). [113]113
Из «Наставлений оратору» Квинтилиана.
[Закрыть]Таков идеал, которого никто не достигает, и «Воспоминания о профессоре Дженкине» подтверждают то, чего можно было ожидать после вышеприведенного откровенного признания Стивенсона: если перед нами и не прямой панегирик, то, во всяком случае, типичная «официальная» биография со всем, что из этого следует. Мог ли Стивенсон поступить иначе? Миссис Дженкин со свойственной ей эмоциональностью рассказывает нам в своем дневнике о том, как Стивенсон записывал ее воспоминания, располагал записи в определенной очередности и при следующей встрече читал их ей, беспрестанно делая поправки, чтобы донести ее мысль без искажений. Конечно, как опытный писатель и «пожизненный» стилист, Стивенсон знал – каждый может что-то сказать; трудность в том, чтобы, во-первых, точно представлять себе, что именно, а во-вторых, точно выразить свою мысль, лишив читателя возможности неправильно ее понять. Это тоже идеал, но одним из великих достоинств Стивенсона литератора является его стремление к идеалу. В данном случае, однако, он изменил своим принципам, так как не в силах был огорчить оплакивающую мужа вдову, и не обнародовал материалы, бросающие хоть малейшую тень на безупречный образ главного героя «Воспоминаний».
Взявшись за биографию Дженкина (опубликованную лишь в январе 1888 года), Стивенсон еще раз продемонстрировал свою многосторонность. «Воспоминания о Флеминге Дженкине», как правило, обходились молчанием, а если оценивались, то весьма разноречиво. Они не прибавили Стивенсону популярности и легли на его литературную репутацию просто мертвым грузом. При всем том в своем жанре «Воспоминания» имеют значительные достоинства. В те времена биографии представляли собой череду страниц, заполненных совершенно сырым материалом вроде цитат из писем, почти не связанных между собой. Стивенсон был писателем-профессионалом и просто не мог произвести на свет одну из подобных сумбурных викторианских книг, но, хотя отбирал он хорошо, соединял куда хуже. Однако главный недостаток книги кроется не в методах автора – тут мнения расходятся, и многим читателям его методы, возможно, по вкусу, – а в том неизбежном факте, что даже блестящее перо Стивенсона не может сделать профессора Дженкина интересным для людей другой эпохи, которые никогда и не услышали бы о нем, если бы он не был другом своего биографа. Стивенсон делает все, что в его силах; особенно он хорош в отдельных деталях и штрихах, например, когда пишет о родителях Дженкина, которые «привыкли к революциям», путешествуя по континенту в 1848 году. Но о прокладке кабеля по дну океана он рассказывает устами самого Дженкина, и это куда менее интересно, чем записи Роберта Стивенсона о постройке маяка. А говоря о собственном знакомстве с профессором, Стивенсон весьма приблизительно воссоздает его образ, ограничиваясь оценкой своего героя. Прочитав «Воспоминания», мы с недоумением думаем о человеке, в котором сочетались «греческий софист и английский школьник». Наш мысленный взор с испугом останавливается на этой сомнительной лепте в паноптикум чудищ, на этом монстре, рядом с которым даже Химера не вызывает удивления. «Искусство повествования, – справедливо говорит Стивенсон, – по сути дела, одно и то же, применяем ли мы его для показа действительных событий или вымышленных сцен»; но никакое искусство, думается мне, не способно создать гибрид английского школьника с греческим софистом.
Я взял вышеприведенные слова из «Скромного возражения», написанного в Борнмуте в ответ на литературную полемику между Генри Джеймсом и Уолтером Безантом. [114]114
Безант Уолтер (1836–1901) – популярный английский беллетрист, автор исторических произведений.
[Закрыть]Некоторые из высказываний Стивенсона в этом очерке гораздо больше говорят нам о нем самом, чем об искусстве беллетристики или о детской психологии. В статье об «Острове сокровищ» Джеймс иронически писал, что не может критиковать эту книгу, ибо, хотя и был в свое время ребенком, никогда не занимался поисками сокровищ. Стивенсон резко возражает ему:
«Не было еще на свете ребенка (если не считать юного Генри Джеймса), который бы не охотился за золотом, не был бы пиратом, военным офицером, бандитом в горах, который бы не сражался, не терпел кораблекрушения, не попадал в тюрьму, не обагрял бы ручонок кровью, не отыгрывался бы доблестно за проигранную битву, не защищал бы победоносно невинность и красоту».
Хотя утверждение это полностью соответствует истине, когда речь идет о юном Лу Стивенсоне, этого никак нельзя сказать обо всех прочих детях, во всяком случае, о тех, которые находятся под присмотром людей со здравыми суждениями о вещах и с хорошим литературным вкусом. У маленького Генри Джеймса – и тысяч других детей – не было отца, который наслаждался, рассказывая себе на сон грядущий кровопролитные истории, и няни, которая разрешала ему упиваться грошовыми романами «ужасов» и развивала его младенческий ум милыми историями о привидениях, покойниках, похитителях трупов, кровавых пытках, мучениках и тому подобном. Стивенсон воображает, будто исключительные (и достойные порицания) обстоятельства, при которых прошло его детство, типичны, – абсолютно беспочвенное предположение. Без сомнения, то, что говорит Стивенсон, справедливо по отношению к детям, которых так же плохо воспитывали, как его самого, но столь же бесспорно, что Джеймс был прав, и утверждение Роберта Луиса отнюдь не справедливо по отношению к большинству детей из среднего сословия Англии и Америки. Стивенсон вновь говорит только о себе, когда делает такое сомнительное обобщение:
«…Мне кажется, в большинстве случаев художник живее, ярче и убедительнее пишет о поступках, которые ему хотелось бы совершить, чем о тех, которые он совершил».
Этот очерк, где Стивенсон защищает свои литературные взгляды и методы, был включен в сборник «Воспоминания и портреты», который так же, как «Веселые молодцы» и «Подлесок», вышел отдельной книгой в 1887 году.
В том же году на Стивенсона обрушилась еще одна смерть. В течение последних лет связь его отца с жизнью делалась все менее прочной, и по мере того, как его оставляли физические силы, ему стал изменять и рассудок. Приступы раздражительности вроде того «хайдовского настроения», окотором Стивенсон упоминал в письме к матери, чередовались с периодами трогательной мягкости, даже покорности. Временами Томас Стивенсон вел себя так, словно он – сын, а Роберт Луис – отец, а затем, не выходя из этого второго детства, Томас Стивенсон начинал обращаться с Луисом так, будто и тот вновь стал ребенком, – волновался, как бы Луис не упал, встав на сиденье стула, и утешал поцелуем на ночь и словами: «Мы увидимся утром, мой мальчик». После мучительных лет жгучей вражды между отцом и сыном такие трогательные сцены ранили Роберта Луиса в самое сердце. Было ужасно сознавать, что они всю жизнь причиняли друг другу боль именно потому, что искренне друг друга любили. В свои юные годы Роберт Луис слишком много уделял внимания женщинам и поэтому не мог целиком отдать себя одной из них и лучшее в себе оставлял для мужчин. Его отношения с Фэнни показывают, что их содружество, как справедливо замечает мистер Фернес, [115]115
Фернес, Джозеф – автор биографии Стивенсона «Плавание против ветра».
[Закрыть]больше походило на симбиоз, чем на брак; и по временам нам кажется, будто Ллойда он любил больше, чем Фэнни. Я даже сомневаюсь в том, что Камми и мать значили для этого довольно женственного человека столько же, сколько отец и Хенли, на которого он перенес часть сыновней любви, когда фанатичный старик выгнал его из отчего дома без гроша в кармане, а Хенли приютил беглеца и ухаживал за ним во время болезни.
В апреле 1887 года родители гостили у Стивенсона в Борнмуте, но по злой иронии судьбы сын был слишком болен, чтобы уделять время отцу, хотя тот находился в еще более тяжелом состоянии. Как это часто бывает с умирающими, Томас Стивенсон страстно стремился вернуться домой, и 21 апреля его перевезли в Эдинбург в специальном санитарном вагоне. 7 мая Луис и Фэнни были вызваны телеграммой в Шотландию, и на следующий день Томас Стивенсон умер, до последней минуты держась «на ногах», но рассудок его был так замутнен, что он не узнал родного сына. Это потрясло бы всякого, не только такого эгоцентриста, как Роберт Луис, который всю жизнь считал само собой разумеющимся, что, как бы хорошо или плохо о нем ни думали ини говорили другие, в сердце и мыслях отца ему принадлежит главное место. Писатель пришел в ужас от происшедшей перемены.
«Если бы мы могли удержать на земле моего отца, тогда другое дело. Но отца больше нет, а удерживать дольше того, кого дали взамен злые эльфы, и смотреть, как он страдает, – лучше уж не иметь никого и ничего. Теперь отец успокоился…»
Это отрывок из письма Колвину; дальше в этом же письме мы читаем:
«Моя любимая сцена – смерть Лира, и Кент с его репликой: «Не мучь. Оставь в покое дух его. Пусть он отходит» – была разыграна передо мной в первые минуты после приезда. Мне кажется, Шекспир описал смерть собственного отца. Я не мог вымолвить ни слова, но видеть это было ужасно».
Роберт Луис заболел и был не в состоянии проводить отца на кладбище, хотя принимал всех, кто являлся на Хериот-роуд, чтобы участвовать в похоронах. Прежде чем «Воспоминания и портреты» попали в печатный станок, Стивенсон добавил туда очерк об отце, написанный отчасти в стиле Лэма, где можно найти следующие строки:
«Он был человеком старинного склада; в нем слились воедино строгость и мягкость – типично шотландская черта, ставящая вас при первом знакомстве в тупик; глубоко меланхоличный по своей сути характер сочетался (как это часто бывает) с веселостью и общительностью в компании; проницательный и ребячливый, страстно любящий, страстно ненавидящий – это был человек крайностей с нелегким нравом и неустойчивым темпераментом, не очень-то твердо стоявший на ногах среди треволнений нашей жизни. При всем том он был мудрый советчик – многие люди, сами весьма неглупые, постоянно обращались к его разуму».
В таком торжественном реквиеме было бы неуместно приводить следующий поразительный пример необоримого пессимизма его отца. Как-то раз у мистера Стивенсона разлилась желчь, его мучила бессонница, и он держал жену у своей постели, чтобы она разделила с ним его страдания. Наконец они оба уснули, к ее несказанному облегчению, надо думать; но очень скоро она была разбужена следующим ужасным сообщением: «Дорогая, конец, я лишился дара речи».