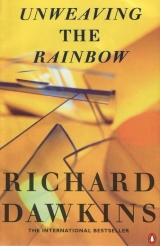
Текст книги "Расплетая радугу: наука, заблуждения и тяга к чудесам"
Автор книги: Ричард Докинз
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Было предпринято много попыток проиллюстрировать это, я предлагаю еще одну. Давайте запишем историю года на одном листе бумаги. Для подробностей тут места маловато. Это примерный эквивалент предновогоднего газетного обзора важнейших событий за год. Каждый месяц занимает примерно пару предложений. А на другом листе запишем историю предыдущего года. И вот так на каждый год по странице, с кратким описанием важнейших событий. Сошьем эти страницы в книгу. «История упадка и разрушения Римской империи» Гиббона охватывает период примерно в 13 веков, она содержит 6 томов по 500 страниц каждый. так что она написана примерно в тех пропорциях о которых мы говорим.
Еще одна чертова толстая амбарная книга!
Всё строчат и строчат и строчат! Как там его? Мистер Гиббон?
Уильям Генри, герцог Глочестерский (1829)
Роскошный том Оксфордского Словаря цитат(1992), из которого я только что привел это высказывание, сам по себе «толстенный и увесистый кирпич», и его размера как раз хватило бы, чтобы привести нас во времена королевы Елизаветы I. У нас есть приблизительное мерило времени, 4 дюйма, или 10 см толщи книги для истории одного тысячелетия. Определив наше мерило, давайте отправимся в чуждый мир далёкого времени Кладём книгу ближайшего прошлого на землю, затем складываем поверх неё книги прошлых веков. Мы стоим около этого столба из книг как живая мерка. Если мы хотим почитать про Иисуса, мы должны выбрать том в 20 см от земли, чуть выше лодыжки.
Известный археолог откопал воина бронзового века с прекрасно сохранившимся шлемом, и радостно воскликнул: «Я взглянул в лицо Агамемнона». Он испытывал поэтическое благоговение перед своим проникновением в сказочную античность. Чтобы найти Агамемнона в нашем книжном столбе, вам надо пригнуться на уровень половины голени. Где-то поблизости, вы сможете отыскать Петра («Красно-розовый город – лишь вдвое младше самого времени»)(John William Burgon «Petra»), Озимандию, короля королей («Взгляните на мои великие деянья, Владыки всех времен, всех стран и всех морей»)(P. Shelley, «Ozymandias») и то загадочное чудо древнего мира – Висячие Сады Семирамиды. Дни Ура Халдейского и Урука, города легендарного героя Гильгаме́ша, были немного ранее, и вы найдёте историю их основания чуть выше своих ног. Где-то поблизости старейшая дата всего, согласно архиепископу 17го века Джеймсу Ушеру, который вычислил 4004 год до нашей эры, как дату сотворения Адама и Евы.
Приручение огня было переломным моментом в нашей истории, от которого произрастает большинство технологий. Как высоко в нашей стопке книг находится страница с записью об этом эпическом открытии? Ответ удивителен, если вспомните, что вы смогли бы удобно усесться на кипе книг, охватывающих всю записанную историю. Археологические находки показывают, что огонь был открыт нашими предками Homo erectus, хотя мы не знаем, был ли огонь добыт, или его просто переносили и использовали.
У них был огонь около полумиллиона лет назад, в нашей аналогии, чтобы прочесть книгу с записью об этом открытии, вам пришлось бы взобраться на уровень несколько выше, чем Статуя Свободы (высота Статуи Свободы с пьедесталом – 93 метра – прим. пер.) Головокружительная высота, особенно, если учесть что первое упоминание о Прометее, легендарном носителе огня, находится ниже ваших колен в стопке книг. Чтобы почитать про Люси и наших предков австралопитеков, вам потребуется взобраться выше любого здания в Чикаго. Биография общего для нас с шимпанзе предка, была бы записана в книге помещённой на вдвое большей высоте.
Но мы только начали свой путь назад к трилобиту. Какой должна быть стопка книг, чтобы вместить страничку, где поверхностно воспета жизнь и смерть этого трилобита в неглубоком Кембрийском море? Ответ – около 56 километров или 35 миль. Мы не имеем дел с такими высотами. Вершина горы Эверест менее 9 км над уровнем моря. Мы можем получить некоторое представление о возрасте трилобита, если опрокинем стопку на 90 градусов. Представьте книжную полку в три раза длиннее острова Манхеттен, уставленную томами размером с «разрушение и упадок» Гиббона. Прочитать весь путь к трилобиту, с одной только страничкой на каждый год, будет труднее чем выверить все 14 миллионов томов Библиотеки Конгресса. Но даже трилобит молод, в сравнению с жизнью как таковой. О древней химической жизни первых живых существ, общих предков для трилобитов, бактерий и нас, записано в первом томе нашей саги. Первый том находится в конце марафонской полки. Вся полка растянулась бы от Лондона до Шотландских границ. Или через всю Грецию от Адриатического до Эгейского моря.
Возможно, такие расстояния всё ещё ненатуральны. Искусство мышления аналогиями в больших числах – это не выходить за рамки масштабов, которые люди могут понимать. Если мы выходим за эти рамки, нам не будет лучше с аналогией, чем с реальной вещью. Прочесть историю на полке книг, растянувшейся от Рима до Венеции – невообразимая задача, такая же невообразимая, как представить 4 миллиарда лет.
Вот другая аналогия, использованная ранее. Раскиньте вширь руки в широком жесте, чтобы вместить всю эволюцию от начала у кончиков пальцев вашей левой руки, до сегодняшних дней – у правой. На всём пути, проходящем через середину и дальше правого плеча, жизнь состояла только из бактерий. многоклеточная беспозвоночная жизнь расцвела где-то около вашего правого локтя. Динозавры берут начало в середине вашей правой ладони, и вымирают в районе последней фаланги пальца. Вся история Homo Sapiens и нашего предка Homo Erectus умещается на кончике ногтя. Что же касается записанной истории, как шумеров, вавилонян, еврейских патриархов, династий фараонов, римских легионов, христианских отцов, неизменные законы мидян и персов; как Трои и греков, Елены и Ахиллеса и смерть Агамемнона; как Наполеона и Гитлера, Битлз и Билла Клинтона, их и всё что нам известно – сдуваются в виде пылинки от лёгкого прикосновения пилочки для ногтей.
Бедных быстро забывают. Они превосходят числом живых, но где же их кости? На каждого живого человека приходится миллион умерших. Может их прах незаметно покрывает землю?
Тогда было бы не вздохнуть воздуха, такой толстый был бы слой. Не было бы места ни ветрам дуть, ни дождю идти; Земля была бы облаком праха, усыпана костями. Не было бы места даже для наших скелетов.
Сэйкеверелл Ситуэлл, «Гробница Агамемнона» (1933)(1972 – прим. пер.)
Не то, чтобы это было важно, но Ситуэлл неточен в третьей строке. По оценкам, количество живущих сегодня людей составляет значительный процент от всей людей, которые когда-либо жили. Но это всего лишь отражает степень экспоненциального роста. Если же мы посчитаем поколения вместо тел, а особенно, если мы отправимся назад за род человеческий, к началу жизни, мнение Сэйкеверелла Ситуэлла обретёт новую силу. Давайте представим, что каждая особь среди наших предков по женской линии, начиная с первых многоклеточных, живших немногим более полумиллиарда лет назад, ложится и умирает на могиле своей матери, дабы в конечном счёте обратиться в ископаемое. Как в последовательных слоях сожжённого города Трои, должно быть сильное давление и осадка, так что примем, что каждое ископаемое в последовательности было расплюснуто в блин толщиной 1 сантиметр. Какой глубины нужна скала, чтобы вместить нашу последовательную историю ископаемых? Ответ – скала должна быть толщиной около 1000 км, или 600 миль. Это примерно в десять раз толще земной коры.
Гранд-Каньон, чьи скалы от глубочайших до мелких, охватывающие большую часть периода, о котором мы говорили выше, всего лишь около мили в глубину. Если бы пласты Великого Каньона были нафаршированы окаменелостями, и внутри не было бы скал, в его глубине было бы место, чтобы вместить лишь около 1/600 последовательно умерших поколений. Эти вычисления помогают нам соизмерить требования фундаменталистов в отношении «непрерывной» серии постепенно изменяющихся окаменелостей, прежде чем они признают факт эволюции. В земных породах просто нет места для такой роскоши – нет на много порядков величины. Каким бы ни было ваше мнение об этом, лишь чрезвычайно малой доле существ посчастливилось превратиться в окаменелость. Как я сказал ранее, я счел бы это за честь.
Число мертвых давно превышает всех, кто должен жить. Ночь времен намного превосходит день, и кто знает, когда было равноденствие? Каждый час добавляет к этому текущий счет, который едва вынес одно мгновенье…
Кто скажет, о лучших ли сохранилась память? Кто – если забыты самые славные мужи, что когда-то были в центре событий?
Сэр ТОМАС БРАУН, «Погребальная урна» (1658).
2. ГОСТИНАЯ ГЕРЦОГОВ
Можно размолоть их души в той же мельнице,
Можно связать их, ей-богу;
Но поэт все же будет следовать за радугой.
А его брат будет следовать за плугом.
ДЖОН БОЙЛ О'РЕЙЛИ (1844-90) «Сокровище Радуги»
Прорываться сквозь усыпляющую обыденность – это то, что поэты делают лучше всего. Это их занятие. Но поэты, слишком многие из них и слишком долго, не замечали источник вдохновения, предлагаемый наукой. У.Х.Оден, лидер своего поколения поэтов, лестно симпатизировал ученым, но даже он выделял их практическую сторону, сравнивая ученых, к своему достоинству, с политиками, но упуская поэтические возможности самой науки.
Настоящие люди дела в наше время, кто преобразует мир это не политические и государственные деятели, а ученые. К сожалению, поэзия не может их воспеть, потому что их дела связаны с вещами, а не с людьми, и поэтому безмолвны. Когда я оказываюсь в компании ученых, я чувствую себя подобно бедному викарию, который забрел по ошибке в гостиную, полную герцогов.
Рука красильщика, «Поэт и город» (1963).
Как ни странно, так, в значительной степени, я и многие другие ученые чувствуем себя в компании поэтов. Действительно – и я возвращусь к этому вопросу – это, вероятно, нормальная культурная оценка относительных позиций ученых и поэтов, и поэтому, возможно, Оден потрудился сказать обратное. Но почему он был настолько недвусмысленен, что поэзия не может воспеть ученых и их дела? Ученые могут преобразовать мир более эффективно, чем политические и государственные деятели, но это не все, что они делают, и, конечно, не все, что они могли бы сделать. Ученые преобразуют способ, которым мы размышляем о большей вселенной. Они помогают воображению отправиться назад к горячему рождению времени и вперед к вечному холоду, или, по словам Китса, «прыгнуть прямо навстречу галактике». Разве безмолвная вселенная не достойная тема? Почему поэт воспевает только людей, а не медленную работу сил природы, которые их создали? Дарвин мужественно пытался, но таланты Дарвина не в поэзии:
Любопытно созерцать густо заросший берег, покрытый многочисленными, разнообразными растениями с поющими в кустах птицами, порхающими вокруг насекомыми, ползающими в сырой земле червями, и думать, что все эти прекрасно построенные формы, столь отличающиеся одна от другой и так сложно одна от другой зависящие, были созданы благодаря законам, еще и теперь действующим вокруг нас… Таким образом, из борьбы в природе, из голода и смерти непосредственно вытекает самый высокий результат, какой ум в состоянии себе представить, – образование высших животных. Есть величие в этом воззрении, по которому жизнь с ее различными проявлениями, первоначально вдохнутыми в одну или ограниченное число форм; и между тем как наша планета продолжает вращаться согласно неизменным законам тяготения, из такого простого начала развилось и продолжает развиваться бесконечное число самых прекрасных и самых изумительных форм.
Относительно «Происхождения видов» (1859)
Интересы Уильяма Блэйка были религиозными и мистическими, но, слово в слово, мне жаль, что не я написал следующее известное четверостишье, и, если бы это сделал я, мой источник вдохновения и смысл были бы совсем другими.
Видеть мир в зерне песка
И небеса в диком цветке
Держать в ладонях бесконечность
И в часе вечность.
«Пророчество невинности» (1803).
Строфа может быть истолкована как всецело посвященная науке, положению в движущемся пятне света, укрощению пространства и времени, очень большому, построенному из квантовой зернистости очень малого, одинокому цветку как макету всей эволюции. Влечение к страху, почитанию и чуду, которое вело Блэйка к мистицизму (а меньших личностей к паранормальному суеверию, как мы увидим) – в точности то же, что ведет других из нас к науке. Наше толкование различно, но то, что нас волнует – одинаково. Мистик довольствуется тем, что упивается чудом и наслаждается тайной, которую нам не «дано» понять. Ученый чувствует такое же восхищение, но возбужден, не удовлетворен; признает, что тайна глубокая, затем добавляет: «Но мы над ней работаем».
Блэйк не любил науку, даже боялся и презирал ее:
Для Бекона и Ньютона, заключенные в зловещую сталь, нависают их страхи
Как железные плети над Альбионом;
Рассуждения, как громадные Змеи,
Обвились вокруг моих ног…
«Бэкон, Ньютон и Локк», Иерусалим (1804-20).
Какая растрата поэтического таланта. И если, как упорно продолжают настаивать модные комментаторы, в основе его поэмы лежат политические мотивы, это все еще растрата; поскольку политика и увлечение ею столь временны, столь сравнительно пустячны. Мой тезис – что поэты могли бы лучше использовать вдохновение, приносимое наукой, и что в то же время ученые должны идти в народ, который я отождествляю, за неимением лучшего слова, с поэтами.
Конечно, наука не должна декламироваться в стихах. Рифмованные двустишия Эразма Дарвина, деда Чарльза, хотя удивительно хорошо принимались в свое время, не обогащали науку. Не считая случаев, когда ученые обладают талантом Карла Сагана, Питера Аткинса или Лорена Айзли, они также не должны преднамеренно совершенствовать стиль поэтической прозы в своих выкладках. Прекрасно подойдет простая, трезвая ясность, позволяющая фактам и идеям говорить за себя. Поэзия заключена в науке.
Поэты могут быть непонятными, иногда обоснованно, и они справедливо требуют освободить их от обязанности объяснять свои строки. «Скажите мне, м-р Элиот, насколько точно некто отмеряет свою жизнь кофейными ложечками?» – мягко говоря, не лучшее вступление для беседы, но ученый с полным правом ожидает подобных вопросов. «В каком смысле ген может быть эгоистичным?» «Какая именно река вытекает из Рая?» Я до сих пор объясняю, когда просят, что означает «Гора Невероятности» и как медленно и постепенно на нее взбираются. Наш язык должен стараться просвещать и объяснять, и если мы не в состоянии передать смысл за один прием, мы должны приступить к другому. Но, без потери ясности, более того, увеличивая ясность, мы должны вернуть для реальной науки тот стиль трепетного удивления, который двигал мистиками, подобными Блэйку. Реальная наука имеет законное право на трепет в спинном хребте, который, на более низком уровне, привлекает фанов « Звездного пути» и « Доктора Кто», и который, на самом низком из всех уровне, был корыстно похищен астрологами, ясновидцами и телевизионными экстрасенсами.
Налет псевдоучености – не единственная угроза нашему ощущению чуда. Другим является популистское «dumbing down» [сделать что-либо настолько простым, чтобы каждый смог понять – прим. Пер.], и я возвращусь к этому. Третье – враждебное отношение академиков, искушенных в модных дисциплинах. Модное увлечение представляет науку как лишь один из многих культурных мифов, не более правильный и не более обоснованный, чем мифы любой другой культуры. В Соединенных Штатах это подпитывается оправданным чувством вины за прошлое обращение с коренными американцами. Но последствия могут быть смешными; как в случае с кенневикским человеком.
Кенневикский человек – это скелет, обнаруженный в Штате Вашингтон в 1996 году, датированный по радиоуглероду более чем 9 000 лет. Антропологи были заинтригованы анатомическими указаниями на то, что он мог быть несвязанным с типичными коренными американцами, и поэтому мог представить отдельную раннюю миграцию через то, что теперь является Беринговым проливом, или даже из Исландии. Они готовились провести крайне важные тесты ДНК, когда официальные власти конфисковали скелет, намереваясь передать его представителям местных индийских племен, которые предложили похоронить его и запретить все дальнейшие исследования. Естественно, была широкая оппозиция от научного и археологического сообщества. Даже если кенневикский человек – какой-нибудь американский индеец, очень маловероятно, чтобы он был родственен какому-либо определенному племени, оказавшемуся живущим в той же самой области 9 000 лет спустя.
Коренные американцы имеют внушительное юридическое влияние, и «Древний» был бы передан племенам, если бы не причудливый поворот событий. Народное Собрание Асатру, группа поклонников норвежских богов Тора и Одина, подало независимый судебный иск, что кенневикский человек был на самом деле викингом. Этой скандинавской секте, чьи взгляды Вы можете проследить в «Руническом камне» выпуска лета 1997 года, было фактически разрешено справлять религиозные обряды над этими костями. Это огорчило индейское сообщество Якама, представитель которого боялся, что церемония викингов могла «помешать духу кенневикского человека найти свое тело». Спор между индейцами и скандинавами вполне мог быть улажен с помощью сравнения ДНК, и скандинавы рвались подвергнуться этому тесту. Научное исследование останков, конечно, пролило бы интереснейший свет на вопрос о том, когда люди впервые прибыли в Америку. Но индейских лидеров возмутила сама идея исследовать этот вопрос, потому что они верят, что их предки были в Америке со времен сотворения. Как высказался Арман Менторн, религиозный лидер племени Уматилла: «Из наших устных историй мы знаем, что наш народ был частью этой земли с начала времен. Мы не верим, что наши люди мигрировали сюда с другого континента, как считают ученые.»
Возможно, лучшей политикой для археологов было бы объявить себя религией, а ДНК-фингерпринты [1]1
ДНК-фингерпринт(англ. fingerprints – отпечатки пальцев) – Высокоспецифичный набор фрагментов ДНК, полученных методом ДНК-фингерпринтинга, позволяющий описать генотип индивидуума. Синоним – ДНК-профиль.(прим. верст.)
[Закрыть]– своим священным тотемом. Комично, но таков климат в Соединенных Штатах в конце двадцатого столетия, это, возможно, единственный способ который работал бы. Если Вы говорите: «Смотрите, вот потрясающие свидетельства, полученные из радиоуглеродного датирования, из митохондриальной ДНК и из археологических исследований глиняной посуды, что X имеет место», – Вы ничего не достигнете. Но если Вы говорите: «Это фундаментальная и неоспоримая вера моей культуры, что X имеет место», – Вы немедленно завладеете вниманием судьи.
Это также привлечет внимание многих в академическом сообществе, кто в конце двадцатого столетия обнаружил новую форму антинаучной риторики, иногда называемой «постмодерниским критическим анализом» науки. Самое полная изобличающая информация о подобного рода вещах – роскошная книга Пола Гросса и Нормана Левитта «Higher Superstition: The Academic Left and its Quarrels with Science» (1994). Американский антрополог Мэтт Картмилл обобщает их основное кредо:
Каждый, кто претендует на объективное знание о чем-нибудь, старается управлять и властвовать над остальными из нас… Нет никаких объективных фактов. Все мнимые факты заражены теориями, а все теории наполнены моральными и политическими доктринами… Поэтому когда какой-нибудь парень в лабораторном халате говорит Вам, что такой-то и такой-то факт является объективным… он, должно быть, имеет политическую повестку дня в своем накрахмаленном белом рукаве.
«Угнетаемый эволюцией». Discover magazine (1998)
Есть даже несколько крикливых представителей пятой колонны в самой науке, которые придерживаются именно этих взглядов и используют их, чтобы попусту растрачивать время остальных из нас.
Тезис Картмилла состоит в том, что существует неожиданный и пагубный союз между правым крылом невежественных фундаменталистских религий и искушенным левым крылом академии. Причудливый манифест союза – их объединенная оппозиция теории эволюции. Оппозиция фундаменталистов очевидна. Те, что с другой стороны – это соединение враждебности к науке вообще, «уважения» (скользкое слово нашего времени) к племенным мифам сотворения и различных политических программ. И эти странные партнеры разделяют беспокойство за «человеческое достоинство» и обижаются на рассмотрение людей как «животных». Барбара Эренрич и Джанет Макинтош высказываются подобным образом о тех, кого они называют «светскими креационистами» в своей статье «Новый креационизм» 1997 года в «The Nation magazine».
Распространители культурного релятивизма и «преклонения перед высшим» склонны высмеивать поиски правды. Это происходит частично из-за убеждения, что истины в различных культурах различны (что было сутью истории кенневикского человека), и частично от неспособности философов науки так или иначе прийти к согласию об истине. Есть, конечно, настоящие философские трудности. Является ли истиной всего лишь до-сих-пор-не-опровергнутая гипотеза? Какой статус у истины в странном, неопределенном мире квантовой теории? Хоть что-нибудь, в конце концов, истинно? С другой стороны, ни у одного философа нет ни малейших стеснений в использовании языка истины, когда его ложно обвиняют в преступлении или когда его жену подозревают в прелюбодеянии. «Истинно ли то-то?» похоже на законный вопрос, и не многих, кто задает его, в их частных жизнях удовлетворяет софистика в ответе. Квантовые мысленные экспериментаторы, возможно, не знают, в каком смысле «правда», что кот Шредингера мертв [2]2
Кот Шредингера – объект мысленного эксперимента, предложенного Эрвином Шредингером, которым он хотел показать неполноту квантовой механики при переходе от субатомных систем к макроскопическим (прим. Пер.)
[Закрыть]. Но каждый знает, что такое истина в отношении утверждения, что кошка моего детства Джейн мертва. И есть много научных истин, где мы требуем только, чтобы они были верными в том же самом повседневном смысле. Если я говорю Вам, что люди и шимпанзе разделяют общего предка, Вы можете сомневаться относительно истинности моего утверждения и поискать (напрасно) свидетельства, что оно ложно. Но мы оба знаем, что означает для него быть истинным и что означает для него быть ложным. Оно находится в той же категории, что и «Правда ли, что Вы были в Оксфорде в ночь преступления?», а не в той трудной категории, что и «Правда ли, что у кванта есть позиция?» Да, есть философские трудности с истиной, но мы можем достичь многого, прежде нам придется о них волноваться. Преждевременная постановка предполагаемых философских проблем иногда служит дымовой завесой для лукавства.
Излишнее упрощение – «Dumbing down» – совсем другой вид угрозы восприятия науки. Движение за популяризацию науки, спровоцированное в Америке триумфальным вступлением Советского Союза в космическую гонку и активное сегодня, по крайней мере в Британии, благодаря общественной обеспокоенности снижением количества претендентов на места при университетах, стало популярным. «Недели науки» и «Две недели науки» выдают страстное желание среди ученых быть любимыми. Забавные шляпы и веселые голоса объявляют, что наука – это развлечение, развлечение, развлечение. Эксцентричные «известные личности» демонстрируют взрывы и причудливые фокусы. Я недавно посетил брифинг, где ученых убедили разыгрывать зрелища в торговых центрах, призванные привлечь людей к радостям науки. Выступающий советовал нам не делать ничего, что могло быть очевидно признано как наводящее тоску. Всегда описывайте вашу науку как «имеющую отношение» к жизням обычных людей, к происходящему в их собственной кухне или ванной. Где только возможно, подберите экспериментальные материалы, которые ваша аудитория может съесть в конце. В последнем номере, организованном самим оратором, научным феноменом, который действительно захватил внимание, был писсуар, который автоматически смывался, когда Вы отходили. Самого слова наука лучше всего избегать, говорили нам, потому что «обычные люди» видят ее как угрозу.
У меня мало сомнений, что такое переупрощение будет успешно, если наша цель состоит в том, чтобы максимизировать общее количество людей на нашем «мероприятии». Но когда я возражаю, что то, что продается здесь, не является реальной наукой, меня осуждают за мою «элитарность» и говорят, что привлечение людей любым способом – необходимый первый шаг. Что ж, если мы должны использовать это слово (я не стану), возможно, элитарность не такая ужасная вещь. И есть большая разница между исключительным снобизмом и избранной, лестной элитарностью, которая стремится помочь людям стать лучше и присоединиться к элите. Преднамеренный переупрощение – наихудшее: оно относится снисходительно и свысока. Когда я высказал эти взгляды на недавней лекции в Америке, человек, задававший вопросы в конце, несомненно, с жаром политического самодовольства в своем сердце белого мужчины, имел оскорбительную дерзость предположить, что dumbing down может быть необходим, чтобы приблизить «меньшинства и женщин» к науке.
Боюсь, продвигать науку как сплошь забавную, веселую и легкую означает готовить неприятности для будущего. Реальная наука может быть трудной (скажем так, трудной, но интересной, чтобы представить ее в более положительном свете), но, как классическая литература или игра не скрипке, стоящей усилий. Если наука или любое другое стоящее занятие привлекает детей обещанием легких развлечений, что их ожидает, когда они, наконец, должны будут противостоять действительности? Рекламные объявления набора в армию с полным правом не обещают пикник: они обращены к молодым людям, достаточно подготовленным, чтобы не отставать от других. «Развлечение» подает неправильные сигналы и может привлекать людей к науке по неправильным мотивам. Литературная ученость рискует стать подточенной подобным же образом. Праздных студентов заманивают на обесцененные «Культурные Исследования», на обещания, что они будут проводить время, разбирая мыльные оперы, таблоидных принцесс и телепузиков. Наука, как и настоящие литературные исследования, может быть трудной и интересной, но наука – также как настоящие литературные исследования – замечательна. Наука можетокупать себя, но, как и большое искусство, она не должна этого делать. И мы не должны нуждаться в эксцентричных выдающихся личностях и забавных взрывах, убеждающих нас в ценности жизни, потраченной на выяснение, почему мы живем вообще.
Боюсь, что я, возможно, был настроен слишком негативно в этих выпадах, но бывают времена, когда маятник отклоняется достаточно далеко и нуждается в сильном толчке в другом направлении, чтобы восстановить равновесие. Конечно, наука – это развлечение, в смысле, что ей совершенно не свойственна скука. Она может увлекать великие умы в течение всей жизни. Конечно, практические демонстрации могут помочь сделать идеи яркими и неизгладимыми в памяти. От Рождественских лекций Королевского института Майкла Фарадея до Бристольского исследовательского центра Ричарда Грегори, дети были взволнованы истинно научными практическими опытами. Я сам имел честь дать Рождественские лекции в их современной, транслируемой по телевидению форме, и я опирался на большое количество наглядных демонстраций. Фарадей никогда не переупрощал. Я нападаю только на ту разновидность популистской проституции, которая обесценивает чудо науки.
Ежегодно в Лондоне проводится большой торжественный обед, на котором вручаются призы за лучшие популярные научные книги года. Один приз – для детских научных книг, и он был недавно присужден книге о насекомых и других «ужасно уродливых жуках». Такой язык, возможно, лучше всего расчитан не для того, чтобы пробудить поэтическое чувство удивления, а чтобы дать нам возможность быть терпимыми и признать другие способы привлечения интереса детей. Трудней простить проделки председателя жюри, известной телевизионной личности (недавно продавшейся выгодному жанру «паранормального» телевидения). Визжа, как на легкомысленной телевикторине, она подбивала большую аудиторию (взрослых) присоединиться к ней в повторении хором звуковых кривляний при рассмотрении ужасно «уродливых жуков». «О-о-о-й! Фу! Фууууу! Бррррр!» Такая вульгарная забава унижает чудо науки и рискует «отвернуть» тех самых людей, наиболее способных оценить это и вдохновить других: настоящих поэтов и истинных знатоков литературы.
Под поэтами, конечно, я подразумеваю художников всех категорий. Микеланджело и Баху платили, чтобы воспеть священные темы их времен, и результаты всегда будут поражать людские чувства как возвышенные. Но мы никогда не узнаем, как такой гений мог отреагировать на альтернативный заказ. Поскольку разум Микеланджело переселился в безмолвие «Как комар-долгоножка на поток», [3]3
стихотворение Йейтса (прим. Пер.)
[Закрыть]что бы он мог нарисовать, если бы знал содержимое одной нервной клетки комара-долгоножки? Представьте себе «Судный день», который мог появиться у Верди благодаря размышлению о судьбе динозавров, когда 65 миллионов лет назад скала размером с гору из открытого космоса с ревом врезалась на скорости 10 000 миль в час прямо в полуостров Юкатан, и мир окутал мрак. Пробуйте вообразить «Симфонию эволюции» Бетховена, ораторию Гайдна «Расширяющаяся Вселенная» или эпопею Мильтона «Млечный путь». Что касается Шекспира… Но мы не должны устремляться столь высоко. Для начала были бы хороши и менее известные поэты.
Могу представить, как в некоем давнем мире,
Первобытно-немом, другом, далеком от нас,
В оглушающем безмолвии, полном только жужжанья и невнятного гула,
В зарослях, среди просветов, мелькала птица колибри.
Прежде чем живое одушевилось,
Пока взбухала и напирала Материя, преодолевая бесчувственность,
Эта крошка проклюнулась из скорлупы
И, сверкая оперением, исчезла меж громадных, неспешно идущих в рост стеблей.
Похоже, в те времена цветы еще не цвели —
В том мире, где птичка колибри, взлетев, обогнала всё созданное.
Наверно, она вонзала свой острый клюв в источавшие сок тугие побеги.
Возможно, она была огромной:
Ведь, говорят, папоротники и ящерицы раньше были гигантскими.
Возможно, она была хищным, наводящим ужас чудовищем.
Мы смотрим на птицу колибри в перевернутый телескоп Времени —
И впрямь повезло нам: что правда, то правда.
«Нерифмованные поэмы», 1928. (Перевод Сергея Сухарева)
Поэма Д. Г. Лоуренса о колибри почти всецело неправильна и поэтому, на первый взгляд, ненаучна. Все же, несмотря на это, она является хорошей попыткой дать ответ, как поэт может получать вдохновение от геологического времени. Лоуренсу не хватало лишь нескольких уроков эволюции и таксономии, чтобы привести свою поэму в рамки достоверности, и как поэма она была бы не менее захватывающей и наводящей на размышления. После другого урока Лоуренс, сын шахтера, возможно, посмотрел бы свежим взглядом на огонь своего уголя, чья горячая энергия в последний раз видела белый свет – был белый день – когда она согревала папоротниковые деревья каменноугольного периода, чтобы быть отложенной в темных недрах земли и запечатанной в течение трех миллионов столетий. Большим препятствием была враждебность Лоуренса к тому, о чем он неправильно думал как о антипоэтическом духе науки и ученых, как тогда, когда он ворчал, будто





