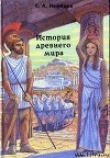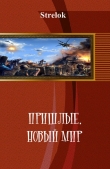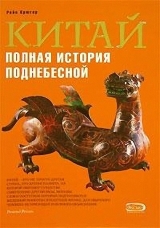
Текст книги "Китай. Полная история Поднебесной"
Автор книги: Рейн Крюгер
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 31 страниц)
Дочь маньчжурского аристократа, ростом всего около пяти футов, она сохранила свою красоту, благодаря которой в юности попала в императорский гарем. Императрица также не утратила присущего ей очарования и утонченных манер, хотя при необходимости умела быть жесткой и властной. Один из иностранцев описывал ее характер как «сложный, запутанный, обескураживающий, загадочный и несносный». На портретах ее изображали во всем величии – сидящей на троне в платье с роскошной вышивкой, с паутиной из нитей жемчуга на плечах и груди, с девятидюймовыми ярко накрашенными ногтями и шляпкой, украшенной драгоценными камнями, среди которых выделялась большая императорская жемчужина.

Вечной жизни – десять тысяч лет.
Китайская народная картина из коллекции академика В. М. Алексеева.
Гуляния в пекинском парке Ихэюань на день рождения императрицы Цыси, сопровождаемые пожеланиями «вечной жизни – десять тысяч лет»
В Татарском городе (с севера примыкавшем к Китайскому городу) Пекина располагался Императорский город, а внутри него находился Пурпурный, или Запретный, город, где жила вдовствующая императрица. За огромными воротами здесь прятались золоченые дворцы, павильоны, храмы и башни с пышными названиями – Ворота всемогущих духов, Башня драгоценного лунного света, Павильон сохранения гармонии, Палата вечной весны. Между ними были разбросаны дворики с ярко-красными колоннами, портики с мраморными ступенями и карнизами в виде драконов, веранды с лакированными ширмами, нависавшие над прудами с лотосом или клумбами, и просторные галереи, которые вели в пропахшие благовониями покои. Сюда не долетал дьявольский грохот фабрик, построенных по западному образцу, здесь не было слышно залпов морских орудий, не было видно работающих в поле крестьян – ничто из внешнего мира не могло проникнуть за тридцатифутовые стены Запретного города и нарушить уединение ее величества. Вместе с вдовствующей императрицей жил племянник, номинальный владелец украшенного драконами трона, его жена, наложницы и многочисленные принцессы со штатом евнухов, которые должны были быть китайцами, и служанок, обязательно маньчжурок. Загадочная, скрытая от посторонних глаз – только в последние несколько лет европейцам было позволено ее лицезреть – и окруженная таким ореолом святости, что критика Цыси была равносильна смерти, вдовствующая императрица правила огромной империей от имени послушного ее воле племянника.
Она была окружена коррумпированными евнухами, возродившееся влияние которых свидетельствовало о дальнейшем разложении правительства, и советниками, дававшими прямо противоположные рекомендации; в нации не было единства, поскольку в высших слоях общества усиливались! антиманьчжурские настроения, а армия оставалась плохо организованной, оснащенной устаревшим вооружением и настолько необученной, что основными предметами на экзаменах по военной подготовке по-прежнему были стрельба из лука и фехтование. Вдовствующая императрица плохо представляла себе реальное состояние дел в стране. Например, несмотря на сложное финансовое положение страны, вынуждавшее правительство брать займы у России, Британии и Франции, Цыси тратила миллионы на строительство роскошного дворца в нескольких часах езды от Пекина.

Жена едет в паланкине, а муж идет пешком. Карикатура на европейские нравы.
Китайская народная картина из коллекции академика В. М. Алексеева
Не стоит удивляться, что она не уделяла внимания интеллектуальным дискуссиям, охватившим Китай в 90-е годы XIX века. Движение «самоукрепления» получило новый импульс благодаря унизительному поражению от японцев, которых привыкли презирать как варваров. У истоков этого процесса стояла группа молодых ученых из Кантона под руководством Кан Ю-вэя. Обладавший глубокими познаниями в области литературы, изучавший конфуцианство и буддизм Кан Ю-вэй адресовал правительству несколько докладных записок, настаивая на модернизации – по западному образцу – во всех сферах. Он предлагал сформировать сеть конфуцианских церквей по всей стране и заменить традиционную систему летосчисления – в соответствии с династией и девизом правящего императора – отсчетом лет со дня рождения Конфуция, а также ввести западные науки в список предметов для экзаменов. Более того, он выступал за конституционный образ правления и парламентский принцип формирования правительства, впервые выдвинув идею демократии. Тем не менее за его предложениями стояло присущее конфуцианству стремление к идеальному обществу, свободному от страдания, переполнившего мир, хотя в основе этого стремления лежало убеждение в необходимости богатого и сильного государства для отражения угрозы – со стороны Запада – целостности нации и духу конфуцианства. Идеи Кан Ю-вэя, которые он пропагандировал при помощи лекций в основанной им академии, а также многочисленных публикаций, получили широкое распространение и пользовались успехом среди ученых и аристократов.
Поражение от Японии убедило Кан Ю-вэя, что для введения конституционного образа правления недостаточно реформировать верхушку власти: необходимым условием является «развитие снизу». Вместе с единомышленниками, придерживавшимися реформаторских взглядов, он организовал «научные общества», сначала в Пекине, а затем по всей стране, для обучения и мобилизации дворянства. Кроме того, они использовали такой мощный инструмент пропаганды, как газеты – тех было основано не менее шестидесяти. Так, одна из них, выходившая в Шанхае, печатала яркие статьи одного из учеников Кан Ю-вэя, который утверждал, что технический прогресс может быть эффективен только при условии политических реформ, которые высвободят коллективный потенциал нации, а для этого необходимо в первую очередь избавиться от древнего монархического строя, чьей единственной целью является сохранение династии. Другой реформатор зашел так далеко, что осмелился критиковать весь уклад жизни общества, в основе которого лежала конфуцианская доктрина «трех связей» – покорность подданных правителю, жены мужу, сына отцу – и которую он объявлял неправильной, порочной и репрессивной.
Такие радикальные идеи не принимались умеренными сторонниками реформ, число которых продолжало расти. Даже в крупных городах, где широко распространились либеральные взгляды, умеренные объединились с консерваторами для защиты, как они полагали, священных ценностей и устоев нации. Главной угрозой существующей династии считалось предложение о новом порядке летосчисления – со дня рождения Конфуция. Негативная реакция вылилась в преследовании радикалов, а также в почти полное запрещение «научных обществ» и газет. Однако в июне 1898 года произошло событие, встревожившее чиновников, – император пригласил Кан Ю-вэя на личную аудиенцию.
С 1889 года, после коронации восемнадцатилетнего императора Гуансюя, вдовствующая императрица официально перестала быть регентом, но по-прежнему не выпускала бразды правления из своих рук. Тем не менее причиной усиливающихся разногласий с племянником стал его интерес к западным знаниям. В 1894 году, после трехлетнего курса обучения иностранным языкам у преподавателей-иностранцев, он стал изучать работы реформаторов, и когда через год вдовствующая императрица узнала, что император читает книги западных авторов, она запретила все занятия, за исключением традиционных китайских дисциплин. Однако его увлечение западными идеями продолжало беспокоить тетку, поскольку при дворе появились различные партии, и умеренные реформаторы яростно спорили с радикалами.
Последние воспрянули духом в 1897 году, когда в Пекин для возобновления пропаганды реформ приехал Кан Ю-вэй. В записках императору он предлагал принять конституцию и созвать национальную ассамблею, а также предпринять шаги по сосредоточению власти в руках императора и советников из числа реформаторов, чтобы ослабить влияние двора и чиновничества. После того как первая записка попала к императору, Гуансюй приказал принести ему все работы Кан Ю-вэя, а в июне 1898 года удостоил его личной аудиенции.
Беседа длилась несколько часов. Убеждая императора в необходимости глобальных институциональных перемен, Кан Ю-вэй говорил: «Через три года реформ Китай станет независимым. Затем страна будет каждый день двигаться вперед и превзойдет все другие государства по богатству и силе». Юный император так вдохновился реформаторскими идеями, что тут же объявил о начале «100 дней реформ». Императорские указы следовали один за другим – они позволяли энергично проводить реформы во всех областях, в промышленности, образовании и государственном устройстве. В них нашли отражение почти все идеи Кан Ю-вэя, за исключением принятия конституции и созыва национальной ассамблеи, однако император выражал готовность к диалогу даже по этим фундаментальным вопросам.
Чиновничество всполошилось. Эти указы не только отражали идеологию, чуждую традиционалистам, но также противоречили интересам и консерваторов, и умеренных: обновленная экзаменационная система, построенная по западному образцу, угрожала карьере большинства образованных людей, а упрощение государственного аппарата с устранением бюрократических каналов, реформа армии и назначение на государственные посты молодых реформаторов ослабляли позиции многочисленного класса чиновников. Более того, программа реформ бросала вызов вдовствующей императрице и представляла опасность для ее евнухов.
Вдовствующая императрица не сидела сложа руки. Используя влияние своей партии при дворе, она потихоньку сосредоточивала власть, чему способствовало назначение ее доверенного лица на пост командующего армией на севере Китая. В сентябре 1898 года, когда император назначил молодых реформаторов в Государственный совет, она нанесла удар. 21 сентября произошел государственный переворот – император был отстранен от власти и помещен под домашний арест. Затем вдовствующая императрица уволила и арестовала многих сторонников Кан Ю-вэя. Шестеро реформаторов были казнены, один видный политик бежал из страны на японском военном корабле, а самому Кан Ю-вэю англичане помогли скрыться в Гонконге, а затем в Японии. Вдовствующая императрица в третий раз стала регентом, чтобы «давать указания правительству», и отменила все важные указы, изданные в период «100 дней реформ».

Иностранцы на охоте.
Китайская народная картина из коллекции академика В. М. Алексеева
Она нанесла реформаторам смертельный удар, но ничего не могла поделать с последствиями их деятельности – с требованием перемен, которое выражалось через такое новое явление, как общественное мнение, и с появлением класса интеллигенции, отличавшегося от класса ученых-аристократов, которые всегда были опорой династии. Тем не менее историческую сцену на время заняли новые, внушавшие страх фигуры.
В стране зрело недовольство обнищавших крестьян, усиленное наводнением 1898 года, когда Хуанхэ вышла из берегов, затопив сотни деревень, а также разразившейся в следующем году засухой. Поползли слухи, что причиной этих стихийных бедствий стали иностранцы, проповедовавшие свою религию и тем самым оскорбившие духов; кроме того, строительство железных дорог и добыча полезных ископаемых в горах нарушили гармонию человека и природы. Страх и ненависть по отношению к миссионерам и всем чужеземцам активно использовали приверженцы нового тайного культа, который стал наследником «Общества Белого лотоса» и в 90-х годах XIX века распространился в провинциях к северу от Янцзы. Это культ именовалось «Кулак во имя справедливости и согласия» (по ассоциации с гимнастикой, которой занимались члены общества), а поскольку в название общества входило слово «кулак», европейцы называли его членов «боксерами».
Пантеон легендарных и исторических фигур тайного общества отражал его националистический характер, а основу идеологии составляли суеверия: «боксеры» верили, что при помощи магии – заклинаний, магических формул и ритуалов – они становятся неуязвимыми для пуль, обретают способность летать и получают помощь духов во время битвы. Испытывая фанатичную ненависть к иностранцам, они отвергали винтовки, предпочитая пользоваться мечами и копьями. Наконечники копий были красными – как и наголовные повязки, пояса, а также повязки на руках и щиколотках. Распущенные волосы и специальный шаг, которым они передвигались, производили устрашающее впечатление, усиливавшееся варварским поведением во время многочисленных мятежей, направленных против миссионеров и китайских христиан и сопровождавшихся массовыми убийствами и казнями. «Боксеры» также уничтожали железные дороги и телеграфные линии – символы присутствия ненавистных иностранцев.
Одна из групп «боксеров» называлась «Обществом Большого меча», и когда слухи об их необыкновенных возможностях достигли вдовствующей императрицы, она приказала привести к себе лидеров общества. Им удалось покорить императрицу, и с тех пор «боксеров» поддерживали армия и правительство. Стареющий сановник Ли Хун-Чан, уволенный с поста генерал-губернатора Кантона, выступил против вдовствующей императрицы и вместе с губернаторами южных и юго-восточных провинций страны умолял ее изменить отношение к «боксерам». Их просьба осталась без ответа, и эти китайские провинции не приняли участия в последующих событиях.
Угроза со стороны «боксеров» настолько встревожила западных дипломатов, что они вызвали для охраны посольств несколько сотен матросов иностранных флотов, стоявших на якоре в порту Дагу, обслуживавшем Тяньцзинь и Пекин. 3 июня 1900 года «боксеры» перерезали железнодорожную ветку между Тяньцзинем и Пекином, и британский посланник, обеспокоенный безопасностью иностранцев в Пекине, обратился за помощью к адмиралу Сеймуру, командующему британским флотом на рейде Дагу. Через неделю Сеймур выслал подкрепление из тысячи матросов, но на полпути отряд был остановлен «боксерами» и с боями едва-едва вернулся в Тяньцзинь.
«Боксеры» ворвались в Пекин, сжигая церкви и дома иностранцев, расправляясь с принявшими христианство соотечественниками. Они убили секретаря японского посольства, затем немецкого посланника, извлекли из могил тела давно умерших миссионеров и надругались над ними, атаковали территории иностранных посольств. Безумие, похоже, заразило и вдовствующую императрицу – поверив слухам о победе «боксеров» над иностранными войсками под Тяньцзинем, она решила, что пришла пора избавиться от всех чужеземцев, и 21 июня объявила войну иностранным державам. Банды «боксеров», получившие оружие из правительственных арсеналов, и присоединившиеся к ним регулярные войска атаковали зарубежные посольства в столице империи.
На территории Татарского города вблизи ворот Императорского города (они назывались Воротами небесного спокойствия) на площади около одной квадратной мили располагались более десяти посольств. Самой крупной территорией, примыкавшей к академии Ханьлинь, владело английское посольство: внутри находился дом посла, архив, квартиры персонала, студентов и слуг, театр, часовня, колокольня, арсенал, конюшни, дорожки для боулинга, площадка для игры в мяч и, самое главное, колодцы с питьевой водой. Рядом располагались русское, американское, испанское, японское, французское и немецкое посольства, а чуть поодаль – австрийское, итальянское и бельгийское. Под охраной 450 человек в них находились 475 европейцев, мужчин, женщин и детей (в том числе дипломаты и миссионеры с семьями) и 2300 китайских христиан. Они оказывали упорное сопротивление нападавшим. Атаки, начавшиеся 20 июня в 4 часа утра, усиливались с каждым днем – обстрел из ружей и пушек сопровождался поджогами близлежащих зданий и попытками заложить мины под стены посольств.
Известия об осаде посольского квартала дошли до Британии в разгар англо-бурской войны и всего через месяц после того, как с трудом удалось снять осаду крепости Мафекинг. Правительство отреагировало немедленно и вместе с другими заинтересованными государствами направило войска к китайскому побережью в район Дагу. К концу июля сформировался двадцатитысячный корпус из британцев, американцев, японцев, французов, австрийцев и итальянцев, и 4 августа началось наступление на Пекин. Союзные войска одержали три решительные победы и через десять дней вступили в китайскую столицу. Посольства были почти полностью разрушены, а сотни их защитников убиты или ранены: приходилось сражаться под почти непрерывным градом пуль и снарядов среди дыма от горевших зданий. Мужчины занимали позиции на стенах и баррикадах, отбивая беспрерывные волны атакующих, а женщины дни и ночи напролет шили мешки для песка, ухаживали за ранеными и готовили еду, причем в пищу уже шли собаки и мулы.
Через день после того как союзники вошли в Пекин, вдовствующая императрица бежала из города. С ней был возмущенный император, любимую наложницу которого она приказала бросить в колодец, и небольшая свита. Нелегкое путешествие заняло два месяца. Их путь пролегал на юго-запад от Пекина через земли, кишевшие беженцами, взбунтовавшимися солдатами и бывшими «боксерами», и через высокие горы в столицу империи Тан город Сиань, где и обосновался двор. В полуразрушенном Пекине, улицы которого были завалены трупами людей и лошадей, иностранные войска устроили настоящую оргию. Время «боксеров», некогда владевших сорока пятью городами, в которых они убили тридцать тысяч христиан и более двухсот миссионеров, подошло к концу. Никакая магия не могла защитить их от пуль.
Союзники, которые официально не отреагировали на объявление Китаем войны, теперь долго и упорно торговались из-за условий мира. Переговоры от имени Китая вел престарелый Ли Хун-Чан, весь седой и наполовину парализованный, и в сентябре 1901 года, за несколько месяцев до смерти, он подписал «Заключительный протокол». Немецкое правительство настаивало на драконовских условиях, в том числе на разрушении Пекина – чтобы, как выразился кайзер, «впредь ни один китаец не осмелился косо посмотреть на немца». Договор, естественно, не заходил так далеко, но условия его были достаточно тяжелыми для Китая: казнь или пожизненное заключение более чем сотни руководителей «боксерского» движения и сочувствовавших им министров, контрибуции в размере шестидесяти семи миллионов фунтов стерлингов [11]11
Со временем большую часть долга списали.
[Закрыть](с рассрочкой на тридцать девять лет под четыре процента годовых), официальные извинения Японии и Германии, двухгодичный запрет на ввоз оружия и боеприпасов, размещение иностранных войск на территории от Пекина до побережья. В то же время двухсоттысячная русская армия под предлогом наведения порядка оккупировала Маньчжурию.
На такой печальной ноте началось для Поднебесной Империи новое тысячелетие. Тем не менее надежды на лучшее будущее не исчезли – они были связаны с реформаторским движением, не угасавшим все эти неспокойные годы.
ЭПИЛОГ
Двадцатый век
В 1902 году, после полуторагодичного отсутствия, в Пекин вернулась вдовствующая императрица Цыси – она въехала в столицу на троне, украшенном перьями павлина. Ее нрав смягчился: тяготы добровольной ссылки, а также соприкосновение с бедностью, нищетой и нуждой, столь хорошо знакомыми многим из ее подданных, вырвали императрицу из кокона и заставили взглянуть в лицо действительности. Она была вынуждена объявить о программе реформ, включавшей сокращение раздутого и коррумпированного бюрократического аппарата, поощрение торговли, реорганизацию армии и коренное изменение системы образования, которое становилось доступным и для девочек. Государство, однако, было почти банкротом, и несмотря на повышение налогов, вызвавшее новую волну недовольства, в казне не хватало денег для реализации программы реформ.
Но самое главное, что после возвращение в Китай комиссии, изучавшей конституционный образ правления в Европе, Америке и Японии, император с благословления своей тетушки объявил о начале подготовительного периода, который через девять лет должен был завершиться принятием конституции. В результате реформы уголовного кодекса были отменены такие варварские обычаи, как смертная казнь разрезанием на части, публичная демонстрация отрубленных голов, обезглавливание трупов и клеймение; под запрет попали коллективная ответственность и пытки, а порка бамбуковыми палками заменялась штрафом.
Тем временем попытки России оккупировать Маньчжурию встревожили Японию, и между двумя странами началась война (1904–1905 гг.). Япония вышла победителем и заняла достойное место среди великих держав. Это событие усилило приток китайских студентов в Японию. Вскоре численность китайской студенческой общины здесь превысила тридцать тысяч человек – гораздо дешевле и проще было постигать западные премудрости в Японии, где многие европейские книги уже были переведены на японский язык. В 1906 году Китай решился на важный шаг, отменив просуществовавшую 1300 лет экзаменационную систему, после чего кандидатов на гражданскую и военную службу стали отбирать среди выпускников новых государственных школ и иностранных учебных заведений, особенно японских.
Япония начала играть определяющую роль в политике Китая, и это влияние сохранялось на протяжении многих лет. Ее собственное стремление к введению западных идеалов и норм в значительной степени обусловливалось примером Китая, технологическая отсталость которого не позволила соперничать с Западом, а условия для развития страны обеспечила «реставрация Мэйдзи». Таким образом, Япония всецело поддерживала китайские реформы – не в последнюю очередь потому, что сильный Китай играл бы роль противовеса агрессивной политике европейских держав на Дальнем Востоке. На мировоззрение студентов влияли и радикалы, бежавшие из страны после дворцового переворота, завершившего период «100 дней реформ»: они раздували антиманьчжурские настроения и выступали в поддержку реформ в целом и конституционной реформы в частности. Многие японские либералы также поощряли молодых людей, которые, кроме всего прочего, впитывали дух национализма и патриотизма. По мере того как набирало силу революционное движение в России, его пропаганда также завладевала умами молодежи, получавшей образование в Японии.
Китайское правительство знало о потенциальной угрозе, исходившей от китайских студентов в Японии, и пыталось принять профилактические меры, но пользы от них было мало. Столь же безуспешными оказались попытки погасить как мелкие искры революции, вспыхивавшие по всему Китаю, так и крупный пожар, раздуваемый выдающимся политическим деятелем, христианином и врачом по образованию, которого звали Сунь Ят-сен. Он родился в 1866 году в окрестностях Макао, получил образование в Ханое и Гонконге и в двадцатилетием возрасте под влиянием заграничной жизни и реформаторских идей заразился идеями революции. Не добившись встречи с Ли Хун-Чаном, он в 1894 году основал в Ханое первую революционную организацию в современном Китае, «Общество возрождения Китая». Организация поддерживала связи с многочисленными тайными обществами в Китае, и поначалу ее членами были в основном бедняки, но после победы Японии над Россией в общество стали вступать дворяне и торговцы. Сунь Ят-сена поддерживали также миссионеры и принявшие христианство китайцы, но ему все равно приходилось постоянно искать новых сторонников и источники финансирования.
Восстание, поднятое им в 1895 году в Кантоне, окончилось неудачей, и он бежал за границу, чтобы продолжать пропаганду революционных идей. Странный инцидент произошел с ним во время пребывания в Лондоне в 1896 году. По неизвестной причине он явился в китайское посольство, где его схватили, чтобы отправить в Китай – на верную смерть. Но тут вмешались два англичанина, у которых учился Сунь Ят-сен, и после двенадцатидневного заключения он вышел на свободу; эта история наделала много шума и принесла молодому китайскому революционеру международную известность. Он тут же опубликовал в прессе письмо, в котором благодарил англичан, восхваляя «благородство британского общества и любовь к справедливости, которая отличает этот народ». Он писал, что в полной мере ощутил, что значит конституционный образ правления и просвещенный народ, и теперь будет еще активнее бороться за прогресс, образование и цивилизацию в его любимой, но угнетенной стране. После нескольких месяцев занятий в Британском музее он отправился в Японию через Канаду, где собирал средства у китайских эмигрантов. Его книга «Похищенный в Лондоне», пользовавшаяся огромным успехом, много лет была под запретом в Китае.
В Токио он развил активную деятельность среди китайских радикалов и их японских сторонников и в 1900 году решил, что созрели условия для еще одного восстания в Кантоне, которое оказалось таким же неудачным, как и предыдущее. Сунь Ят-сен вновь бежал в Японию и в 1905 году основал китайскую революционную организацию «Объединенный союз», попытавшись объединить многочисленные революционные группы, в основном студенческие, которые были разбросаны по всей стране. Его последователи выступали за свержение маньчжурской династии и установление республиканского строя, а также были убежденными сторонниками реформ. Первые годы XX века были отмечены многочисленными восстаниями; все они потерпели неудачу, но неумолимо приближали закат династии Цин, будущее которой выглядело еще туманнее в свете того, что идеи реформаторов проникли и в армию.

Календарь Китайской республики.
Китайская народная картина из коллекции академика В. М. Алексеева.
Слева вверху изображен Сунь Ят-сен, в центре император Пу И, внизу немецкий и английский генералы (слева) и русский генерал (на коне справа).
Календарь напечатан после революции 1912 г.
В 1907 году с вдовствующей императрицей случился удар, после чего у нее отнялась правая половина лица. Тем не менее она продолжала унижать императора, который фактически оставался пленником, – окружила его надменными евнухами и пропустила его покои, когда во дворце проводили электричество. В 1908 году после десяти лет страданий император заболел, и эта болезнь оказалась смертельной. Он отказался надевать «одежды долголетия», в которые по традиции должен был облачаться Сын Неба, и проклял Цыси. Страдавшая от дизентерии вдовствующая императрица вместе с женой и любимой наложницей императора присутствовала при его кончине, которая наступила в час петуха (5–7 часов пополудни) 14 ноября 1908 года. На следующий день в час козы (1–3 часа пополудни) умерла и сама вдовствующая императрица Цыси.
Придворный астролог, с которым она всегда советовалась, определил время погребения. Пышная похоронная процессия отправилась из столицы к Восточным гробницам: сановники в белых траурных одеждах, буддийские священники и ламы в шафрановых накидках и с прическами хохолком, тысячи евнухов и музыкантов, траурная музыка, далай-лама и другие знатные лица с цветами и под зонтиками, верблюды и верховые со знаменами. Завидев процессию, люди сжигали бумажные фигурки, деньги, еду и одежду, чтобы привлечь духов в величественный мавзолей, построенный по указанию усопшей в соответствии с законами геомантии. Со смертью вдовствующей императрицы фактически закончилась эпоха династии Цин. (Два десятилетия спустя бандиты взорвали мавзолей и проникли в подземелье, чтобы ограбить саркофаг. Они осквернили труп императрицы, сорвав с него одежды и перевернув на бок. Так была обесчещена вдовствующая императрица Цыси, последний символ величия династии.)
Еще более важным делом, чем государственные похороны, стали первые шаги к введению конституционного образа правления – выборы провинциальных ассамблей. Эти органы, в которые попали преимущественно дворяне, выполняли консультативную функцию при губернаторе провинции. В том же году началось формирование Национальной ассамблеи, которая собралась на первое заседание в следующем году. Это был тоже исключительно консультативный орган, и в его состав по указу императора назначались члены провинциальных ассамблей. Появилась и система ассамблей на местах. Ни один из этих новых органов не имел реальной власти, но они могли стать предшественниками демократии и парламентаризма, которые со временем обязательно развились бы в Китае. Однако в этот процесс вмешались другие события.
Вдовствующая императрица Цыси перед смертью (на следующий день после смерти императора) назначила новым Сыном Неба своего племянника Пу И (девиз его правления Суань-тун). Ему было всего три года, и поэтому регентом стал его отец, слабый и безвольный человек; вдовствующей императрицей называли теперь вдову умершего императора. Большинство придворных принадлежали к маньчжурскому клану, а правительство пыталось удержать в руках разваливающуюся империю. Ассамблеи, где постоянно сталкивались противоборствующие фракции, вызывали нервозность министров, которые были не в состоянии помешать процессу усиления губернаторов провинций, – на самом деле задача увеличения доходов казны требовала предоставления губернаторам больших полномочий. Многие стали поговаривать о независимости.
На рубеже 1909 и 1910 годов реформаторское движение – теперь его правильнее называть революционным – получило новый импульс. Оно развивалось параллельно со спорадическими восстаниями на местах. Деятельность революционеров всех мастей, а также непоследовательность руководителей провинций и уездов создавала атмосферу нестабильности по стране. Сами революционеры делились на тех, кто хотел избавиться от маньчжуров и маньчжурского императора, и тех, кто требовал конституционных изменений и введения по примеру Японии парламентской системы при правящем императоре. Многие активисты революционного движения на местном и национальном уровне поддерживали Сунь Ят-сена и его «Объединенный союз», выражавший первую точку зрения, тогда как более радикальные элементы объединились вокруг другой фигуры, влиятельного военачальника с севера страны. Его звали Юань Шикай, и он командовал армией Китая – именно в его руках находилась судьба маньчжурской династии. Его представители встретились в Шанхае с представителями Сунь Ят-сена, чтобы выработать единую политику.
В конце года накалилась обстановка в провинции Сычуань – после того, как правительство объявило о намерении прибегнуть к иностранным займам, а также о планах национализации железных дорог, принадлежавших частным компаниям. Условия займов были выгодны для алчного Запада, а размер компенсаций за железнодорожные компании привел в ярость держателей акций, в основном студентов, дворян и торговцев. Пекин не проконсультировался по этим вопросам ни с Национальной, ни с провинциальными ассамблеями, а также отмахнулся от всех протестов. Когда люди, вложившие средства в железные дороги, отказались платить налог, а ассамблея провинции Сычуань потребовала для себя законодательных прав, лояльный трону генерал-губернатор арестовал организаторов протеста. Возмущение охватило всю провинцию. Разные революционные группы, поддержанные «Объединенным союзом», приступили к активным действиям, но их оттеснили на второй план разгневанные крестьяне, члены тайных обществ и просто бандиты, которые уничтожали полицейские участки и налоговые инспекции, открывали ворота тюрем, грабили склады и обрезали телеграфные линии. Правительственные войска, ослабленные революционными идеями, не могли противостоять стотысячной разъяренной толпе.