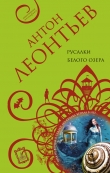Текст книги "Сорочья усадьба"
Автор книги: Рейчел Кинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– О, господи…
Он замер, уставившись на татуировку у меня под блузкой: над каждой грудью парит маленькая птичка, а между ними по воздуху плывет ленточка.
– Это что у тебя, наколка?
Он продолжил расстегивать блузку, и она свалилась с моих плеч.
– Мама моя, сколько их у тебя?
Теперь я, голая по пояс, сидела на верстаке, куда он посадил меня, как куклу. На мне оставался только лифчик, но у него была возможность разглядеть большинство татуировок, в том числе и самую новую, мою сороку, все еще красную и припухшую. Он обошел вокруг стола, чтобы посмотреть на мою спину. Еще одна пара глаз в комнате, где отовсюду на тебя смотрят звери. Сама я теперь уставилась на оскалившую зубы лисицу.
Не слезая со стола, я выпрямилась. Снова ритуал, который я исполняла с мужчинами много раз: удивление, желание и, наконец, горячая сексуальная страсть. Но в такой странной обстановке у меня еще ни с кем не было.
– Всего десять, – ответила я. – Пока. По одной на каждое убийство.
Он нерешительно засмеялся и, сделав полный круг, снова оказался передо мной. Пальцем провел по цветку георгина на левом плече, коснулся русалки на правой руке. В ледяном воздухе комнаты кожа моя покрылась пупырышками.
– Пошли отсюда, – вдруг сказал он и накинул мне на плечи блузку. – Пойдем в гостиную, разожжем камин. Ты же вся замерзла.
Момент страсти прошел, теперь зубы мои отбивали дробь. Я кивнула и спустилась на пол.
Мы пошли в гостиную, он впереди, я за ним, там я устроилась на потертый диван, а он сноровисто развел огонь. Пружины дивана впились в бедра, от него пахло псиной. Но мне было все равно. Меня охватило знакомое чувство дома со всеми его запахами; я сняла со спинки дивана старое вязаное одеяло, завернулась в него и стала ждать, когда в комнате станет тепло.
Я думала про Хью, про то, что он сейчас сидит дома с женой. Они укладывают детей в постель, остаются одни, устраиваются на диване с бокалами вина, а может, книжками в руках. Наступает уютная тишина, какая бывает между людьми только после нескольких лет совместной жизни. Я смотрела на спину Сэма, согнувшуюся над камином – он подкладывал кусочки растопки, – и на минуту представила, как бы жила с ним в деревне. Он уходил бы каждый день на полевые работы, я бы оставалась дома с детьми и передавала бы им фамильное искусство Саммерсов, искусство таксидермии. Может быть, даже в этом доме, если б можно было уговорить родственников и они разрешили бы нам здесь жить. Я бы восстановила бабушкин сад, огород, стала бы выращивать овощи.
Чушь собачья. Но я мысленно проделывала это с каждым мужчиной, с которым у меня был даже мимолетный роман: спала с ним, выходила за него замуж, разводилась, и все за одну ночь.
– Зачем тебе наколки? Ведь ты, похоже, приличная девушка.
Сэм закончил возиться с камином, пламя разгорелось, и он сидел на корточках, протянув к нему руки.
– А что, разве приличным девушкам нельзя носить татуировку?
– Не знаю. Я думал, что она бывает только у байкеров. А у тебя такая красивая стрижка, и сама ты красивая, а тут на тебе – наколка. Странно как-то.
– Ничего странного. Сейчас многие девушки делают татуировки.
– Да, может, какую-нибудь маленькую, где-нибудь на лодыжке или над попкой, но не на всю же грудь, да еще и на руках.
– Каждый день узнаешь что-нибудь новенькое, разве нет, деревенский ты парнишка?
– Да ладно. У тебя есть еще что-нибудь выпить?
– Подожди минутку.
Я встала и подошла к дедушкиному шкафу с напитками. В нем всегда хранилось приличное количество джина и бренди, а в самой глубине стояла старая бутылка виски.
– В самый раз, – сказала я.
И, отвернув крышку, сделала большой глоток. Огонь побежал у меня по жилам. Сэм сел на диван рядом со мной и взял у меня бутылку.
– Покажи еще раз свою сороку на руке.
Я обнажила плечо.
– Похоже, недавно делали. И кого это ты убила?
Он дотронулся до татуировки, и мне даже стало немного больно.
Я ничего не сказала, просто убрала руку. В том месте, к которому он прикоснулся, пульсировала кровь.
– Наверно, дедушку, признавайся! Раз – печальный…
– Ишь ты, догадливый.
Лицо его потемнело, и он снова отхлебнул из бутылки.
– Хочешь сказать, для деревенщины, да? Ну, давай, говори.
– Я не это имела в виду.
– А я не такой глупый, понятно? Я много читал. Может, даже больше, чем ты со своим высшим образованием. Давай, спроси меня, сколько книжек я прочитал.
Начинается, со вздохом подумала я. Этого только не хватало.
– Тысячи, – сказал он и снова сделал глоток.
Я не знала, что говорить, боялась, собьюсь на покровительственный тон, поэтому молча взяла у него бутылку.
– Да, да, я уже опьянел. Ну и что? До дому ехать недалеко. Из моих знакомых всего только трое погибло за рулем по пьяни.
Он засмеялся.
– Ты это серьезно? О, господи.
А он все хохотал, словно нет ничего на свете смешнее, когда погибают друзья. Хохотал истерически: ясно было – он уже на рогах. Впрочем, увидев мое испуганное лицо, он сразу умолк, хотя, скорей всего, именно этого и добивался. Теперь он смотрел на меня, как и два дня назад, когда его ветром сдуло из дома.
– Разве ты можешь понять, зараза, что такое жить в деревне? У тебя там в городе и у всех твоих гребаных друзей есть такси. Для вас работают театры и картинные галереи. А у нас что? Пивная. Или вечеринки. На которые ехать надо за несколько миль от дома.
Я крепко вцепилась в горлышко бутылки.
– Извини.
Я положила руку на его рукав, стараясь его успокоить, и он озадаченно уставился на нее.
– Не веришь, спроси Джоша. Он прожил здесь целых… сколько, двадцать лет? Он тут совсем свихнулся, это сразу видно. Думаю, его спасло только то, что он женился и нарожал детей. Здесь у нас так одиноко, так хреново, не с кем даже словом перекинуться.
Про Джоша мне говорить не хотелось.
– Значит, думаешь, долго здесь не протянешь?
– Не знаю. А что мне еще делать?
Я передала ему бутылку, он сделал еще глоток и уставился на огонь.
– Я понимаю, что значит терять людей, – сказала я.
– Да ладно, чушь это все, извини. Джош рассказывал мне про… ну, ты сама знаешь, про кого.
– Джош?
Интересно, много ли он наговорил, во многом ли он признался своему наемному работнику? Но мне очень не хотелось искать ответа на этот вопрос.
– Давай поиграем, – сказал он. – Давай на одну ночь забудем, кто мы такие, представим себе, что я – не какой-нибудь идиот-деревенщина, а ты не самодовольная богатая сучка из большого города.
Я рассмеялась.
– А кто же тогда?
– Ну, не знаю. Равные.
– Ты думаешь, что мы не равны?
– Это ты так думаешь.
– Это неправда.
– Послушай, ты просто подыграй, и все, договорились?
Он взял меня за руку и изящным жестом поднес мои пальцы к губам.
В комнате уже было довольно тепло. Я сбросила одеяло.
– Сделаешь для меня, о чем я тебя попрошу?
– Смотря о чем.
– Разденься, чтобы я на тебя посмотрел. На твои татуировки.
Наверно, это тоже входило в нашу игру, по крайней мере, я в этом себя убедила. Не думаю, что мне очень хотелось предстать голой перед этим парнем. Но образ Хью вместе с его женой все еще маячил у меня в голове, и стоило мне представить лицо моего бывшего любовника, я уже знала, что делать.
Я сбросила туфли и стянула колготки. Нет, не для того, чтобы устроить для него сеанс стриптиза. Потом сняла юбку, не торопясь, расстегнула пуговицы рубашки и осталась в одном белье.
В отсветах каминного пламени я медленно повернулась перед ним, все время ощущая на себе его взгляд. От камина шло тепло, а с той стороны, которая оставалась в тени, тянуло прохладой, и я ощущала себя планетой Земля, которая вращается вокруг Солнца. Тишина нарушалась лишь треском поленьев в камине и нашим дыханием. Он изучал мое тело, как делал совсем недавно на кухне, а я демонстрировала свое обнаженное тело перед едва знакомым мне человеком. Он попросил рассказать, по какому поводу я делала каждую татуировку, но я отказалась. Он не настаивал.
Дом простонал и стряхнул с себя призрачную кисею музыки, звучавшей в моих снах. Серые пальцы дневного света провели по краям штор. Стеганое одеяло гагачьего пуха ночью сползло и упало на пол, но мне было тепло: тело, лежащее рядом, пылало, как печка.
Похмелье. Пить хочется до смерти. Я посмотрела на Сэма, увидела татуировку на его лопатке, которую он с гордостью показал мне ночью, как некий символ, связывающий его со мной, уравнивающий нас. Она была некрасивая, сделанная неумелой рукой, какой-то непонятный знак, смысл которого он не смог растолковать мне, как и объяснить, что он значит для него лично. Линии успели расплыться, черный цвет позеленел, а ему было трын-трава. Когда я сказала ему и о цвете, и о корявых линиях и формах, он пожал плечами и пробурчал, что ему все равно не видно, поэтому, какая разница?
Зато приятно было смотреть на упругие мышцы под изуродованной кожей, так не похоже на рыхлый лунный ландшафт спины, который я созерцала у Хью. Меня подташнивало. И все же я очень скучала по этой спине. Господи, что же я делаю?
Я перевернулась и посмотрела в другую сторону. Что-то цепляло меня в той ситуации, в которой я оказалась. Не вполне дежавю, но мне было известно, что я не единственная из Саммерсов, кто получал такую «помощь» в постели. И ничего хорошего в этом нет. История, кажется, повторяется, но совсем неожиданным образом.
Сэм пошевелился, протянул ко мне руку, втащил мое хрупкое тело к себе между ног и уложил на себя. Как грелку.
– Который час? – пробормотал он мне в прическу.
– Семь.
– Черт!
Он сбросил меня и скатился с кровати.
– Мне надо бежать.
Быстро оделся, потом посмотрел на меня.
– Ты как?
– Худо. Надралась как свинья.
– Сейчас принесу попить.
Он вышел, скоро вернулся с большим стаканом воды и поставил его на прикроватный столик. Присел рядом.
– Выпей. Сразу станет лучше. Скоро вернусь проведать.
Этого я и боялась.
– Не надо, Сэм. Не приходи. Сама справлюсь.
Тело его сразу напряглось.
– Понимаю.
Он встал и повернулся к двери:
– Спасибо за трах, дорогая леди Чаттерли. [23]23
Леди Чаттерли – героиня романа Лоуренса «Любовник леди Чаттерли», впервые опубликованного в 1928 году в Италии, поскольку в Великобритании до 1960 года роман был запрещен. Книга вскоре получила скандальную известность, поскольку в ней рассказывается о любви между женщиной-аристократкой и мужчиной низкого происхождения, содержится много подробных описаний любовных сцен и непечатной на то время лексики.
[Закрыть]
Тяжелые шаги застучали вниз по лестнице, с грохотом захлопнулась входная дверь.
Генри
Он посылает записку мистеру Коллинзу о том, что собирается отправиться в экспедицию по сбору местных редкостей и навестит его в деревенском доме позднее. Этот немец, Шлау, много раз уже проделывал этот путь и будет его проводником. Генри понимает, что нашел идеального товарища для путешествия: Шлау почти не раскрывает рта, похоже, совсем не способен к человеческому общению, и тем не менее в природных условиях этой страны чувствует себя как рыба в воде. Заглянув как-то к Шлау в музей за несколько дней до отправления, он находит таксидермиста сидящим на полу мастерской; брови его озабоченно нахмурены.
– Что станется с моими друзьями, когда меня не будет, – тревожно говорит немец. – Боюсь, они все погибнут.
Генри подходит ближе. Шлау сидит, прижавшись спиной к стенке, а перед ним в куче грязи на полу ковыряются три больших зеленых попугая. Перья их как бы слегка припорошены снегом, лицевые диски придают им сходство с совой. Генри делает еще шаг ближе, они вздрагивают, но, с опаской поглядев на него, продолжают прежнее занятие.
– Что это за птички? – спрашивает Генри.
– Какапо. [24]24
Какапо, или совиный попугай – ночная, нелетающая птица, водится только в Новой Зеландии.
[Закрыть]Днем они обычно спят, вон там, в углу, прячут голову под крыло и спят. Я поймал их во время своей последней вылазки, хотел за ними понаблюдать, но теперь, думаю, узнал все, что хотел знать. Мертвые, они принесут мне больше пользы. За них можно получить хорошие деньги.
– Неужели вы к ним не привязались? Они же у вас совсем ручные.
Шлау пожимает плечами.
– Да нет, не очень. Ну, да, ручные, но особенной привязанности ко мне сами не демонстрируют. Я для них – просто существо, которое снабжает их кормом. Нет той преданности, как, например, у моей собачки.
Словно отвечая на вопрос Генри, одна из птиц прыгает на спину другой и начинает царапать ее; обе издают крик, который больше похож на верещание зайца, а уж никак не птицы. Шлау кое-как поднимается на ноги, отступает назад и любуется ими. Жертве удается скинуть противника, и они начинают драку, наскакивая друг на друга и стараясь нанести удар довольно острыми и крепкими когтями. Одна из них падает на спину и в этой позиции отбивается от агрессора, но тот скоро теряет к ней интерес и снова принимается ковыряться в грязной куче. В комнате опять воцаряется тишина.
– Поразительно, – говорит Генри.
Он чувствует, что ему оказали честь, позволив наблюдать, как общаются эти птицы, которые совершенно естественно ведут себя в этой полутемной комнате.
– Сами видите, я не могу просто так взять и бросить их здесь, – говорит Шлау. – Не дай бог, поубивают друг друга, что тогда делать с их трупами? Никакой пользы. Уж лучше я убью их сейчас, пока мы не отправились, так они хоть не пропадут. Заткните-ка уши, сэр.
И с этими словами он берет ружье и стреляет в своих не подозревающих опасности питомцев. Наповал.
Выезжают они верхом, город остается позади, они долго едут по равнинной местности. Как и ожидалось, Шлау всю дорогу молчит, разве только с собакой своей по кличке Брут, черного окраса лабрадором, который весело бежит рядом, перекидывается парой слов. Когда они устраивают привал, чтобы отдохнуть и перекусить, Шлау крепко обнимает собаку и что-то шепчет ей на ухо. Интересно, думает Генри, сможет ли он так же спокойно и холодно пристрелить эту собачку, когда она постареет и станет ему бесполезна. Нет, пожалуй, вряд ли. Шлау рассказывает, сколько собак он перепробовал, гончих пород, которые пожирали птичек, которых им положено было приносить, или убегали и никогда больше не возвращались. А вот Брут, что ни говори, уже тысячу раз отработал свое содержание, отыскивая трофеи и принося их хозяину, защищая хозяина от грозящей опасности. Генри и сам чувствует себя с ней спокойнее: он не подумал о том, что экспедиция может подвергнуться угрозе. Он ведь знал, что в этой стране нет опасных животных, а вот человека во внимание он не принял.
Как хорошо, думает он, путешествовать на лошади. Поскрипывает седло, животное шагает уверенно, несмотря на груз, который она несет на себе: небольшую палатку, одеяла, плащ-палатки от дождя, запасную пару крепких сапог для лазания по скалам и другое снаряжение – компас, часы, барометр, скальпели, химические реактивы. Генри захватил запасную теплую одежду, поскольку они будут проходить через горы, вершины которых покрыты снегом. В его дорожных сумках оставлено место для образчиков живой природы, которые он намерен отыскать. Животных и птиц, которых он найдет, придется освежевать и обработать на месте, чтобы сохранить для дальнейшей обработки, а заодно снизить вес груза. За спиной у него винтовка, а в патронташе заряды самых разных калибров.
Первый день путешествия подходит к концу, солнце клонится все ниже, вокруг вздымаются горные вершины; Генри погружен в свои мысли. Оказавшись вдали от цивилизации, он ощущает то острое волнение, которого ждал: перед ним раскинулась новая, неизведанная страна, необъятная, с огромным небом над головой. Большая часть земель здесь очищена для сельского хозяйства, но до сих пор остается пустынной, незаселенной, крупного рогатого скота здесь нет, и подножия гор снова зарастают местным кустарником. Неподалеку шумит водопад, низвергаясь в темные воды озера. Их приветствует разноголосый птичий хор, таких странных криков прежде он не слыхал. Шлау указывает удобное место для ночевки, и они сворачивают с маршрута.
Ночь настолько ясная, что, несмотря на прохладу, Генри предпочитает спать без палатки. Шлау говорит, что он сошел с ума, но в столь экзотическом ландшафте Генри впервые в жизни, здесь нет зверей, которые могут напасть и сожрать человека, нет ядовитых насекомых и змей. Он лежит на плащ-палатке, подстелив под себя еще одно одеяло и накрывшись другим, а сверху просто накинув брезент палатки. Рядом горит, потрескивая, костер, свежий воздух омывает легкие и холодит лицо, он смотрит на яркие созвездия, обрезанные черными силуэтами окружающих гор. Некоторые созвездия он видит впервые, и этого одного достаточно, чтобы заснуть с блаженной улыбкой на губах.
Он просыпается, когда рассвет еще только брезжит на небе, его будит пугающая какофония незнакомых звуков. Лицо мокро от росы, мышцы одеревенели. Шлау и Брут все еще спят в палатке, но Генри решает встать и развести погасший костер, чтобы выпить чашку чая и согреться. Он слушает это странное птичье пение, в котором звучат и колокольные звоны, и звонкие переливы голоса, и даже некий ритмический треск. Он пытается представить себе этих птиц и надеется скоро увидеть их собственными глазами. И почему-то вспоминает Дору Коллинз, какой он видел ее в последний раз, тоненькую, прямую, как струнка, в вызывающей позе сжимающую в руке листовку. Ах, как хочется поскорее снова встретиться с ней.
Он сидит и пьет чай, как вдруг из кустов выходит птица и, ловко прыгая с камня на камень, приближается к нему. Светло-серое оперение, оранжевая бородка и черные ободки вокруг глаз, словно маска разбойника; она с любопытством смотрит на него, вероятно, прежде никогда не видела человека. Скоро к ней присоединяется и другая, она тоже скачет к нему, но уже опустив к земле крылья; самец, догадывается Генри, хотя обе птицы почти не отличаются друг от друга. Вторая кричит, крик ее похож на звук флейты, и чтобы не спугнуть их, Генри сидит, боясь пошевелиться.
Вдруг за спиной грохочет выстрел, он в испуге вскакивает и проливает горячий чай на колени. Обернувшись, видит, как Шлау стреляет еще раз, а когда снова смотрит туда, где только что были эти чудесные птицы, обнаруживает, что они неподвижно лежат на камнях. Брут бросается вперед, хватает обеих птиц и, осторожно сжимая их челюстями, несет хозяину.
Забыв про обожженные чаем ноги, Генри ощущает знакомое стеснение в груди. Кровь бросается ему в лицо. Кулаки невольно сжимаются, и, изрыгая проклятия, он идет к немцу. Собака бросает птиц к ногам хозяина и, оскалив зубы, прижав передние лапы к земле, злыми глазами смотрит на Генри. Услышав злобное рычание, Генри застывает на месте.
– Черт бы вас побрал, что вы наделали?
Голос Генри теперь звучит не так громко, он боится собаки.
Шлау опускает руку на ее ошейник и с вызовом смотрит на Генри.
– В чем дело, мистер Саммерс? Мы ведь идем собирать образцы живой природы. А вы сидите и любуетесь птичками. Кто-то ведь должен работать. Кокако [25]25
Кокако, или гуйя-органист, новозеландский скворец – птица из семейства новозеландские скворцы.
[Закрыть]теперь встречаются редко, особенно те, что водятся на Южном острове, у них оранжевая бородка, видите?
Он поднимает птиц и показывает Генри, словно тот сам этого еще не заметил.
– На Северном острове их больше, но там у них бородка синяя, – продолжает Шлау. – Вот теперь в моей коллекции будут и эти.
Объяснить что-то этому человеку Генри не в силах. Тогда он наклоняется и хватает с земли крупный камень. Шлау застывает как парализованный, Бруг отчаянно лает, но остается на месте. Генри с силой швыряет камень в костер. Красные уголья летят во все стороны и падают на его ложе, от которого идет дым. Он снова выкрикивает проклятие, еще раз видит, какой урон он нанес своему ложу, хватает котелок, чтобы залить тлеющие одеяла, понимая, что ведет себя глупо, и злясь на свое бессилие. Пламя гаснет, он поворачивается на каблуках и шагает к озеру. Обожженные горячим чаем ноги болят. Чтобы охладить ожоги, да и самому охладиться, он стаскивает одежду и бросается в ледяную воду озера. Долго стоит по пояс в воде и трет покрытое татуировками тело.
Макдональду он говорил, что татуировки ему нужны для того, чтобы помнить, и вот именно в такие минуты ему необходимо вспомнить свое прошлое, на мгновение забыть о том, где он находится и что с ним происходит. Вот здесь, на руке, изображен тигр, которого он поймал и свежевал сам; он уверен, что Шлау никогда не имел дела с таким зверем. Этот человечек занимается только птичками да мирными млекопитающими, какими-нибудь там горностаями и ласками или, как простой таксидермист, набивает чучела зверей, ради которых рисковали своей жизнью другие люди. Этот человек – эта немчура – пустое место, ноль без палочки. Он не знает, что такое палящее африканское солнце, он не выходил навстречу крокодилу или анаконде в джунглях Амазонки лишь для того, чтобы поймать хрупкую бабочку. Несчастный торгаш, что с него взять.
Кожа Генри посинела от холода, но ему не хочется показывать, что он замерз. Он оборачивается и смотрит на своего проводника. Шлау сидит на бревне, курит и наблюдает за ним. Видно, что он с любопытством разглядывает татуировки Генри, возможно, он прежде никогда не видел человека с картинками. Генри выходит из воды и поворачивается к нему спиной, твердо решив не отвечать ни на какие вопросы. Но немец молчит, он занят тем, что потрошит убитых кокако и бросает куски мяса своей чертовой собачке.
Они продолжают путь в глубь Южного острова, но переходы теперь делают более короткие, чем в первый день: подъем становится круче, а воздух по ночам все холоднее. Облака опускаются ниже, превращаются в густой туман, который, в свою очередь, превращается в проливной дождь. После неудачного начала Генри теперь способен собирать свою коллекцию. Однажды утром он просыпается и видит двух кеа, [26]26
Кеа – птица семейства попугаевых. Имя свое попугай получил из-за издаваемого им громкого крика: «Кеее-аа».
[Закрыть]зеленых горных попугаев, которые нахально прорвали в его палатке дырку, чтобы добраться до еды. Он довольно долго за ними наблюдает, а потом выстрелами из винтовки убивает. Еще ему удается подстрелить двух птичек-пасторов, или туи, [27]27
Новозеландский туи – птица из семейство медососовых, блестящего стального цвета. Водится в Новой Зеландии и отличается приятным пением и способностью подражать различным звукам и словам; считается лучшей певчей птицей Океании, легко приручается.
[Закрыть]как называют их аборигены, и маленького зеленого медоноса-колокольчика. Ночью он слышит пение киви, [28]28
Киви – бескрылые, нелетающие птицы.
[Закрыть]но его слепые поиски в темноте ничего не дают. Они со Шлау почти не разговаривают. Генри раздражает абсолютное отсутствие любознательности этого человека, а Шлау продолжает демонстративно разглядывать татуировки Генри, когда тот моется.
– Может, у вас есть какие-то вопросы? – спрашивает однажды утром Генри, обращаясь к Шлау, который сидит напротив и чистит винтовку. – Про татуировки?
– В общем-то, нет, – отвечает Шлау. – Я видывал и поинтересней.
– Здесь?
– Ну, да, у маори. Я знаю великих воинов, у них лица сплошь в татуировке, у них это называется «моко». У женщин тоже, только женщины делают татуировку на подбородке и губах. Но для них она имеет символический смысл. Не просто украшение, как у вас.
– Да что вы знаете о том, почему я делал эти татуировки? Что вы знаете о том, что я претерпел ради них?
Шлау смеется.
– Претерпел? Несколько крохотных уколов иголкой? А вы видели, что претерпевают маори, вы видели инструменты, которыми они это делают? Тут вам не ваши иголки, а настоящие резцы. Рисунок вырезают на лице, как на дереве. Вот где настоящая боль.
– Да что вы-то знаете про эту боль? – фыркает Генри.
– Ничего не знаю, дружище, совсем ничего. Я только видел инструменты и великолепный результат. Эти люди, что мужчины, что женщины, если у него на лице «моко», он и смотрит на тебя как бы свысока. Я это видел собственными глазами.
Шлау встает и идет к лошади, которая уже оседлана и готова в дорогу. Он роется в сумке и достает мешочек, перетянутый крепкой ниткой.
– Вот вы назвали себя коллекционером, верно? – говорит немец. – Посмотрите, не станет ли это прекрасным прибавлением к вашей коллекции?
Он передает полотняный мешочек Генри, тот осторожно открывает его и достает содержимое. Это вручную сделанные артефакты, прекрасные образчики, изготовленные умелыми, талантливыми руками, – отличный крючок для ловли рыбы, тесло из нефрита с таким острым режущим краем, что он сразу ранит палец. Достает и длинную кость с острыми зубьями по краям.
– Вот это, – говорит Шлау, – и есть инструмент татуировщика. Окунают в тушь, приставляют и стукают деревянной колотушкой.
– Где вы их достали? – спрашивает Генри.
Он вспоминает про иголку, которую похитил у Хори Чио в Японии, и думает, что этот инструмент маори действительно украсил бы его коллекцию.
– О, в моей коллекции много таких предметов, – говорит Шлау. – Кое-что выторговал у маори. Кое-что нашел в заброшенных «па». Так у них называются погребальные пещеры. Это было не очень трудно. Кстати, вас интересуют кости?
– Кости? Смотря какие. Я бы хотел добыть для своей коллекции кости моа.
– А человеческие? Древних людей. У меня есть две мумии и много разных костей.
– Где вы их взяли? Из захоронений?
– Пришлось повозиться, не дай бог. Между прочим, радость коллекционера заключается еще и в том, что он может бесконечно рассказывать про свои находки, как вы считаете?
Генри становится неловко, он ерзает на своем бревне. Шлау сейчас рисуется перед ним, пытается поставить себя на одну доску с Генри. Пускай потешится, думает Генри.
– Вижу, вам не терпится рассказать, как вы все это добывали, сэр. Продолжайте, пожалуйста.
Шлау пускается в долгое и путаное повествование с многочисленными отступлениями, которые никак не связаны с его рассказом. Генри удивлен: скажи-ка, этот немец так немногословен, но стоит его раззадорить, становится даже болтлив. Он уже ловит себя на том, что постукивает подошвой и нетерпеливо кивает, когда Шлау начинает размазывать, то вспоминая про красивую птичку, которую он увидел по дороге, то, путаясь и сбиваясь, пересказывая биографию человека, не имеющего отношения к теме разговора.
Вкратце рассказ его сводится к тому, что, закончив набивать чучела для коллекции музея и успев как раз к торжественному открытию, Шлау отправился в путешествие по Северному острову. Там он втерся в доверие к некоторым местным фермерам, у которых останавливался, а также кое к кому из племени маори, с которыми фермеры его познакомили.
– Понимаете, эти маори, – пренебрежительно говорит Шлау, – они доверяли мне, потому что я не англичанин.
И голос его при этом противно дрожит.
У них он купил кое-какие предметы, и по хорошей цене, но когда стал задавать вопросы про заброшенные в окрестностях «па», спрашивать, можно ли туда наведаться, маори явно насторожились.
– Они говорили, что это «тапу». Вы знаете это слово?
Нет, Генри не знает этого слова, хотя догадывается о его значении.
– Это святое место, его нельзя трогать. Они говорили, что тот, кто нарушит «тапу», заплатит ужасную цену.
– Цену? – переспрашивает Генри.
– Да, собственной жизнью. Ну, конечно, для суеверных маори этого достаточно, чтобы носа туда не совать, но такого человека, как я, это не остановит.
И вот Шлау решил нанести визит мертвым один, но случайно спугнул стаю речных птиц, и маори что-то заподозрили и стали прочесывать территорию. Чтобы спрятаться от них, он взобрался на дерево, а Брут залег в подлеске. Ему пришлось ждать до самой ночи, он знал, что маори с суеверным страхом относятся к темноте.
В захоронениях он добыл много драгоценных артефактов, которые, по его словам, просто валялись рядом с мертвыми телами – подходи и бери. Набрал и спрятал в лесу кости скелетов, в том числе несколько черепов и украшенную резьбой берцовую кость, а в ранец уложил найденные орудия труда и оружие, собираясь на следующий день, чтобы как можно скорей избавиться от улик, отправить все пароходом. Еще он отпилил вырезанную из дерева голову татуированного вождя со столба у одного из захоронений, тщательно собрав и выбросив в реку опилки.
Но на следующее утро его разбудил фермер, у которого он остановился. Из ближайшей деревни маори к нему явились вождь с колдуном и высказали перед смущенным фермером свои подозрения. Они попросили проверить сумку Шлау, но тот успел подготовиться. Как-то раз фермер случайно рассказал ему об одном поверье маори, будто бы ящерицы, а также некоторые насекомые являются защитниками мертвых, и маори их очень боятся. В жестяные банки для образцов он набрал пауков, сороконожек и ящериц, положил их в ранец, а потом незаметно открыл их, и кое-что из содержимого упало прямо под ноги колдуна. Насекомые поползли по нему, и оба маори в страхе бежали. Разъяренный фермер немедленно выгнал Шлау из дома, но немец был доволен своей добычей и отправился себе дальше.
– Вот вам результаты только одной экспедиции, – говорит Шлау. – Черепа, красивая берцовая кость и деревянная голова принесли мне кругленькую сумму, и с тех пор я не упускаю возможности разжиться подобным образом.
Генри потрясен рассказом о жульнических аферах этого человека, но вместе с тем не может не восхищаться его находчивостью. Возможно, он его недооценивал. Как раз таким хитрым и коварным и должен быть честолюбивый коллекционер, если хочет достичь успеха, особенно это касается артефактов, сделанных руками человека. Но для Генри понятия чести – не пустой звук. Ему было бы стыдно рассказывать подобную историю про себя, и он прямо говорит об этом Шлау.
Немец пожимает плечами.
– Вы так считаете? Ну, это ваше личное мнение.
Он с жалостью смотрит на Генри, и тот видит, что в глазах его испаряются последние остатки уважения к нему.