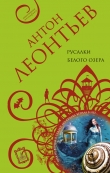Текст книги "Сорочья усадьба"
Автор книги: Рейчел Кинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Женщина, которую он полюбил, не моя бабушка, бабушкой мне стала его вторая жена. А первая утонула в реке. Тело ее не было найдено. Думаю, он был очень привязан к моей бабушке, но здесь и речи не может быть о большой и глубокой любви. А вообще-то, я полагаю, она просто побаивалась его, как и все мы. Нрава он был весьма крутого и был способен впадать в такую ярость, что домашние прятались от него по всему дому. К концу жизни приступы совершенно беспричинной ярости сделались еще сильней, и, если можно умереть от гнева, я бы сказал, что именно он его, в конце концов, и доканал. Он часто запирался от всех в комнате, где помещалась его коллекция, в своей кунсткамере, куда он никого никогда не пускал. Иногда, стоя у двери, я подслушивал, как он разговаривал сам с собой, а однажды услышал, как он плачет, снова и снова повторяя одно слово: „Дора, Дора“. Дорой звали его первую жену.
Я так до конца и не понял, почему он прекратил собирать свою коллекцию. Когда пропала Дора, он больше не покидал нашей страны и все силы отдавал ферме, которая потом перешла к моему отцу и ко мне.
Свою кунсткамеру мой дед завещал Британскому музею. Когда он скончался, отец нашел все упакованным в коробки и ящики и готовым к отправке по морю с указанием ни в коем случае не открывать, пока они не окажутся в музее. К несчастью, в пути все куда-то затерялось, и мы так и не узнали, что случилось.
Я хочу сказать, дорогая моя внучка, что тебе теперь принадлежат не только чучела животных, но и вся коллекция этого великого исследователя и великого человека. К сожалению, тебе не досталось лучшей части коллекции, что бы там в ней ни содержалось, но если ей суждено отыскаться, она по праву будет принадлежать тебе. Или, возможно, Британскому музею, тут я не вполне уверен. Поэтому, когда ты будешь смотреть на некоторые не очень привлекательные артефакты этого собрания, вспоминай о Генри Саммерсе. Я верю, что ты будешь знать, как с ними надо поступить.
И еще одно: я никому об этом не говорил, но теперь, после разговора с твоим отцом, знаю, что тебе это будет интересно: когда я был еще мальчишка, однажды подсмотрел, как мой дед купался в Сорочьем пруду. Увидев меня, он быстро оделся, но я успел заметить, что грудь и руки его были сплошь покрыты татуировкой. Меня это страшно потрясло, потому что татуировки в то время носили матросы и уродцы, выступающие в цирке. Но только не джентльмены. Возможно, теперь все по-другому, твой отец сообщил мне, что у тебя тоже есть подобные украшения на теле. Старики не всегда понимают молодежь, это в порядке вещей, поэтому не стану больше говорить об этом.
Не могу передать, что для меня значит иметь возможность оставить все это тебе, передать в твои руки. В те часы, которые мы с тобой провели у верстака, ты доставила старику много радости. И мне жаль, что дела не сложились для нас более благополучно.
Желаю тебе прожить долгую и счастливую жизнь, моя дорогая внученька. И да принесет тебе эта коллекция столь же много радости, сколько она принесла и мне.
Твой старый дедушка».
У меня было чувство, будто он стоит рядом в этой комнате, дышит одним со мной воздухом.
Кто-то сказал однажды, что невозможно до конца преодолеть постигшее тебя горе, ты просто продолжаешь жить, примирившись с ним. Иногда, оставаясь одна, я ни с того ни с сего начинала плакать, и так же быстро беспричинные слезы вдруг прекращались.
Теперь слезы прекратились не сразу, но я рукавом вытерла лицо и решила снова взглянуть на письмо. Почему оно такое коротенькое, почему дедушка не начал писать его раньше, почему он так мало рассказал мне про Генри? Теперь, когда все здесь находилось под угрозой исчезновения, мне вдруг страстно захотелось узнать как можно больше и об этом доме, и о человеке, который его построил, и о женщине, для которой он предназначался.
Но письмо сообщало мне четыре чрезвычайно важных факта. Первый: Генри потерял жену, тело ее не было найдено, и это породило слухи о том, что он просто избавился от нее. Не знаю, почему, но мне казалось, что они очень любили друг друга, что о такой любви можно только читать в книгах; сама я такой любви не знала. У меня на этом фронте были одни только неудачи.
Второй факт говорил о том, что он был очень вспыльчив. Третий – что у него была кунсткамера с диковинками и редкостями, которых никто никогда не видел. И четвертый – что он носил татуировку. И этот последний факт как бы скреплял мою связь с человеком по имени Генри Саммерс, моим предком.
Первую свою татуировку я сделала в семнадцатилетнем возрасте: на мягкой, эластичной коже с внутренней стороны моего предплечья курсивными буквами было выколото имя: Тесс. Над ним – лошадиная подкова, а внизу два слова: memento mori – помни о смерти. Моя бедная, худющая мама, разодетая в кашемир и увешанная золотом, не простила мне этой первой татуировки. Она назвала ее отвратительной и всегда требовала, чтобы я в ее присутствии прикрывала наколку; но для меня она была напоминанием о том, что все смертны, поэтому надо брать от жизни все, что можно. Разумеется, маме не нравились и последующие мои татуировки, но именно эта первая раздражала ее больше всего. Она просто хотела забыть.
«Безобразие», – ворчала она, натыкаясь на мертвых животных, которых я держала в домашней морозилке: звонаря, [11]11
Звонарь (лат. procnias) – род воробьиных птиц из семейства котинговые.
[Закрыть]которого нашла мертвым в бассейне, воробьев и мышей, которых приносила мне кошка. На них я тренировала и оттачивала свое мастерство таксидермиста. Мать говорила, что от меня за версту несет смертью, что ей порой страшно на меня смотреть.
Последнюю татуировку, уже десятую, я делала незадолго до приезда сюда. Это была сорока, простая сорока с расправленными крыльями. Роланд склонил свою тощую спину над моим запястьем, натягивая кожу между большим пальцем с надетым резиновым колпачком и указательным, а я ощущала только тихое жужжание, покалывание иголки и острый запах собственного пота, смешанный с всепроникающим запахом метилированного спирта. Между искусством татуировки и таксидермией есть нечто общее, а именно запах. Мастер-татуировщик пользуется этим спиртом для стерилизации инструмента. Таксидермисту он нужен для подсушки последних, неподдающихся кусочков плоти, чтобы отделить их от кости. Может быть, этот запах, сопровождавший меня в детстве, теперь заставляет меня снова и снова приходить в мастерскую татуиста.
Из письма дедушки с очевидностью выходило, что он ничего не знал о том, о чем и я узнала совсем недавно: в конце девятнадцатого века среди британской аристократии татуировки были в большой моде. И мужчины, и женщины толпами стекались в ателье татуистов Лондона, где, возлежа со всеми удобствами, отдавали свою кожу в распоряжение художникам иглы и туши. Принц Уэльский делал свою татуировку в Израиле, потом еще одну в Японии; своим сыновьям он посоветовал посетить того же японского мастера, и те были очень ему благодарны.
Меня часто спрашивают, больно ли делать татуировку. У меня на этот счет только один ответ. Конечно, черт побери, больно. Но это длится недолго, зато результат получаешь навсегда, поэтому последующее удовольствие с лихвой покрывает боль. Многие говорят, что это и не боль вовсе, что очень скоро слабая боль сменяется приятным щекотанием – кайф, да и только. Но я всегда ощущаю настоящую боль и все равно это делаю. Хуже всего, когда процесс проходит близко к кости, как, например, было, когда мне накалывали изображения альбатросов над грудью или где под кожей имеется пучок нервных окончаний. Некоторые доверчивые девушки делают татуировку на ягодицах, но там всегда процесс идет так больно, что тебя может стошнить. Одна моя знакомая решила сделать наколку на бритой голове и во время сеанса потеряла сознание. А потом опять отрастила волосы и никогда больше ее не видела.
Почти все наколки делал мне Роланд, он же почти задаром сдал мне квартиру над своей мастерской. Он рассказывал мне байку про девиц с голыми животами, которые полчаса стояли перед его витриной, хихикая и споря по поводу рисунков: ну никак не могли что-нибудь выбрать. А потом все заказали чуть пониже поясницы один и тот же рисунок, что-то абстрактное, словно племенное клеймо, и ему пришлось работать, как на конвейере. Роланд назвал эту наколку «шлюхина печать». Еще он не любил делать татуировку, когда человек не продумал как следует, чего он хочет; Роланд считал, что такой человек, скорей всего, пожалеет об этом и захочет потом уничтожить ее. Он отдавал должное кельтским татуировкам в виде нарукавных повязок в расцвет стиля «грандж» в девяностые годы, но предпочитал работать, когда ему приносили оригинальный рисунок, который можно было несколько упростить, стилизовать, или человек приходил к нему, зная, чего ему хочется, и они вместе, порой не одну неделю, сначала на бумаге вырабатывали окончательный вариант, пока не находили идеальный образ.
Лично мне хочется, чтобы мои татуировки производили впечатление ярких, живых, энергичных картинок и без какой бы то ни было «готики» или «тяжелого металла». Я предпочитаю либо уникальные композиции самого Роланда, либо старомодные «нашивки», какие делали себе матросы в самом начале двадцатого века: сердечко, трилистник, ленточка. Обожаю дух времени, который несут с собой подобные наколки, когда никто из женщин, кроме цирковых дам, татуировками не щеголял. Некоторые из моих татуировок откровенно женственны – летающие чашечки, яркие цветочки.
Роланд говорил, что ателье татуировок существовало здесь еще в те времена, когда дом только построили, то есть в восьмидесятых годах девятнадцатого века. Дом стоял совсем рядом с портом, и каждое утро я просыпалась под стон и скрежет огромных кранов, которые склонились над водой, как огромные насекомые-богомолы, разгружая стоящие у пирса корабли или нагружая их углем и бревнами, доставляемыми по железной дороге с западного побережья. В девятнадцатом веке таких кранов не было, но в порту все так же кипела работа, а моряки сходили на берег и отправлялись по кабакам и публичным домам в поисках приключений, которые хоть на краткий миг могли скрасить их однообразную жизнь. Когда Роланд вселился в это помещение, бывшее прежде лавкой скобяных товаров, и стал отдирать со стен обои, он нашел там слой, весь покрытый нарисованными от руки образцами татуировок, популярных в то время, например, корабли и якоря, морские чудовища и английские розы. Он хранил эти рисунки в специальном альбоме под прозрачной пленкой и однажды показал мне. Они выцвели от времени, бумага, на которой они были нарисованы, потемнела и засалилась, но все равно рисунки были прекрасно видны. Мне очень хотелось их потрогать, понюхать бумагу, которая, как мне казалось, была пропитана лампадным маслом и табачным дымом. Но надо мной стоял Роланд, и как только я перелистнула последнюю страницу, он забрал у меня альбом. В нижнем углу одного из рисунков он показал мне подпись. Для меня это были просто какие-то каракули, но он с уверенным видом заявил, что там написано «Макдональд».
Закончив с черным контуром сороки, он перешел к ее раскраске, и на этом этапе у меня пошла кровь. Он продолжал трудиться, вытирая ее тряпицей. Выколов бока птицы белыми чернилами, Роланд закончил работу. Даже на бледненькой, синеватой коже моего запястья птица смотрелась очень ярко. Линии рисунка вспухли и покраснели, но через несколько дней все должно пройти, нужно только два раза в день смазывать специальным кремом, чтобы не образовались струпья.
– Да знаю я весь этот ритуал, – сказала я в ответ на его инструкции, когда он закутывал мне запястье специальной пленкой.
– Все равно, я должен это сказать, – отозвался он. – А вдруг ты забудешь и придешь жаловаться, когда струпья отвалятся, и вся работа будет коту под хвост.
Он взял меня за локоть и поднес запястье к глазам.
– Неплохо получилось. А почему именно сорока?
– Потому что одна сорока – символ печали, – ответила я, выкладывая его гонорар за работу.
Чтобы перетаскать всю бакалею на кухню, а вещи – наверх, мне понадобилось сделать три рейса. Рука сильно побаливала, но сорока на ней осталась неповрежденной. Красную комнату я определила себе как спальню, а остальные пять оставила в покое. Комнатка была не из самых больших, прежде она служила спальней для дедушки с бабушкой, и в ней стояли две односпальные кровати с продавленными пружинами, зато она была самая теплая: здесь имелся свой камин и окна выходили на северную сторону, так что ее освещали лучи зимнего солнца.
Я распаковала ноутбук с принтером, папки с бумагами и выложила все на дубовый стол, стоящий подальше от окна. Глядя на романы, что мне предстояло проанализировать, я мысленно заверила себя, что я сделала все правильно. Вот Джейн Эйр, например, ни за что не согласилась бы стать любовницей Рочестера, как и не согласилась бы выйти замуж за Сент-Джона Риверса. Она была бы счастлива и одна, если бы, к счастью, не случился пожар, покончивший с Бертой. Что подобное может случиться с женой Хью, я не могла себе представить, а даже если бы и могла, то не желала бы ей такого.
Я повесила одежду в шкаф – пару платьев и тяжелое пальто, которое мне случайно попалось в магазине Сент-Винсент де Поль рядом с университетом. Закрыв дверцу шкафа, я увидела себя в большом зеркале: глаза запавшие, личико бледное, губы сморщились от обезвоживания. Ну и видок. Слава богу хоть на щеках не видно следов туши от заплаканных глаз – приняв решение переехать сюда, я не очень заботилась о том, чтобы чистить перышки. Черная челка на моей короткой, круглой стрижке, вместо того чтобы после сушки феном лежать на лбу ровненько, торчала во все стороны. А одетая с ног до головы в черное, я выглядела так, словно только что вернулась с похорон. Я пощипала себя за щеки, чтобы на них появился какой-никакой румянец, дыхнула в сложенную чашечкой ладонь, проверяя запах изо рта с нечищеными зубами. В принципе, не смертельно.
Ко мне уже начал подбираться знакомый холод, всегда царивший в этом доме. Я включила старинный панельный электрообогреватель с облицовкой под дерево, он щелкнул и загудел. Потом легла на кровать, натянула на себя пахнущее плесенью стеганое пуховое одеяло и стала ждать, когда закончится этот длинный день.
Генри
Он коллекционирует чудеса, сновидения, а иногда настоящие кошмары. Малых какаду с зеленовато-желтыми хохолками, зеленых кузнечиков, экзотические морские раковины, морских звезд и бабочек с красивым названием Морфо менелай. [12]12
Морфо менелай (лат. morpho menelaus) – вид бабочек с яркими, темно-синими, металлического блеска крыльями.
[Закрыть]В коллекции его полно сокровищ, собранных им во время путешествий по всему свету. Оружие дикарей, фантастические драгоценные камни, радужные змеи, хранящиеся в специальных банках. Животные, растения, минералы. У него даже есть русалка: высушенная, мумифицированная, ростом ему по пояс. Он, конечно, не столь глуп и прекрасно понимает, что это подделка, смонтированная каким-то жуликом из останков обезьяны и рыбы, но она настолько похожа на настоящую, что ей тоже нашлось место в его удивительной кунсткамере.
Коллекцию свою он собирал всю жизнь. Он давно не помнит о том, что надо делать карьеру, заниматься, как говорит отец, реальным, полезным делом; но какой в этом смысл, считает он, когда он вносит столь огромный вклад в дело познания человеком мира и самого себя, когда его путешествия доставляют ему огромное удовольствие и новое знание, понимание значительности своей личности во вселенной, как, впрочем, и собственной абсолютной ничтожности?
Его кунсткамера расширилась и изменила вид, она теперь включает в себя и его собственное тело. Теперь он коллекционирует настоящих, нежных и женственных русалок, драконов и фей – невиданных прежде существ. Чернила, вбитые ему под кожу острой иглой.
Первую татуировку он приобрел в Японии, поддавшись уговорам друга и товарища по путешествиям, Джорджа Нортона, которому прежде всего хотелось своими глазами увидеть работу мастера, делавшего татуировку принцу Уэльскому, а потом и его сыновьям. Генри ярко и во всех подробностях помнит этот день: обнаженный по пояс, он лежит на полу, ощущая спиной прохладу шелковых подушек. Фонарики освещают помещение мягким светом, это теплое, карамелевое освещение как бы окутывает его полуобнаженное тело со всех сторон. Хори Чио, мастер своего дела, крепко держит его за руку, пальцами натягивая кожу там, куда наносит рисунок. Боль успокаивает его. Ярость, охватившая его – неожиданная, до белого каления, чуть было не прорвавшаяся, ему едва удалось ее подавить, когда Джордж протиснулся впереди него и рассмеялся прямо ему в лицо, при первом уколе иголки эта ярость улеглась. Раз, раз, раз, укол за уколом, размеренно, как бой метронома, Чио знай только меняет иголки, как того требует толщина линии или цвет. Да эти иголки сами вполне достойны попасть в его коллекцию – из слоновой кости, украшенные искусной резьбой, – и когда Чио заканчивает работу и отворачивается, Генри потихоньку кладет одну из них в карман; потом он забудет про нее и проткнет большой палец, и будет много крови, зато воспоминание об этом навсегда останется ярким. Он станет сгибать руку, и дракон будет шевелиться, двигаться. И он будет любоваться им, двигая рукой, этим живым, раскачивающимся драконом.
Высадившись на берег Новой Зеландии, первым делом он находит мастера татуировки, о котором рассказали ему на корабле. В нерешительности стоит у двери в его студию, проверяя адрес, записанный на бумажке. Он называет это место студией, потому что так подобное заведение называется в Лондоне, хотя заведение больше похоже на сомнительного сорта лавчонку. Внутри царит полумрак, он едва различает очертания предметов. В углу шевелится и вздыхает, как морской слон на скале, чья-то огромная фигура. В комнате накурено, хоть топор вешай, и в темноте горят красные угольки, неожиданно вспыхивая и лишь на мгновение освещая лицо лежащего, снова канущее в темноту.
– Здравствуйте…
Левиафан неуклюже поднимается на ноги, кивает и берет в руки лампу. Это мужчина, он протягивает лампу вперед, освещая пространство между ними. Удивление на его лице сменяется ожиданием, он пожимает плечами.
– Да?
Он сплевывает на землю.
– Сэр, мне сказали, что здесь делают татуировки.
– Кому?
– Гм… мне.
Мужчина делает неверное движение корпусом вперед, и обеспокоенный Генри шаг назад. У этого парня огромные, заросшие седеющей щетиной щеки, круглый живот и распухшая нижняя губа, словно он только что с кем-то дрался.
– Плата почасовая. Я сделаю вам собственный рисунок, – широким жестом он обводит комнату, – или покажите мне свои, и я посмотрю, что можно из этого сделать.
Голос у него тусклый, словно он весь день уже стоит на углу улицы, продавая завалящий товар – какие-нибудь апельсины.
Генри решает сначала посмотреть его рисунки. Татуировщик зажигает еще одну лампу, и Генри видит, что покрытые плесенью стены украшены пришпиленными листками бумаги, покоробившимися от влажного воздуха. Некоторые наброски очень просты, всего несколько линий, от других дух захватывает – настолько они сложны и замысловаты. Много образов, связанных с морем: якоря и корабли, рыбы, дельфины и морские чудища. В этом порту, куда каждый день заходят корабли, выгружая на берег грузы и своих обитателей, видимо, основные клиенты – матросы. Но есть и другие изображения: цветы, лица красавиц, которые смотрят прямо тебе в глаза. Может быть, лица возлюбленных, давным-давно покинутых на родине, которым суждено либо ждать, либо выходить замуж, кто знает?
Дальше – мотыльки, зеленые, желтые… черные бабочки папилио и бабочки-белянки… впрочем, вряд ли клиентам есть дело до их названий. Потом библейские сцены: распятие Христа и Тайная вечеря.
Этот человек – настоящий художник. Дураку понятно с первого взгляда. Ему бы сидеть в лондонском ателье или студии, не в темном полуподвале, в атмосфере, пропитанной запахом пота и заплесневелого табака, а в интерьере с пальмами в бочках и персидскими коврами, ярко освещенном электрическими лампами, с шелковыми подушками и шезлонгами. Он мог бы пользоваться покровительством настоящих джентльменов, да-да, даже титулованных, да и дам тоже. Господи, перед тем как покинуть Англию, он видел татуировку на запястье леди Уэнтуорт, и она не прятала ее, наоборот, подняла браслет повыше, чтобы все видели ее маленькую птичку счастья, порхающую на коже ее руки. И если его работа на живом материале так же хороша, как и его рисунки, он мог бы иметь огромный успех. Уж кто-кто, а Генри знает, сколь высоко должно быть мастерство, чтобы перенести произведение искусства на человеческую кожу.
– Как тебя зовут, дружище? – спрашивает Генри.
– Макдональд, – отвечает татуировщик.
– Ты настоящий художник, ты хоть сам это знаешь? Ты не просто татуировщик.
Человек что-то мычит, смеется, сплевывает.
– Это называется тату ист. Художник, татуировщик. Татуист.
– Да, – говорит Генри. – Начнем?
Он достает из кармана карточку с нарисованной розой. Сколько бы он ни путешествовал, в каких странах ни побывал, Англия всегда останется его родиной.
Этот человек нетороплив, зато педантичен. Когда попадает слишком много розовой туши, он тщательно ее вытирает. Каждый укол продолжает предыдущий, и скоро вся грудь Генри ликует и поет.
– Таких, как вы, у нас тут мало, – говорит Макдональд.
За работой он непрерывно курит. Инструмент его выглядит неказисто, кусочки металла, скрепленные вместе, чтобы загонять тушь под кожу, но он держит его так, словно у него в руке самая дорогая авторучка.
– Таких, как я?
– Джентльменов. То есть были у нас тут несколько, все из Лондона. Все уже не по первому разу. Дракон укусил.
– Дракон? Не слышал такого выражения.
Он усмехается.
– Это потому, что я сам его придумал. Заказали по одной наколке, может, просто на память, теперь это, понимаешь, модно. Все слышали про принца и про дракона, которого тот сделал в Японии. И для начала все тоже хотели такого. И только потом хотели еще. Как зараза какая-то. Впрочем, стоит только в Новой Зеландии зацепиться, осесть, обратно никто не возвращается. А здесь это не очень-то в моде. Местные были бы в трансе.
– Спасибо, что предупредил. Но мода меня теперь мало интересует.
– Тогда зачем вам это? – Макдональд на секунду прерывает работу, держа на весу кисть.
– А тебе? – парирует Генри.
Татуист снова усмехается.
– Это уж у меня к крови. Мой папаша был моряк, и он привез татуировки из далеких романтических земель на юге Тихого океана. Я в жизни не видел ничего красивее, я говорю про эти наколки. Я понял, что хочу сам научиться делать такое. Чтобы хорошо получалось. И вот приехал сюда.
Он сплевывает на пол.
– Не совсем то, чего я ожидал, – говорит он, – но я так думаю, теперь это мой дом. Теперь ваша очередь.
– Мне это нужно, чтобы помнить, – отвечает Генри.
Позже он кладет руку на грудь, чувствует, как она придавила его розу, цветущую как раз на сердце. Держит руку на груди, а сам смотрит в окно на вылизанную лужайку и сад мистера Коллинза, который предложил познакомить его с местным обществом. У него такое чувство, будто его обманули. Его привела сюда надежда, что его встретит страна дикая, неосвоенная, где он познакомится с удивительной природой и потрясающими аборигенами, но этот город – жалкая копия обыкновенного английского городишки. Он любит Англию и хочет когда-нибудь туда вернуться, но стоило ли ехать на край света, чтобы увидеть здесь точно такие же деревенские праздники и шикарные магазины, точно такую же ровно подстриженную травку и такие же клумбы? Где же здесь искать необыкновенных приключений?
Он подавляет в груди вспышку раздражения и, положив на стекло окна другую свою, узловатую, морщинистую руку, внимательно разглядывает на ней борозды и шрамы. Потом резко убирает ее, оставив на затуманенном дыханием стекле морскую звезду отпечатавшейся ладони. Сквозь него ему видна поразительно яркая зелень сада после дождя, немного смазанная дефектом стекла. В тот день, два месяца назад, когда он двинул кулаком по стеклу, лужайки были вылизаны и подстрижены, а равно и кустики с деревьями; теперь же, казалось, вид из окна немного другой.
Он был тогда на приеме, который отец его устроил в честь его сестры. Он выпил много вина, пожалуй, слишком много, и ярость охватила его неожиданно, как, впрочем, и всегда. Он физически ощущает ее приближение, когда она пробегает по телу, так что в глазах становится темно. Реакция всегда выражается телесно: ударом кулака или ноги, но иногда и словесно, работает только язык, извергая такие слова и выражения, что он и сам не подозревал, что на это способен.
К боли он относился спокойно – чего только ни приходилось выносить прежде. Грубо сшитые раны на руках казались ему удивительно красивыми. Кожа вокруг заживших шрамов становилась желтовато-багровой.
Стоя у окна и зажав пальцами запястье, где сквозь рукав проступала кровь, он поймал на себе взгляд мисс Прингл, и она отвернулась, покраснев от злости. Гнев его сразу испарился, прошел, одновременно прекратилось и кровотечение. Он едва ли помнил, что именно вывело его из себя, понимал только одно – что потерял мисс Прингл навсегда, но это уже мало его волновало.
На следующий день отец позвал его в свой кабинет и, не глядя ему в глаза, протянул чек.
«Я решил профинансировать твою следующую экспедицию, – сказал он. – В Новую Зеландию. И пока ты там остаешься, будешь продолжать получать деньги».
Больше он ничего не сказал, но в словах его Генри послышалась явная угроза. Отец не намерен больше терпеть его образ жизни. И если Генри хочет получать содержание, он должен забыть, что Англия – его родина.
Это все, что он пока знает про Новую Зеландию. Что с временами года здесь все происходит наоборот (август – зимний месяц!), что здесь грязный порт, в котором живет татуист, что до города добираться недолго – на поезде через тоннель, что сам городишко построен по кальке с английских городов, с плакучими ивами вдоль петляющего ручья (его называют рекой, но на самом деле это узенькая струйка воды), новехонькими деревянными домами вперемешку с традиционными – из камня и кирпича, что здесь растет много дубов и что здесь на удивление добродетельное общество с непременным вечерним чаем, танцевальными вечерами и церковной службой. Цветочки, с маниакальным оскалом распустившиеся в городских и частных садах, названы в честь английских графств.
А сейчас морская звезда отпечатка руки на оконном стекле и прием в его честь. Он должен вести себя благовоспитанно. Надо завести знакомство с важными, нужными людьми, мистер Коллинз пригласил директора музея, который в свою очередь познакомит его с местными коллекционерами и таксидермистами. Если повезет, директор захочет купить кое-что из его образчиков, что он привез с собой, а может быть, будет приобретать и те, что он добудет, путешествуя по стране, по этой труднопроходимой земле, которую он должен увидеть своими глазами и убедиться, что она все-таки существует.
Прибывают гости, слуга объявляет их имена, и он отходит от окна. Кажется, все жаждут познакомиться с ним, услышать новости с родины; особенно поражают дамы, довольно вульгарные, но им так хочется узнать, не отстают ли их наряды от лондонской моды. У него не хватает смелости сказать им правду, и, добившись от него комплиментов, дамы одна за другой, сияя, отходят.
Он дает себе слово мужественно стерпеть все, и после того как вторая порция бренди благополучно ложится на стенки желудка, он чувствует себя развязнее. А когда к нему подходит мистер Коллинз с юной дамой под руку, он даже испытывает удовольствие.
– Позвольте познакомить вас с моей дочерью Дорой, – говорит хозяин.
– Мисс Коллинз. Очень приятно.
Генри секунду держит ее руку в своей. На ней длинные перчатки, почти до локтя, прохладная ткань. Она не похожа на остальных женщин. Не говорит глупостей и банальностей, не хихикает, и взгляд ее, кажется, проникает до самого сердца и заливает краской его лицо, будто ей сразу стало известно про его последнюю татуировку. Темно-серые глаза и светлые локоны, похоже, не завиты, а наоборот, слегка даже расправлены.
– И как вам понравился наш городок, мистер Саммерс? Боюсь, после Лондона вам здесь покажется скучно.
– А вы бывали в Лондоне? – спрашивает он.
Она смотрит на отца, и тот отвечает вместо нее:
– В прошлом году я свозил Дору в Англию, тогда и познакомился с вашим отцом. Путешествие туда и обратно длилось не меньше, чем все наше пребывание здесь. Мы от него сильно устали. Лондон Доре очень понравился, но, признаюсь, в моем возрасте Новая Зеландия нравится мне все больше.
Ему еще не больше сорока пяти, прикидывает Генри.
– Не сомневаюсь, – обращается он к мисс Коллинз, – что вы идеально вписались в тамошнее общество.
– Не надо мне льстить, мистер Саммерс. У меня нет никаких иллюзий, я знаю, что меня, как и должно, принимали за обыкновенную девушку из колоний.
Она искоса смотрит на отца, который сейчас отвернулся, чтобы перекинуться парой слов с каким-то вывернувшимся у его локтя человеком. Дора хитренько улыбается, словно ей удается ловко совершить какой-то проступок, наклоняется к нему и понижает голос.
– Простите, – почти шепчет она, – у вас вот здесь что-то прилипло.
И прикасается к своей губке, одновременно опуская глаза, будто ей неловко смотреть на его лицо в тот момент, когда он снимает с губы крошку еды.
– Спасибо, – говорит он. – Люди обычно столь деликатны, что я мог бы ходить с этим часами.
Она краснеет. Он мысленно казнит себя за то, что неловко выразился: она может подумать, что он считает ее неделикатной, тогда как он, напротив, хотел сказать ей комплимент. Да-да, вдруг осеняет его, из всех женщин здесь только ей хотелось бы искренне сказать комплимент. Он открыл было рот, чтобы оправдаться, но она останавливает его, делая пальчиками так, будто брызгает на него водой. Святой водой.
Мистер Коллинз уводит ее, и к нему подводят Герца, директора музея; после официальных представлений они углубляются в долгий разговор о путешествиях и искусстве коллекционера. Пару раз он поднимает взгляд и видит, что Дора смотрит на него, но оба раза быстро раскрывает веер и заслоняет лицо, делая вид, будто обмахивается. В этой тесной зале становится невыносимо жарко.
Вопреки сомнениям, прием оказался исключительно плодотворным. Герц обещал организовать путешествие по Южному острову с проводником по имени Шлау, немцем, набивающим для музея чучела местных животных и птиц, которых уже собралась приличная коллекция. Генри заранее волнуется, предвкушая приключения, возможность узнать подробности жизни птиц, которых он никогда не видел. Он ощущает в некотором роде жажду крови, и рот его наполняется слюной.