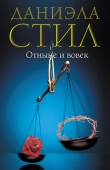Текст книги "Отныне и вовек"
Автор книги: Рэй Дуглас Брэдбери
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
Перед картиной уже стоит какая-то девушка; она оборачивается – и он узнает в ней свою невесту.
У него на глазах она начинает взрослеть, стареть, а сама говорит ему:
– Как ты изменился.
А он ей:
– Что ты, ничуть я не изменился.
– Прямо не узнать. Ты пришел проститься.
– Нет, всего лишь решил тебя повидать.
– Это ложь, ты пришел проститься.
Он не сводит с нее глаз: она вконец одряхлела, а он, как ребенок, стоит перед знакомым полотном и не знает, что сказать.
И вдруг она исчезает.
Тогда он выходит из музея и на лестнице встречает человек семь-восемь своих приятелей.
Старея у него на глазах, они твердят то же самое:
– Ты пришел проститься.
– Да что вы, – повторяет он, – ничего подобного.
С этими словами он, молодой парнишка, разворачивается, бежит обратно по ступеням – и среди старых картин сам превращается в старика.
Тут он проснулся.
Глава 29
Он долго сидел и слушал, как в трубе завывает ветер, а по крыше барабанит дождь.
Старый дом со скрипом опустился в глубокий ночной мрак, а потом сдвинулся с места и уплыл далеко-далеко от земли и света.
На стенах крысы учились письменам, а пауки перебирали струны арфы, но уловить такие высокие ноты могли разве что подрагивающие волоски у него в ушах.
«Одно потеряешь, другое найдешь, – размышлял он. – Что-то покинешь, к чему-то придешь».
«Что же выбрать?» – крутилось в уме.
«Думай, – подхлестывал он. – Что выбрать? И ради чего?»
В голове – ни просвета. Ни отзвука.
Только шепот:
Спать.
И он заснул, выключив свет позади своего взора.
Его сны прервал паровозный гудок. Скользя в ночи, поезд петлял на поворотах, мчался стрелой по озаренным луной перегонам, вздымал пыль, высекал искры и будоражил эхо, а он дремал, запрокинув голову, и вдруг к нему сами собой пришли знакомые слова:
Губы сулят бесконечность,
Руки сулят тепло.
Единственной ночи вечность —
И старости время ушло.
Пей бесконечности брагу,
Вечность губами лови,
Найдешь и мечту, и отвагу,
И тысячу ликов любви.
Он даже вскрикнул во сне. Нет! А после: «О боже, да!»
И последние строчки скрепили его сон:
Где-то играет оркестр,
И трубы его слышны
Подсолнухам и матросам
На службе чужой луны.
Потом наступило пробуждение. Губы выдохнули:
Где-то играет оркестр.
Кто слышит, тот вечно юн.
И в танце кружится с ветром
Июнь… И опять… июнь.
До прибытия поезда оставалось совсем немного. На пути высились лишь какие-то взгорки. С первыми лучами солнца он понял, что передумал.
Рассвет за окном полыхнул кроваво-красным, город залился прощальным румянцем, а погода сделалась такой прихотливой, что и через тысячу дней не забудешь.
Он пошел бриться, увидел в зеркале над раковиной свое лицо, и глаза наполнились неизбывной тоской.
На завтрак подали гору блинчиков, но он к ним не притронулся.
Неф, сидя напротив, заметила то, что сам он видел только в зеркале, и отстранилась.
– Все раздумываешь? – спросила она.
Он сделал глубокий вдох. Даже в это мгновение ему было невдомек, какие слова слетят у него с губ.
– Оставайся, – сказала она, не дав ему ответить.
– Я бы с радостью, но не могу.
– Оставайся.
Тут она подалась вперед и взяла его за руку.
И веяло от ее пальцев теплом, а от его пальцев – холодом. Она, словно божество, склонилась над могилой и протянула туда руку, чтобы его вызволить.
– Пожалуйста.
– Сколько можно! – вскричал он. – Оставь меня в покое, Богом прошу! – Его сотрясали невидимые взгляду рыдания. – Как ты не понимаешь? Ну не создан я для того, чтобы презреть старость.
– Откуда тебе знать?
– Да это всякий знает. Мой удел – прожить лет до семидесяти и умереть. Потому что тяга кончится. Огонь жизни, доброе пламя всегда рвется вверх, в печную трубу. А грехи, обиды и прочая грязь оседают в дымоходе, как сажа. От копоти дымоход забивается. На меня налипло слишком много сажи. Как можно прочистить свою душу?
– Ершиком, – сказала она. – Доверься мне, я прочищу и отскоблю этот дымоход, чтобы ты снова научился смеяться. Я знаю, как это сделать, ты положись на меня.
– Этого не будет.
– Понятно, – негромко сказала она. – Ты, как я погляжу, просто струсил. Господи, у меня даже глаза щиплет. Но плакать нельзя. Прощай.
– Я еще не ухожу.
– Зато я ухожу. Не хочу смотреть тебе вслед. Ты возвращайся когда-нибудь.
– А сама считаешь, что я не вернусь?
Она кивнула, не размыкая век.
– Прости, – сказал он. – Трудно решиться. Не знаю, готов ли я жить до ста с лишним. Не поручусь, что другой бы на моем месте запрыгал от радости или хотя бы ответил согласием. Все дело в том, – продолжал он, – что уж очень мне будет… одиноко. Идти по жизни без тех, кто был рядом. Видеть, как последний из твоих друзей сходит в могилу.
– У тебя появятся новые друзья.
– Старый друг лучше новых двух. Друзей не меняют.
– Это верно. Друзей не меняют.
Она покосилась на дверь.
– Если ты все же решишь вернуться и нас разыскать, долго не тяни.
– Иначе ничего не выйдет? Понимаю. До старости откладывать нельзя. Когда нужно принять решение: лет до… пятидесяти?
– Ты просто возвращайся – и все, – сказала она.
И ее место вдруг опустело.
Глава 30
У перрона, прямо на рельсах, лежали подсолнухи. Кто-то его опередил: может, Элиас Калпеппер, может, кто другой – поди знай.
На этот раз поезд сделал остановку; в вагоне, покупая билет, он заговорил с проводником:
– Узнаете меня?
Тот пристально изучил его черты, нахмурился, вгляделся еще раз и сказал:
– Что-то не припоминаю.
Поезд запыхтел и тронулся, оставляя позади город Саммертон, штат Аризона.
Глава 31
Пролетев через ровные кукурузные поля, за горизонт, вдоль водной глади, поезд достиг большого, шумного города на озерном берегу.
Глава 32
Поезд, прибывший направлением с востока, не задумывался о пространстве и времени: он только сбавил ход, чтобы проследовать без остановки эту местность, примечательную лишь пыльными ветрами, колючками, ворохами прошлогодней листвы да накрошенной билетным компостером россыпью конфетти, которая приветственно взмыла в воздух и плавно опустилась на землю.
Между тем по обветшалому перрону запрыгал, как серфингист на песчаной волне, знакомый саквояж, а следом – в акробатическом прыжке, с торжествующим криком – приземлился, хотя и качнувшись, но не переломав ноги, его владелец в измятом летнем костюме.
– Ай да я!
Он подхватил обшарпанный саквояж, вытер лоб, оглядел безлюдную местность и задержал взгляд на стойке для писем, торчавшей в конце платформы. В стальном зажиме белело единственное послание, и он поспешил в ту сторону, чтобы высвободить конверт из почтовых тисков. На конверте стояло его собственное имя. Тогда он повернул голову в одну сторону, в другую, пристально вгляделся в тридцать тысяч акров, продуваемых пыльными ветрами, – и не обнаружил ни одной дороги, которая вела бы в это богом забытое место или куда-нибудь прочь.
– Вот так раз, – пробормотал он. – С возвращеньицем. Выходит…
Распечатав конверт, он начал читать:
Здравствуй, Джеймс.
Выходит, ты снова здесь. Чему быть, того не миновать! Но со времени твоего отъезда многое изменилось.
Ненадолго прервавшись, он еще раз обвел глазами унылую аризонскую пустыню, где некогда стоял городок Саммертон.
Потом вернулся к письму.
Когда ты это прочтешь, нас уже здесь не будет. Останется только песок, а на нем следы, да и те скоро заровняет ветром. Мы не стали дожидаться прибытия дорожной бригады и техники. Просто снялись с места и растворились. Доводилось ли тебе слышать, что вокруг маленьких калифорнийских городков прежде цвели сады? По мере того как из этих городков вырастали мегаполисы, апельсиновые рощи таинственным образом исчезали. А вот поди ж ты: в наши дни, если глянуть из окна машины в сторону гор, станет видно, что сады эти – ветром, что ли, их принесло – каким-то чудом переместились к предгорьям, зазеленели, разрослись вдали от бензиновых табунов.
Вот и мы так же, милый Джеймс. Мы – что эти сады. На протяжении многих лет наш слух по ночам улавливал приближение огромного удава – страшной, бесконечной асфальтовой змеи, которая почти беззвучно – не так, как бранятся и кричат соседи, не так, как рычат грузовик и трактор, а так, как шуршат рептилии, – с жутким вкрадчивым шипеньем приминала травы и бороздила пески; одна, никем не взнузданная и не погоняемая, она сама себе указывала путь и устремлялась к теплу живого тела, к человеческому очагу. Так вот: притягиваемая нашим теплом, она, как любая рептилия, грозила лишить нас покоя и согнать с насиженных мест. Нас давно посетило такое видение, задолго до того, как ты приехал с дурными вестями. Поэтому не терзайся. Чему быть – того не миновать, это лишь дело времени.
Много лет назад, милый Джеймс, стали мы готовиться к смерти нашего городка и к исходу горожан. Запасли сотни гигантских деревянных колес, неимоверное количество бревен, железные скобы.
Колеса, как и бревна, годами рассыхались под солнцем, сложенные на окраине.
А потом грянул трубный глас, нарушив твоими устами пир во время чумы; ты видел, как бледнели наши лица при каждом откровении. В середине твоей речи мне подумалось, что ты вот-вот отступишь, сломаешься и обратишься в бегство, преисполнившись нашей тревоги. Но ты остался. Договорил до конца. Мне казалось, ты упадешь замертво и не увидишь нашей гибели.
Ты поднял голову, а нас уже и след простыл.
Мы знали: у тебя в душе разлад, и поэтому я дала тебе единственное лекарство, которое знала, – свою заботу и слова утешения. А когда ты, не дожидаясь остановки, вскочил в тамбур дневного поезда и умчался прочь, мы поглядели на сложенные возле города железяки, деревянные колеса, припасенные для помостов бревна – и воображение нарисовало, как наши дома, амбары и сады перекочевывают в неведомую даль, чтобы никто уже и не заподозрил, что в этом месте некогда текла жизнь, которая больше не вернется.
Не правда ли, тебе ведь приходилось видеть одинокое бегство: дом, водруженный, словно игрушечный, на деревянный помост, плывет вслед за тягачом по городским улицам на отведенный для него пустырь, а на прежнем месте остается одна пыль? Умножь эту картинку на сто – и увидишь настоящий караван: это целый город с плодовыми деревьями в арьергарде ретируется к подножьям гор.
Такое вполне возможно. Однако к любому походу нужно готовиться: разрабатывать планы, завершать начатое, строить тысячи кораблей, выпускать десятки тысяч танков и пушек, сотнями тысяч делать ружья и отливать пули, штамповать миллионы касок, шить десятки миллионов кителей и шинелей. Как все это было нелегко и как пригодилось, когда грянула война, обратившая нас в бегство. Сегодня наша задача куда проще: снять с места город, поставить его на колеса и возродить заново.
Со временем наши скитания обернулись не похоронным маршем, а триумфальным шествием. Нас подгоняло громыханье воображаемого грома и угрожающее шипенье этой новой магистрат, выползающей из-за восточных отрогов. По ночам мы слышали, как она тянется что есть сил в нашу сторону, чтобы не дать нам уйти.
Короче говоря, поставщики бетона, которые, собственно, и вращают землю, нас не настигли. В последний день нашего исхода здесь остался – вот как раз где ты сейчас стоишь – только ветхий перрон в окружении апельсиновых и лимонных деревьев. Этим предстояло уйти последними: дивной колонной тонко благоухающих крон, по четыре в ряд пересечь пустыню, чтобы подарить тень нашему – отныне тайному – городу.
Оцени сам, как у нас это получилось, милый Джеймс. Снявшись с места, мы не оставили за собой ни камешка, ни булыжника, ни съестных припасов, ни могильных плит. Перевезли все, все, все.
Вот дотянут сюда шоссе – и что найдут? Да и был ли когда-нибудь в штате Аризона такой городок Саммертон – здание суда, ратуша, пригородный парк, опустевшая школа? Нет, ничего похожего здесь не было. Глядите: одна пыль.
Оставлю это письмо на вокзальной почтовой стойке; надеюсь, ты его получишь, если часом занесет тебя в эти края. Что-то мне подсказывает: ты вернешься. Сейчас поставлю подпись, запечатаю конверт и словно передам его тебе из рук в руки.
Когда дочитаешь до конца, дорогой мой друг и возлюбленный, развей эти строчки по ветру.
Внизу стояла ее подпись: Неф.
Он разорвал листок на четыре части, потом еще и еще раз – и подбросил конфетти в воздух.
«Ладно, – подумал он, – теперь-то куда?»
Прищурившись, он вгляделся в пустынную даль, где тянулась низкая гряда наполовину зеленеющих гор. Воображение дорисовало сады.
«Вот туда», – решил он.
Сделав первый шаг, он обернулся.
Как старый облезлый пес, в привокзальной пыли лежал саквояж.
«Нет, – подумал он, – ты из другого времени».
Саквояж выжидал.
– Лежать, – скомандовал он. Саквояж остался лежать.
А сам он зашагал дальше.
Глава 33
Когда день уже стал клониться к закату, он дошел до первых апельсиновых деревьев.
Когда над городом сгустились сумерки, в палисадниках возникли знакомые стайки подсолнухов, а над крыльцом закачалась вывеска «Герб египетских песков».
С последними лучами солнца он прошагал наконец по гравию, взбежал по ступенькам и, постояв перед дверью-ширмой, нажал на кнопку звонка. Послышались негромкие трели. В холле, на лестнице, появилась тонкая тень.
– Неф, – тихо выговорил он, помолчав. – Неф, – сказал он. – Я вернулся домой.
Левиафан-99
Радиомечта
В тысяча девятьсот тридцать девятом году, когда мне было девятнадцать, я безоглядно увлекся радиоспектаклями Нормана Корвина [11].
Позднее, когда мне уже стукнуло двадцать семь, мы с ним познакомились, и он вдохновил меня на создание марсианских историй, из которых потом выросли «Марсианские хроники».
Много лет я мечтал, чтобы Норман Корвин поставил радиоспектакль и по какому-нибудь из моих произведений.
Вернувшись из Ирландии, где в течение года шла работа над сценарием к фильму «Моби Дик» Джона Хьюстона, я не мог выбросить из головы Германа Мелвилла [12]и его левиафана-кита [13]. Вместе с тем я по-прежнему был околдован Шекспиром, который покорил меня еще в школе.
По приезде из Ирландии я стал подумывать о том, чтобы взять да и перенести мифологию Мелвилла в космическое пространство.
Незадолго до этого Эн-би-си подвигла нас с Норманом Корвином на совместную работу над часовым радиоспектаклем. Закончив первоначальный вариант сценария «Левиафан-99», где корабли стали космическими, место мореходов заняли одержимые капитаны этих космических кораблей, а гигантского белого кита заменила ослепительная белая комета, я передал текст Норману, который, в свою очередь, отослал его на Эн-би-си.
В то время радио постепенно сдавало позиции, отступая перед натиском телевидения, и от Эн-би-си пришел ответ следующего содержания: «Просим вас разбить сценарий на трехминутные эпизоды, чтобы постановку можно было транслировать по частям».
Совершенно убитые, мы с Норманом отозвали сценарий, и я послал его в Лондон, на Би-би-си, где и была осуществлена радиопостановка с Кристофером Ли [14]в роли безумного капитана космического корабля «Сетус» [15].
Радиоспектакль вышел просто великолепным, однако мечта о том, чтобы режиссером моего произведения стал именно Корвин, так и осталась мечтой. Под влиянием своей, если можно так выразиться, «шекспиромании» я осмелился расширить текст «Левиафана-99» вдвое, и весной 1972 года по нему был поставлен спектакль в одном из павильонов на студии Сэмюэла Голдвина. Но к сожалению, те дополнительные сорок страниц разрушили мой первоначальный замысел. Потерялась сама суть этой истории. Критики были единодушны в своих саркастических оценках.
В последующие годы «Левиафан-99» ставился то здесь, то там; я мало-помалу снимал, как стружку, ненужные страницы в надежде когда-нибудь привести материал к первоначальному одночасовому варианту, который лег в основу радиоспектакля.
Сегодня, тридцать лет спустя, эта повесть представляет собой мою заключительную попытку собраться с силами и вернуть к жизни то, что начиналось как радиомечта, надежда на Нормана Корвина. Заслуживает ли эта мечта того, чтобы явиться в нынешнем воплощении, – решать вам.
Посвящается Герману Мелвиллу, с восхищением
Глава 1
Зовите меня Измаил. [16]
Измаил? Это в две тысячи девяносто девятом году, когда поражающие воображение новые корабли, уже достигнув звезд, продолжают свой путь дальше? Разрушают звезды, вместо того чтобы благоговейно трепетать перед ними? И вдруг такое имя – Измаил?
Да.
Мои родители были среди первых смельчаков, отправившихся на Марс. Когда смелости поубавилось и появилась тоска по Земле, они вернулись домой. Меня зачали в том рейсе, и родился я в космосе.
Мой отец, досконально знавший Библию, вспомнил еще одного изгоя, который странствовал по мертвым морям задолго до Рождества Христова.
Никто бы не выбрал лучше, чем это сделал отец, имя для меня, в то время единственного ребенка, выношенного и рожденного в космосе.
А он и вправду назвал меня… Измаилом.
Несколько лет назад решил я пересечь все моря ветров, что странствуют по этому свету. Всякий раз, когда в моей душе наступает слякотный ноябрь, это значит, что пришло время опять бросить вызов небесам.
Так что в субботу, в конце лета две тысячи девяносто девятого, среди птичьего гомона, ярких воздушных змеев и грозовых фронтов, я оторвался от земли, уносимый ввысь моим реактивным ранцем. В том неудержимом полете я устремился к мысу Кеннеди оперившимся птенцом в стае памятных мечтаний, которые лелеял старик да Винчи, придумывая свои древние летательные аппараты. Согреваемый пламенем огромных стальных птиц, я чувствовал, как хлынули в мою душу потоки бесконечной и нетерпеливой Вселенной.
Издалека я заметил сильное бурление: мыс Кеннеди раскалился от тысяч ракет, вырывающихся из огнедышащих пусковых установок. Когда пламя наконец утихло, в воздухе остался лишь простодушный шепот ветра.
Я быстро и мягко спустился в город, и меня подхватило течением движущегося тротуара.
Над головой проплывали арки и порталы зданий, а вокруг мелькали тени. Куда я направлялся? Уж точно не в холодные стальные казармы – приют усталых астронавтов, а в прекрасный, тщательно запрограммированный и оборудованный рай.
Мне предстояло явиться в Академию астронавтики для прохождения тренировочного курса перед великим путешествием за пределы звезд, но о своей миссии я до поры до времени ничего не знал.
В этом месте уживаются луговые просторы для игры ума, гимнастические снаряды для укрепления тела и богословская школа, своим учением неизменно зовущая ввысь. Да и то сказать, разве космос не похож на гигантский собор?
Пройдя сквозь зыбкие тени, я оказался в вестибюле академического общежития. Чтобы зарегистрироваться, я приложил ладонь к панели идентификации, которая считала мой потный отпечаток и, словно гадалка, мгновенно выбрала для меня соседа по каюте на предстоящий рейс.
Откуда-то сверху зажужжал зуммер, послышался гул, звякнул колокольчик, и женский голос – шипящий, механический – объявил:
– Измаил Ханникат Джонс; возраст – двадцать девять лет; рост – пять футов десять дюймов; глаза голубые; волосы каштановые; телосложение легкое. Просьба пройти в помещение девять, второй этаж. Сосед по комнате: Квелл.
Я повторил:
– Квелл.
– Квелл? – раздалось у меня за спиной. – Не завидую!
А другой голос добавил:
– Крепись, Джонс.
Обернувшись, я увидел троих астронавтов, постарше меня, не похожих друг на друга ни ростом, ни манерой держаться, – они запаслись спиртным и протягивали мне стакан.
– Держи, Измаил Джонс, – сказал долговязый, худой парень. – Когда идешь знакомиться с таким чудовищем, это не лишне, – объяснил он. – Для храбрости.
– Но сначала вопрос, – заговорил второй астронавт, придержав меня за руку. – На каких рейсах летаешь – на «кисельных» или на дальних?
– Ну, правильнее будет сказать, на дальних, – ответил я. – В дальний космос.
– Расстояния в скромных милях или в реальных световых годах?
– Обычно в световых годах, – сказал я, поразмыслив.
– Ага, тогда имеете право выпить с нами.
Тут в разговор вступил до сих пор молчавший третий человек:
– Меня зовут Джон Рэдли. – Потом он кивнул в сторону долговязого. – Это Сэм Смолл. А это, – он указал на третьего. – Джим Даунс.
Недолго думая, мы выпили. Потом Смолл заявил:
– Вот теперь с нашего разрешения и Божьего благословения можете разделить с нами космос. Полетите разгадывать тайну хвоста кометы?
– Думаю, да.
– А раньше кометы искали?
– Мое время пришло только сейчас.
– Хорошо сказано. Посмотрите-ка туда.
Трое новых знакомцев повернулись и закивали на огромный экран в другом конце холла. И, будто в ответ на наше внимание, экран запульсировал, ожил и показал гигантское изображение ослепительно-белой кометы, затягивающей в свой хвост целые системы планет.
– Симпатичная разрушительница Вселенной, – прокомментировал Смолл. – Пожирательница Солнца.
– Разве комета на такое способна? – спросил я.
– Не только на это, но и на многое другое. В особенности – такая.
– Знаешь, если бы Господь задумал сойти сюда, Он бы явился в виде кометы. А вы, стало быть, собираетесь нырнуть в глотку этого священного ужаса и попрыгать у него в кишках?
– Вроде того, – ответил я нехотя. – Если иначе никак.
– Ну, тогда давайте выпьем за него, парни? За юного Измаила Ханниката Джонса.
Откуда-то издалека донеслось слабое электронное жужжание, ритмичное подрагивание. Я прислушался – звук усиливался с каждым импульсом, как будто приближаясь.
– Вот это, – сказал я. – Что это такое?
– Это? – переспросил Рэдли. – Звук, будто наказание саранчой? [17]
Я кивнул.
– Саранча, бич природы? – подхватил Смолл. – Такое прозвание весьма подходит нашему капитану.
– Вашему капитану? – переспросил я. – А кто он такой?
– Оставим пока, Джонс, – отозвался Рэдли. – Ступай к себе – надо еще познакомиться с Квеллом. Да, Бог в помощь – познакомиться с Квеллом.
– Это выходец из дальних пределов Туманности Андромеды, – доверительно сообщил Даунс. – Высоченный, огромный, просто необъятных габаритов и при этом…
– Паук, – встрял первый астронавт.
– Вот именно, – продолжил Даунс. – Гигантский, высоченный зеленый паук.
– Но вообще-то… – начал Смолл, слегка досадуя на приятелей, – он безобидный. Ты с ним поладишь, Джонс.
– Точно? – спросил я.
Рэдли сказал:
– Вам пора. Мы еще встретимся. Идите познакомьтесь со своим соседом-пауком. Удачи.
Я залпом выпил все, что еще оставалось в стакане. Потом отвернулся, зажмурился и про себя фыркнул: «Удачи!» Как же, жди.
Нажав на кнопку около двери, мгновенно скользнувшей вбок, я прошел по тускло освещенному коридору до кубрика с номером «девять». Стоило мне коснуться панели идентификации, как дверь плавно ушла в сторону.
Нет, подожди, сказал я себе. В таком состоянии лучше не входить. Посмотри на себя. Господи, даже руки трясутся.
Так я и стоял, не двигаясь. В кубрике – сомнений не было – ждал мой сосед по комнате, я не сомневался. Выходец из далекой галактики, паук-исполин, если верить слухам. Черт возьми, подумал я, давай заходи.
Сделав три шага внутрь комнаты, я замер.
Потому что в дальнем углу разглядел огромную тень. Что-то там было, но непонятно где.
– Не может быть, – прошептал я себе. – Не может быть, что это…
– Паук, – подсказало нечто шепотом из другого конца отсека.
Гигантская тень дрогнула.
Я попятился к порогу.
– А тем более, – шепот продолжился, – тень от паука? Конечно нет. Стоять!
Я замер, подчинившись приказу, и смотрел во все глаза: свет в комнате становился ярче, тень растворялась, а передо мной возникало нечто огромно-бесформенное, громада в семь футов ростом, весьма причудливого зеленоватого оттенка.
– Ну вот, – опять донесся шепот.
Я постарался придать своему голосу побольше уверенности:
– Можно кое-что сказать?
– Что угодно, – продолжался шепот.
– Как-то раз, – начал я, – довелось мне увидеть статую Давида работы Микеланджело. Как выяснилось, она гораздо больше человеческого роста. Обошел ее кругом.
– Ну?
– Мне кажется, габаритами ты не уступаешь этой знаменитой скульптуре.
Я приблизился и начал обходить неподвижную массу. Меня все еще била дрожь.
Тень продолжала таять, и постепенно фигура стала обрисовываться более отчетливо.
– Квелл, – опять донесся шепот. – Так меня зовут. Я проделал долгий путь, без малого десять миллионов миль и пять световых лет. Если судить по твоим пропорциям, ваш творец еще не вполне проснулся и за этим миром присматривает разве что вполглаза. Вот у нас, можно сказать, бог вскочил на ноги с первым криком рождения мира, потому и наделил нас таким ростом.
Существо приосанилось и вытянулось еще больше.
Вглядевшись в его лицо, я выдавил:
– Ты… у тебя почти не заметно движения губ.
Исполин по имени Квелл ответствовал:
– Но движение мыслей у нас с тобой почти одинаково. Вот признайся, Джек, – продолжил он, – руки-то чешутся убить великана?
– Как это… – запнулся я.
– У тебя в мыслях вижу бобовый стебель. [18]
– Дьявольщина! – вырвалось у меня. – Ты прости, – продолжал я. – Никогда прежде не общался с телепатами.
– Не имей привычки взывать к нечистому, – сказал мой сосед по комнате. – Еще раз: меня зовут Квелл. А тебя?
– Сам знаешь, – ответил я. – Ты же читаешь мысли.
– Да это я так, из вежливости, – ответил Квелл. – Делаю вид, будто ни сном ни духом.
Чудище склонилось, и в мою сторону поползло щупальце. Я протянул руку, и мы дотронулись друг до друга.
– Измаил Ханникат Джонс, – представился я.
– Ну что ж, – отозвался Квелл, – это имя проделало долгий путь из вашей Библии в нынешний космический век.
– Напоминает путь, проделанный тобою, – заметил я.
– Как-никак пять световых лет. Целых пять лет я пролежал в глубокой заморозке – холодный, как смерть. Коротал времечко во сне. Так приятно снова бодрствовать. Считаешь, я жутковат?
– Конечно нет, – ответил я.
– Конечно да, – откликнулся Квелл и вроде бы хохотнул. – Мыслишка вылетела – я поймал. Тебе от этого как пить дать жутковато. И еще ты, наверное, думаешь, что у меня слишком много глаз и ушей, а пальцев и того больше, кожа болотная – это уж точно жутковато. А я вот смотрю на тебя и вижу: каких-то два глаза, пара крохотных ушей, всего лишь две руки и на каждой пять хлипких пальчиков. Так что каждый из нас, если приглядеться, по-своему смешон. И оба в конечном счете… простые смертные.
– Да, – согласился я, увидев в его словах истину. – Это точно: простые смертные.
Квелла, видимо, пробило на юмор, и он продолжил:
– А теперь выбирай, Измаил: либо я перемелю твои кости на муку, либо будем дружить.
Я вздрогнул и приготовился к бегству, но, поймав себя на этом, рассмеялся и сказал:
– Сдается мне, лучше нам дружить.
И Квелл повторил:
– Дружить.
* * *
Выйдя из отсека, мы отправились на разведку – посмотреть, что творится на нижних этажах этой огромной академии.
На фоне диодных огоньков выделялись силуэты философствующих роботов; когда мы проходили мимо, они сидели и беседовали на древних языках.
– Платон, – узнал я. – Аристотель. – И обратился к ним: – Посмотрите на нас. Что вы видите?
И робот Платон сказал так:
– Двоих ужасных и великолепных, уродливых и прекрасных детей природы.
– А что есть природа? – спросил Квелл.
Ему ответил Сократ, фонтанирующий искрами:
– Любование бога диковинными чудесами живой плоти.
И тут Аристотель, странный маленький робот из пластика, заключил:
– Следовательно, живая плоть этих двоих не чудеснее и не диковиннее любой другой.
Квелл, наклонившись, тронул мой лоб одной из своих длинных паучьих ног, покрытых мягкой клочковатой растительностью, и представил:
– Измаил.
А я, коснувшись пушистой груди моего нового друга, сердечно отрекомендовал:
– Квелл, с дальних островов великой Туманности Андромеды. Квелл.
– Мы будем вместе учиться, – сообщил Квелл.
– Вместе слушать, вместе учиться, вместе экспериментировать, – добавил я.
В течение следующих дней, недель и месяцев нашей подготовки мы и вправду слушали разноязыкие лекции наших электронных преподавателей философии. Но никто не сказал, что от нас потребуется, куда нам предстоит лететь и сколько еще торчать на Земле, в этих необъятных пещерах знаний.
В один прекрасный день лекции роботов-профессоров, непонятные и потому бессмысленные, прекратились. Как-то утром мы собрались в лекционном зале, но нас встретило безмолвие. На дисплее мы увидели свои имена и следующий текст: «Согласно приказу, явиться для включения в состав экипажа».
Квелл заметил:
– Похоже, наша учеба подошла к концу.
– Если так, – отозвался я, – значит, настоящая жизнь только начинается. Пошли найдем наш корабль.
Мы вернулись к себе в комнату, где нас уже ожидали предписания. Забрав экипировку и надев летательные ранцы, мы взмыли в воздух. Облака расступались, птицы разлетались в стороны, и наконец мы приземлились на мысе Кеннеди, среди суеты и сплошного гула необъятного космодрома. Нас окружали высоченные, как небоскребы, пусковые установки и сверкающие ракеты.
Потрясенный гигантским размахом происходящего, я озирался по сторонам.
– Смотри, что здесь делается, Квелл, а вот туда погляди! Космические корабли! Штук двадцать пять, если не больше. Одни названия чего стоят: «Аполлон-сто сорок девять», «Меркурий-семьдесят семь», «Юпитер-двести пятнадцать». А там…
Квелл не дал мне закончить:
– «Сетус-семь».
Я не мог отвести глаз от сверкающего цилиндра, который высился над всеми остальными.
– Это самый большой межпланетный корабль в истории, – с благоговением произнес я.
Квелл задумался:
– Вот интересно, ваши Бах и Бетховен в своих мечтах создавали хоть когда-нибудь нечто подобное?
Наши мечтательные размышления прервал чей-то голос:
– А как же иначе – конечно, создавали.
Обернувшись, мы увидели, что откуда-то из-под трапа появился старик, облаченный в ветхий, выцветший скафандр. Он обратился к нам запросто:
– Привет, друзья.
Очевидно, Квелл просканировал мысли незнакомца, перед тем как ответить:
– Мы тебе не друзья.
Невесело усмехнувшись, старик продолжил:
– Раскусил меня, телепат. Так держать. Вы зачислены на «Сетус-семь»?
– Да, – ответил я.
Старик сокрушенно произнес:
– Эх, стоите на краю пропасти. Остерегитесь, если вы себе не враги.
Квелл выругался на своем инопланетном наречии, а потом потянул меня за локоть:
– Пошли, Измаил. Зачем выслушивать эти бредни?
Старик увязался за нами.
– А ты, юноша, уже встречался с капитаном корабля?
– Пока что в глаза не видел. – Заинтригованный этим вопросом, я обернулся к нему.
– «В глаза не видел». Надо же, прямо в точку! Когда встретитесь, не пытайся заглянуть ему в глаза. Знай: их у него нет.
– Нет глаз? – поразился я. – Он слеп?
– Точнее сказать, изувечен. Пару лет назад в космосе ему выжгло глаза. Ну, ты-то и без меня это знал, – добавил старик, покосившись на Квелла.
– Ничего я не знал, – буркнул тот, еще раз потянув меня за рукав. – Больше мы тебя не слушаем.