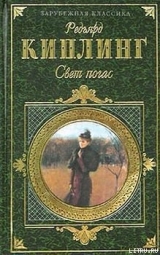
Текст книги "Свет погас"
Автор книги: Редьярд Джозеф Киплинг
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
– Все они такие странные, – сказала Сюзанна своему солдатику, стоя с ним при лунном свете у стены мастерской. – Эта вечно ходила да глаза таращила, а сама ничегошеньки вокруг не видела, но на прощанье расцеловала меня в обе щеки, будто родную сестру, да ещё подарила – вот, гляди, – десять франков!
Солдатик сорвал контрибуцию с обоих даров; не зря он считал себя бравым воякой.
По дороге в Кале Торпенхау почти не разговаривал с Мейзи; но он старался предупреждать все её желания и достал ей билет в отдельное купе, где никто её не тревожил. Он был очень удивлён тем, как легко уладилось дело.
– Надо дать ей спокойно обдумать положение, это самое правильное. Судя по всему, что наговорил Дик в беспамятстве, она командовала над ним как хотела. Любопытно знать, нравится ли ей, когда командуют над ней самой.
Мейзи упорно молчала. Она сидела в купе, надолго закрывая глаза и стараясь представить себе, каким бывает ощущение слепоты. Она получила приказ немедленно вернуться в Лондон и уже почти радовалась, что все сложилось именно так. Право же, лучше, чем самой заботиться о багаже и о рыжей подруге, которая ко всему относилась с полнейшим безразличием. Но в то же время у неё появилось смутное чувство, что она, Мейзи – не кто другой – навлекла на себя позор. Поэтому она старалась оправдать перед собою своё поведение и скоро вполне преуспела в этом, а на пароходе Торпенхау подошёл к ней и безо всяких околичностей стал рассказывать, как Дик ослеп, умалчивая о некоторых подробностях, но зато пространно излагая горестные речи, которые тот произносил в бреду. Вдруг он оборвал свой рассказ, будто это ему наскучило, и ушёл покурить. Мейзи злилась на него и на себя.
Едва она успела наскоро позавтракать, пришлось мчаться из Дувра в Лондон, после чего – и теперь уж она не смела возмущаться даже в душе – ей бесцеремонно велели ждать в подъезде, возле какой-то тёмной металлической лестницы, а Торпенхау взбежал наверх разузнать, как обстоят дела. И снова при мысли, что с ней обращаются, как с нашкодившей девчонкой, её бледные щеки зарделись. Во всем виноват Дик, вот ведь взбрела ж ему в голову глупость ослепнуть.
Наконец Торпенхау привёл её к затворенной двери, которую распахнул бесшумно. Дик сидел у окна, уронив голову на грудь. В руках он держал три конверта, перебирая их снова и снова. А того рослого человека, который всем так властно распоряжался, уже не было рядом, и дверь мастерской со стуком захлопнулась у неё за спиною.
Услышав стук, Дик поспешно сунул письма в карман.
– Привет, Торп. Это ты? Я ужасно соскучился.
Голос у него был безжизненный, какой обычно бывает у слепых. Мейзи отпрянула в угол. Сердце её неистово колотилось, и она прижала руку к груди, стараясь унять волнение. Глаза Дика уставились на неё, и только теперь она по-настоящему поняла, что он ослеп. Когда в поезде она смыкала и размыкала веки, то была всего лишь ребяческая игра. А этот человек действительно слеп, хотя глаза его широко раскрыты.
– Это ты, Торп? Мне сказали, что ты вот-вот вернёшься.
Молчание, видимо, удивляло и даже сердило Дика.
– Нет, это всего-навсего я, – послышался в ответ сдавленный, едва различимый шёпот.
Мейзи с трудом заставила себя пошевелить губами.
– Гм! – задумчиво проговорил Дик, не двигаясь с места. – Это нечто новое. К темноте я помаленьку привык, но вовсе не желаю, чтоб мне к тому же чудились голоса.
Неужели он не только ослеп, но и потерял рассудок, если разговаривает сам с собой? Сердце Мейзи заколотилось ещё отчаянней, она с трудом переводила дух. Дик медленно побрёл по мастерской, ощупывая по пути столы и стулья. Споткнувшись о коврик, он выругался, упал на колени и начал шарить по полу, отыскивая помеху. Мейзи живо вспомнилось, как уверенно он, бывало, шагал по Парку, словно весь мир был его владением, как всего лишь два месяца назад, словно хозяин, расхаживал по её мастерской, как легко взбежал по трапу парохода, на борту которого она отплыла в Кале. От сердцебиения ей сделалось дурно, а Дик подбирался все ближе, ловя слухом её дыхание. Она невольно вытянула руку, то ли желая отстранить его, то ли, наоборот, привлечь к себе. Вот рука коснулась его груди, и он откачнулся, словно от выстрела.
– Это Мейзи! – промолвил он с глухим рыданием. – Как ты здесь очутилась?
– Я приехала… приехала тебя проведать, если можно.
Дик на мгновение твёрдо сжал губы.
– В таком случае не угодно ли присесть? Видишь ли, у меня не совсем ладно с глазами, и…
– Знаю. Знаю. Но почему ты не уведомил меня?
– Я не мог писать.
– Так мог бы попросить мистера Торпенхау.
– С какой стати я должен посвящать его в свои дела?
– Да ведь это он… он привёз меня сюда из Витри-на-Марне. Он решил, что я должна приехать к тебе.
– Как, неужели что-нибудь стряслось? Могу я тебе помочь? Нет, не могу. Я же совсем забыл.
– Ох, Дик, я глубоко раскаиваюсь! Я приехала, чтобы сказать тебе об этом и… Позволь, я снова усажу тебя в кресло.
– Оставь! Я не ребёнок. Ты все делаешь только из жалости. У меня и в мыслях не было тебя звать. Я больше ни на что не годен. Я конченый человек, мне крышка. Забудь меня!
Он ощупью добрался до кресла и сел, грудь его высоко вздымалась.
Мейзи смотрела на него, и страх, обуревавший её душу, вдруг исчез, уступив место жгучему стыду. Дик высказал правду, которую от неё тщательно скрывали все время, когда она стремглав мчалась сюда, в Лондон; ведь он в самом деле конченый человек, ему крышка – теперь он уже не полновластный хозяин, а просто злополучный бедняга; не художник, до которого ей бесконечно далеко, не победитель, требующий поклонения, – лишь жалкий слепец сидел перед ней в кресле и едва сдерживал душившие его слезы. Она испытывала к нему самое глубокое, самое неподдельное сострадание – такого чувства она ещё не знала в жизни, и все же сострадание это было бессильно заставить её лицемерно отрицать истинность его слов. И она застыла на месте, храня молчание, – сгорая от стыда, но не имея сил справиться с невольным разочарованием, поскольку ещё недавно она чистосердечно верила в полное своё торжество, стоит ей только приехать; теперь же её переполняла лишь жалость, которая не имела ничего общего с любовью.
– Ну? – сказал Дик, упрямо не поворачивая к ней лица. – У меня и в мыслях не было нарушать твой покой. Что же такое стряслось?
Он угадывал, что у Мейзи перехватило дыхание, но точно так же, как и она, не ожидал неистового потока чувств, захлестнувших их обоих. Люди, которым обычно нелегко пролить хоть одну слезинку, плачут безудержно, когда прорываются наружу самые глубинные источники, сокрытые в их душах. Мейзи рухнула на стул и разрыдалась, спрятав лицо в ладонях.
– Я не могу!.. Не могу! – воскликнула она с отчаяньем. – Поверь, я не могу. Я же не виновата. Я так горько раскаиваюсь. Ох, Дикки, я так раскаиваюсь.
Дик порывисто распрямил поникшие плечи, эти слова хлестали его, словно бич. А рыдания не умолкали. Тяжко сознавать, что недостало сил выстоять в час испытания и приходится отступить при малейшей необходимости чем-то пожертвовать.
– Я себя глубоко презираю, поверь. Но я не могу. Ох, Дикки, ведь ты не станешь просить, чтобы я… не станешь, правда? – скулила Мейзи.
На миг она подняла голову, и, волею случая, в этот миг глаза Дика обратились прямо на неё. Небритое лицо было смертельно бледным и застывшим, а губы кривились в насильственной улыбке. Но более всего ужаснули Мейзи незрячие глаза. Её Дик ослеп, и вместо него появился какой-то чужой человек, которого она едва узнала по голосу.
– Кто тебя просит о чем бы то ни было, Мейзи? Я же сказал, что все решено. Какой толк огорчаться? Ради всего святого, полно тебе плакать: право, это сущие пустяки.
– Ты не знаешь, как я себя ненавижу. Ох, Дик, помоги… помоги мне!
Мейзи никак не могла совладать с неистовыми рыданиями, и Дик забеспокоился не на шутку. Спотыкаясь, он подошёл, обнял её, и она склонила голову ему на плечо.
– Тише, милая, тише! Не плачь! Ты совершенно права и ни в чем не должна себя упрекать – как и прежде. Просто тебе немного не по себе после дорожной спешки и, по всей вероятности, ты не успела позавтракать. Что за скотина этот Торп! Взбрело же ему в башку привезти тебя сюда!
– Я сама захотела приехать. Поверь, я сама, – решительно возразила она.
– Ну и прекрасно. Вот ты приехала, повидала меня, и я… я тебе бесконечно признателен. Когда ты немного успокоишься, пойди и чего-нибудь поешь. Скажи, ты очень устала с дороги?
Мейзи плакала уже не так горько и впервые в жизни порадовалась тому, что может на кого-то опереться. Дик нежно погладил девушку по плечу, но движения его были неуверенны, потому что ему не сразу удалось это плечо отыскать.
Наконец она высвободилась из его объятий и ожидала дальнейшего, охваченная трепетом и глубоко удручённая. Он ощупью побрёл к окну, надеясь, что там, поодаль от неё, буря, которая бушевала в его сердце, понемногу уляжется.
– Ну, теперь тебе полегчало? – спросил он.
– Да, но только… ведь ты не возненавидишь меня?
– Разве я способен тебя возненавидеть? Боже упаси! Это я-то?
– Тогда… тогда не могу ли я чем-нибудь тебе помочь? Если хочешь, ради этого я останусь в Англии. И, пожалуй, буду иногда тебя навещать.
– Нет, милая, это ни к чему. Пощади меня, не приходи больше, умоляю. Я не хочу тебя обидеть, но, посуди сама, наверное, было бы лучше, если б ты ушла прямо сейчас.
Он чувствовал, что у него не хватит мужества долго выдерживать эту пытку.
– Поделом мне, иного я и не заслужила. Я ухожу, Дик. Но я так несчастна.
– Пустое. Тебе незачем беспокоиться, поверь, будь это не так, я сказал бы прямо. Обожди, милая. Сперва прими от меня подарок. Я решил сделать его тебе ещё в ту пору, когда со мной приключилась беда. Это моя Меланхолия: она была очаровательна, когда я видел её в последний раз. Сохрани же её ради меня, но можешь и продать, если когда-нибудь окажешься без средств. Даже по самой бедной цене ты получишь за неё несколько сот фунтов. – Он стал ощупью перебирать свои полотна. – Она в чёрной раме. Эта рама, что у меня в руках, чёрная? Да, вот она. Ну, что скажешь?
Он обратил к Мейзи холст, покрытый уродливой, исполосованной мешаниной красок, и вперил в неё пустые глаза, будто мог увидеть её удивление и восторг. У неё была теперь одна, только одна-единственная возможность сделать для него доброе дело.
– Ну как?
Голос его зазвучал твёрже, уверенней, внятней, ведь он знал, что говорит о лучшем своём произведении. Мейзи взглянула на уродливую пачкотню, и от безумного желания захохотать у неё сжало горло. Но ради Дика – что бы ни означала эта сумасбродная нелепица – надо было сдержаться. Глотая слезы и не отрывая взгляда от искалеченной картины, она ответила с затаённым вздохом:
– Да, Дик, это очень хорошо.
Он уловил её короткий судорожный порыв, который счёл заслуженной данью восхищения.
– Значит, ты принимаешь мой подарок? Если хочешь, я велю доставить картину тебе на дом.
– Я? Ну да… спасибо. Ха-ха!
Она чувствовала, что надо скорей бежать отсюда, иначе этот смех, который ужаснее всяких слез, задушит её насмерть. Она повернулась и бросилась наутёк, задыхаясь и не разбирая дороги, поспешно сбежала вниз по лестнице, где не встретила ни души, кликнула извозчика, вскочила в пролётку и поехала через Парк прямо к себе. Дома в маленькой гостиной, откуда были вывезены почти все вещи, она села и стала думать о Дике, обречённом на слепоту и бесцельное прозябание до конца жизни, о том, как сама она теперь будет выглядеть в собственных глазах. И сильнее скорби, стыда и унижения был страх перед холодной яростью, которой встретит её рыжеволосая подружка. Раньше Мейзи никогда её не боялась. Только поймав себя на мысли: «Но ведь он меня ни о чем не просил», – она поняла, как глубоко сама себя презирает.
Вот и весь сказ о Мейзи.
Дику же были уготованы ещё более мучительные терзания. Сперва он недоумевал, как могла Мейзи, хотя он сам велел ей уйти, покинуть его, не сказав на прощание ни одного тёплого слова. Он захлёбывался от злости на Торпенхау, который обрёк его на такое унижение и лишил последних остатков покоя. А потом чёрные мысли одолели его, и он в одиночестве, объятый этой чернотой, вынужден был бороться со своими желаниями и тщетно взывать о помощи. Королева всегда безупречна, но на этот раз, сохранив безупречную верность работе, она нанесла своему единственному подданому удар более тяжкий, нежели он сам мог предполагать.
– Я потерял единственное, что было у меня в жизни, – сказал он, когда первый приступ горя прошёл и мысли начали проясняться. – А Торп наверняка возомнил, будто все подстроил с дьявольской ловкостью, и у меня не хватит решимости потолковать с ним начистоту. Надо спокойно об этом поразмыслить.
– Привет! – сказал Торпенхау, войдя в мастерскую через два часа, которые Дик провёл в раздумье. – Вот я и вернулся. Надеюсь, тебе полегчало?
– Торп, право, я не нахожу слов. Подойди сюда.
Дик глухо закашлялся, и впрямь не находя ни слов, ни сил, дабы сохранить сдержанность.
– А к чему слова? Вставай-ка лучше и давай пройдёмся.
Торпенхау был очень доволен собой. Он обнял Дика за плечи, и они, как обычно, стали прохаживаться по мастерской, но Дик долго ещё молчал, погруженный в свои мысли.
– Как же ты все-таки об этом пронюхал? – спросил он наконец.
– Видишь ли, Дикки, если хочешь сохранить свои тайны, не позволяй себе впадать в бред. Конечно, с моей стороны это была вопиющая наглость: но видел бы ты, как лихо я скакал на едва объезженном эскадронном коне там, во Франции, под палящим солнцем, ты бы лопнул со смеху. А нынче вечером у меня будет изрядный тарарам. Кроме прочих, придут ещё семеро, сущие дьяволы…
– Знаю – скоро начнутся бои в Южном Судане. Недавно я вторгся в твою комнату, когда они держали там совет, и после этого приуныл. Ты уже собрался в дорогу? А для кого будешь писать?
– Я ещё не заключил договора. Хотел сперва поглядеть, как пойдут твои дела.
– Значит, ты остался бы со мной; если… если бы дела приняли скверный оборот?
Дик задал вопрос в осторожной форме.
– Не требуй от меня слишком многого. В конце концов, я самый обыкновенный человек.
– Ты сделал весьма успешную попытку стать ангелом.
– Мда-а!.. Ну а сегодня ты побываешь на нашем сборище? К утру мы будем в изрядном подпитии. Все уверены, что война неминуема.
– Вряд ли, дружище, если ты не будешь настаивать. Лучше я посижу здесь, в тишине.
– И подумаешь без помех? Я отнюдь не намерен тебя упрекать. Ты больше, чем всякий другой, заслуживаешь спокойствия.
В тот вечер на лестнице царила невообразимая суматоха. Корреспонденты прямо из театра, из мюзик-холла или со званого обеда валили к Торпенхау, чтобы обсудить план действий на случай, если неминуемые боевые операции начнутся в скором времени. Торпенхау, Беркут и Нильгау созвали всех своих собратьев по перу, с которыми им доводилось вместе работать; и мистер Битон, домоправитель, утверждал, что за всю свою долгую, изобилующую событиями жизнь ещё не видывал столь отчаянных людей. Они орали и распевали песни так громко, что переполошили весь дом; почтённые мужчины в летах не отставали от юнцов. Ведь впереди их ожидали опасности войны, и все они прекрасно понимали, чем это пахнет.
Дик, который сидел у себя, сначала был несколько озадачен шумом, доносившимся через площадку, а потом вдруг рассмеялся.
«Если пораскинуть умом, положение и впрямь самое что ни на есть смехотворное. Мейзи совершенно права, бедная девочка. Я и не подозревал, что она умеет так горько плакать; но теперь мне известно, что думает Торп, и я уверен, что он сдуру остался бы дома и пытался бы меня утешить – если б только знал правду. Кроме того, не очень-то приятно сознавать, что тебя выбросили на свалку, как поломанный стул. Я должен справиться с этим в одиночку – мне ведь не привыкать. Если войны не будет и Торпу все станет известно, я предстану в дурацком виде, и только. А если будет война, я не должен никому мешать. Дело есть дело, и я хочу быть один… один. Но до чего ж они там разгулялись!»
Кто-то забарабанил в дверь мастерской.
– Выходи, Дик, будем веселиться, – послышался голос Нильгау.
– Я бы рад, да не могу. Настроение у меня совсем не весёлое.
– А вот я сейчас кликну ребят, и они выволокут тебя, как барсука из норы.
– Пожалуйста, старина, избавьте меня от этого. Честное слово, мне охота побыть одному.
– Будь по-твоему. Может, прислать тебе чего-нибудь? Скажем, шампанского? Кассаветти уже начал горланить песни о солнечном юге.
С минуту Дик серьёзно обдумывал это предложение.
– Нет, спасибо. У меня и без того голова трещит.
– Невинный младенец. Вот к чему приводят волненья юной души. Горячо поздравляю тебя, Дик. Я ведь тоже соучастник заговора, который был затеян ради твоего блага.
– Катитесь к черту и… позовите сюда Дружка.
Пёсик вбежал на пружинистых лапах, крайне взбудораженный, потому что весь вечер его ласкали и баловали. Когда хором подхватывали припев, он с упоением подвывал; но, очутившись в мастерской, он сразу сообразил, что здесь не место для изъявления восторгов, и примостился на коленях у Дика, ожидая, когда придёт время спать. Потом он лёг вместе с Диком, который всю ночь напролёт прислушивался, как бьют часы, и считал каждый удар, а наутро мысль работала с мучительной чёткостью. Дик выслушал поздравления Торпенхау, принесённые уже в более торжественной форме, а также подробный рассказ о ночном кутеже.
– Но ты что-то невесел и мало похож на счастливого избранника, – заметил Торпенхау.
– Не беспокойся – это уж моё дело, у меня все хорошо. Стало быть, решено, ты едешь?
– Да. От Центрально-южного, как всегда. Они предложили мне более выгодные условия против прежних, и я согласился.
– Когда же в путь?
– Послезавтра. Через Бриндизи.
– Слава богу.
Дик сказал это от всего сердца.
– Право слово, ты весьма бесцеремонно даёшь понять, что рад от меня избавиться. Но человеку в твоём положении позволительно думать только о себе.
– Я вовсе не то хотел сказать. Тебя не затруднит получить до отъезда по моему чеку сотню фунтов?
– Не маловато ли на хозяйственные расходы?
– Ну нет, это я просто… готовлюсь к свадьбе.
Торпенхау принёс деньги, пересчитал по отдельности пятёрки и десятки, сложил их аккуратными пачками и спрятал в ящик письменного стола.
– Теперь, надо полагать, я досыта наслушаюсь всяких бредней про эту девчонку, прежде чем уеду. Боже, дай мне набраться кротости и вытерпеть все причуды влюблённого! – сказал он себе втихомолку.
Но Дик больше и словом не обмолвился ни о Мейзи, ни о будущей свадьбе. Он только все время торчал в дверях, когда Торпенхау укладывал вещи, и донимал его бесконечными вопросами по поводу предстоящей кампании, так что Торпенхау в конце концов начал сердиться.
– Дикки, ты просто скотина, ну можно ли так скрытничать и вариться в собственном соку? – сказал он вечером накануне отъезда.
– Да… да, пожалуй, ты прав. Но, как по-твоему, сколько будет длиться война?
– Дни, недели или месяцы. Кто знает. Может, даже годы.
– Я тоже хотел бы поехать.
– Боже правый! Тебя решительно невозможно понять! Неужто ты позабыл, что скоро женишься – и, между прочим, благодаря мне?
– Нет, конечно, не позабыл. Я женюсь… такая моя судьба. Я женюсь. И признателен тебе от души. Разве я уже не говорил этого?
– Но вид у тебя такой, будто тебя ждёт не женитьба, а виселица, – сказал Торпенхау.
На другой день Торпенхау простился с Диком и оставил его в одиночестве, которого он так жаждал.
Глава XIV
Все ж пред концом, хоть уж был копьеносцами нашими взят он,
Все ж пред концом, хоть уж саблей бессильный отбиться один,
Все ж пред концом, уж во власти враждебных солдат, он
Им, правоверный, приказывал, словно рабам властелин;
Все ж пред концом, нечестивыми раненный, смят, он
Ярость насилья, неволи жестокость познал, —
Все ж пред концом, уже тьмой беспросветной объят, он
Громко к Аллаху воззвал и с несломленной верою пал.
«Кызылбаши»
– Прошу прощенья, мистер Хелдар, но… дозвольте полюбопытствовать, не ожидается ли каких перемен? – спросил мистер Битон.
– Нет!
Дик только что проснулся в том безысходном отчаянье, с каким встречал каждое новое утро, и отнюдь не был расположен к любезности.
– Само собой, сэр, это впрямь меня не касается, и вообще я завсегда говорю: «Занимайся своим делом, и пускай никто не суётся в чужие дела», – но мистер Торпенхау перед отъездом дал мне понять, что вы, ежели можно так выразиться, надумали перебраться в собственный дом – да ещё какой дом, с двумя квартирами внизу и наверху, и там вас будут лучше обхаживать, чем здесь, хоть я и стараюсь одинаково угождать всем жильцам. Верно я говорю?
– Эх! Я мог бы перебраться разве только в сумасшедший дом. Но все же не трудитесь отправлять меня туда раньше времени. Пожалуйста, подайте завтрак и уходите.
– Смею надеяться, сэр, я не сказал ничего дурного, но право слово, смею надеяться, я делаю все, что только в человеческих силах, для всякого, кто здесь квартирует – и особливо для тех, кому выпала в жизни тяжкая доля, – вот, к примеру, как вам, мистер Хелдар. Вы ведь любите копчёную сельдь с молоками? Сельдь с молоками совсем не то, что с икрой, такую достать куда трудней, но я завсегда говорю: «Не беда, ежели надобно малость потрудиться, только бы сделать жильцам удовольствие».
Мистер Битон ушёл, и Дик остался в одиночестве. Торпенхау давно уехал; кутежи в его комнатах прекратились, и теперь Дик кое-как влачил свою жизнь, которую он слабодушно считал не лучше смерти.
Тяжко жить одному, в вечной темноте, не различая дней и ночей; засыпать от утомления среди дня и внезапно вскрикивать на холодном рассвете. Поначалу Дик, едва пробудившись, начинал ощупью бродить по коридорам, пока не заслышит чей-нибудь храп. Это означало, что день ещё не наступил, и он понуро плёлся восвояси. Со временем он приучил себя смирно лежать до тех пор, пока в доме не поднимется шумное оживление и пока наконец мистер Битон не скажет ему, что пора вставать. Одевшись – а теперь, когда Торпенхау уехал, одевание стало делом долгим и хлопотным, потому что воротнички, галстуки и прочие предметы туалета, как назло, прятались в самых дальних углах комнаты, и Дик вынужден был отыскивать их, ползая по полу и стукаясь головой о стулья и сундуки. Одевшись, он решительно не знал, чем себя занять, и сидел, предаваясь печальным размышлениям, которые прерывались за день только три раза, когда ему приносили поесть. Целая вечность отделяла завтрак от обеда, а обед от ужина, и хоть сотни лет моли бога помутить твой разум, все равно бог останется глух к этим молитвам. Напротив, разум обострился, мысли мчались в бурном круговороте, вертелись впустую, как скрипучие мельничные жернова, когда нет помола; и все же мозг не уставал, не давал покоя. Он рождал мысли, воскрешал образы и картины прошлого. Он пробуждал воспоминания о Мейзи, о былых успехах, об отважных скитаниях на суше и на море, об упоении работой и радости, когда эта работа по-настоящему удавалась, а воображение рисовало все, что ждало бы его впереди, если б только глаза по-прежнему служили ему верой и правдой. Когда же от усталости мысли наконец прерывались, душу Дика беспрерывно захлёстывали волны исступлённого, нелепого страха, – он все время боялся умереть с голоду, испытывал ужас при мысли, что невидимый потолок вот-вот обрушится ему на голову, опасался, что в доме вспыхнет пожар и он погибнет в пламени, как последняя вошь, и ещё его терзали иные кошмары, вовсе не связанные со страхом смерти. Тогда Дик, понурив голову, стискивал подлокотники кресла и, весь в поту, боролся с собой до тех пор, пока звяканье тарелок не возвещало, что ему принесли поесть.
Мистер Битон подавал еду, когда у него бывало свободное время, и Дик привык выслушивать его пространные разглагольствования о неисправных газовых рожках, о пришедших в негодность трубах, которые никак нельзя починить, о мудрёных способах заколачивания гвоздей, на которые надо повесить картины, о прегрешениях подёнщиц и служанок. За неимением лучшего даже сплетни о прислуге обретают захватывающий интерес, а замена водопроводного крана становится целым событием, которое даёт пищу для толков не на один день.
Раз-другой в неделю, по утрам, мистер Битон брал Дика с собой на рынок, где он подолгу торговался, прежде чем купить рыбу, фитили для ламп, горчицу, саговую крупу и ещё всякую всячину, а Дик тем временем переступал с ноги на ногу и развлекался, перебирая жестянки или бесцельно теребя моток шпагата на прилавке. Порой мистеру Битону случалось встретить кого-нибудь из знакомцев, и тогда Дик смиренно дожидался в сторонке до тех пор, пока мистер Битон не спохватывался, что пора возвращаться.
Такая жизнь отнюдь не прибавляла Дику уважения к себе. Он перестал бриться, считая это опасным делом, а пользоваться услугами цирюльника отказывался, потому что это значило бы выставить напоказ свою немощь. Он не мог присмотреть за тем, чтобы одежда его была вычищена как следует, а коль скоро он и прежде не заботился о своей внешности, теперь он превратился в последнего неряху. Слепец не может соблюдать опрятность во время еды по крайней мере первые несколько месяцев, пока не привыкнет к окружающей темноте. Если же он требует чужой помощи и недоволен, когда эта помощь ему не оказывается, то поневоле должен заявить о себе и выказать твёрдость. Но тогда последний лакей поймёт, что он слепой, а стало быть, никчёмный человек. Поэтому умный предпочтёт затаиться и тихонько сидеть дома. Развлечения ради можно не спеша, по одному, вытаскивать щипцами угли из ящика и складывать их кучкой на каминной решётке, ведя счёт каждому, а потом аккуратно, уголёк за угольком, водворять на место. Можно вспоминать арифметические задачки и при желании решать их в уме; можно разговаривать с самим собой или с кошкой, если она удостоит его своим посещением, а будучи опытным художником, можно рисовать в воздухе; но это все равно что пытаться с закрытыми глазами изобразить на картине живую свинью. Можно подходить к полкам, пересчитывать книги и расставлять их по формату; или же пересчитывать рубашки, вынутые из платяного шкафа, и раскладывать их по две и по три на кровати, отбирая те, у которых истрепались манжеты или оторвались пуговицы. Но даже такое занятие в конце концов становится утомительным; а время ползёт медленно, очень медленно.
Дик получил разрешение посещать домашнюю кладовку, где мистер Битон хранил молотки, краны, гайки, длинные отрезки газовых труб, бутылки с керосином и куски верёвок.
– Ежели б я не знал, где у меня чего лежит, право слово, мне никогда не сыскать бы нужную вещь. Вам, поди, и невдомёк, сэр, экая прорва всяких мелочей надобна, чтоб содержать меблированные комнаты, – сказал мистер Битон. Он дёрнул дверную ручку, как бы собираясь уйти. – Тяжкая у вас доля, сэр, как я погляжу, очень даже тяжкая. Что же вы дальше думаете делать, сэр?
– По-прежнему платить за квартиру и еду. Разве этого мало?
– У меня и в мыслях не было сомневаться, сэр, что платить вы будете сполна, но я не раз говаривал своей супружнице: «У него тяжкая доля, потому как он не старик и даже не в пожилых летах, а совсем ещё молод. Потому-то ему так тяжко приходится».
– Пожалуй, вы правы, – сказал Дик рассеянно.
Эту струну в нем задевали столь часто, что он уже ничего не чувствовал – почти ничего.
– Вот я и подумал, – продолжал мистер Битон, все ещё делая вид, что намерен уйти, – может, вы пожелаете, чтоб мой сынишка Алф иной раз, вечерком, почитал вам вслух газеты. Он у меня отменно читает, особливо ежели принять в соображение, что ему всего-то девять годков от роду.
– Буду очень признателен, – сказал Дик. – Только уж позвольте мне отблагодарить его за труды.
– Помилуйте, сэр, об этом мы вовсе не думали, хотя, само собой, тут уж воля ваша. Но слышали бы вы, как он поёт «Мамуля – лучший друг сынули»! Эх!
– Я с охотой послушаю и пение. Пускай зайдёт ко мне вечером и прихватит газеты.
Алф оказался пренеприятным ребёнком, который слишком много о себе воображал, потому что в школе его наградили кучей похвальных листов, и незаслуженно гордился своим пением. Мистер Битон пришёл с ним вместе и весь сиял, внимая, как его отпрыск с грехом пополам визгливо тянул песенку из восьми куплетов на манер беспризорников из лондонских предместий, а потом отец выслушал похвалы и удалился, предоставив мальчику читать сообщения из-за границы. Через десять минут Алф вернулся к родителям бледный и перепуганный.
– Говорит, что не может больше терпеть, – объяснил он.
– Неужто, Алф, ему не понравилось, как ты читаешь? – спросила миссис Битон.
– Нет. Он меня очень даже хвалил. Сроду, говорит, не слыхал такого чтения, только он вынести не может того, что пропечатано в газетах.
– Видать, проигрался на бирже. Ты про биржу ему читал, Алф?
– Нет, там было только про войну где-то далеко, куда послали солдат, – длинно-предлинно, мелкими буковками и со всякими непонятными словами. Он дал мне полкроны за то, что я так хорошо читал. И обещался снова меня позвать, когда захочет, чтоб ему ещё чего-нибудь почитали.
– Это приятно слышать, но, право слово, за полкроны – Алф, положи монету в копилку, да сию же секунду, у меня на глазах – он мог бы продержать тебя подольше. А то он не успел даже по-настоящему оценить, как отменно ты читаешь.
– Я думаю, лучше оставить его в покое: такие люди завсегда этого желают, ежели душа не на месте, – сказал мистер Битон.
Хотя Алф читал специальную корреспонденцию Торпенхау невыразительно и бестолково, в Дике пробудился демон беспокойства. Сквозь гнусавое чтение ему слышался рёв верблюдов в военном лагере близ Суакина, солёные шутки и хохот солдат у кипящих котлов, горький запах дыма от костров, раздуваемых ветром пустыни.
В ту ночь он молил бога лишить его рассудка, считая, что достоин такой милости уже хотя бы потому, что до сих пор не застрелился. Эта молитва не получила ответа, да и сам Дик в глубине души понимал, что остался жить лишь благодаря неистребимой способности относиться ко всему с юмором, а вовсе не в награду за какую-то особую добродетель. Покончить самоубийством, убеждал он себя, было бы просто смехотворно и унизительно в столь серьёзном положении, да к тому же это значило бы расписаться в малодушии и трусости.
– Просто любопытства ради, – сказал он кошке, которая жила теперь у него вместо Дружка, – мне охота знать, сколько это будет тянуться. На ту сотню фунтов, что Торп получил по моему чеку, я могу прожить год. В банке у меня тысячи две или три, не меньше, – выходит, я обеспечен ещё лет на двадцать или тридцать. А потом я останусь при своих ста двадцати фунтах дохода, но к тому времени ещё нарастут проценты. Ну-ка, прикинем. Двадцать пять… тридцать пять – мужчина, как говорится, в расцвете лет… сорок пять – уже полная зрелость, самое время делать политическую карьеру… пятьдесят пять – «безвременно скончался в возрасте пятидесяти пяти лет», как пишут в газетах. Фу! До чего ж эти христиане боятся смерти! Шестьдесят пять – уже почтённые годы. Семьдесят пять – вполне можно дожить. Да, киска, это сущий ад! Ещё пятьдесят лет одиночного заключения в темноте! Ты умрёшь, и Битон умрёт, и Торп умрёт, и Мейзи… все умрут, а я буду жить, изнывая от томительного безделья. Мне ужасно жаль себя. Но хоть бы кто другой меня пожалел. Похоже, что я останусь в здравом уме до самой смерти, но боль никак не утихает. А тебя, киска, когда-нибудь подвергнут вивисекции! Привяжут крепко-накрепко к столику и начнут потрошить – но ты не бойся: будет сделано все возможное, чтоб ты не испустила дух. Ты останешься жить и тогда пожалеешь о том, что не жалела меня. А вдруг Торп ещё вернётся, или… если б я только мог поехать к Торпу и Нильгау, пускай даже я был бы для них обузой.








