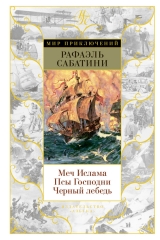
Текст книги "Меч Ислама. Псы Господни. Черный лебедь"
Автор книги: Рафаэль Сабатини
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
С кормы он отдал приказ главному канониру на ходовой палубе.
– Но если им это не удастся? – не унимался Просперо. – Если они в плену?
Его лицо, осененное черным, увенчанным крестом шлемом, было сумрачно.
– Пусть попытаются.
– Но это бесчеловечно, синьор.
– Боже мой, – поддержал его дон Алваро, – это по меньшей мере чудовищно!
– Бесчеловечно? – Громкий голос Дориа стал еще громче. Он так резко откинул назад голову, что длинная борода выбилась из-под нагрудника наружу. – А на кой черт мне человечность? Мое дело вести флот. – Его тон не допускал никаких возражений. – Расходитесь по своим кораблям, господа!
Не успел он договорить, как раздался сигнал к отплытию – три резких залпа через равные промежутки и четвертый раскатистый. До кораблей отчетливо донеслись насмешливые возгласы мусульманской толпы, солдат и горожан, собравшихся на высоком берегу, где ядра с галер не могли достать их.
Адмирал перевел хмурый пристальный взгляд на Просперо:
– На судно, синьор!
Но тот и не думал уходить.
– Позвольте мне, синьор, остаться и прочесать город в поисках наших людей.
– Да вы даже не знаете, живы ли они! – выкрикнул Джаннеттино.
– Я не знаю, мертвы ли они. Лишь зная это, я мог бы удержаться от вылазки. – Он сделал шаг к планширу – перилам, ограждающим борт судна.
– Вы получили приказ, – строго напомнил ему адмирал. – Вы вернетесь на капитанский мостик и приготовите галеру к отплытию.
– Я на всю жизнь буду опозорен, если подчинюсь ему. Равно как и вы, синьор, будете опозорены вашим предательством.
– Я предал их? Ха! Оскорбления невежд не трогают меня. – Он взял себя в руки и попытался объясниться: – Представьте себе, синьор. На борту этих кораблей у меня десять тысяч живых людей. Имею ли я право подвергать их опасности, чтобы спасти четыре сотни? Могу ли я рисковать императорским флотом, оставаясь здесь из-за людей, которые, возможно, уже мертвы? Разве, по-вашему, это подобает капитану? Стоит ли испытывать судьбу, чтобы быть зажатыми между корсарским флотом и неприятелем на берегу? О Бог, пошли мне терпение! Вы завоевали славу отважного мореплавателя, синьор Просперо. Единственное, что меня удивляет, как вам это удалось.
Уязвленный, Просперо ответил насмешкой на насмешку:
– Не убегая от опасности, как вы в Гойалатте.
Сказав это, он повернулся и спрыгнул вниз в поджидавшую шлюпку.
– Остановить его! – взревел Дориа.
Дон Алваро кинулся к борту, когда лодка быстро уходила прочь.
– Нет, нет, дон Просперо! – закричал он вслед. – Вы совершаете большую ошибку.
Даже испанец, склонный объяснить создавшееся положение недостатком прозорливости, пришел к убеждению, что в такой передряге ответственность командующего не оставляет адмиралу другого выбора.
Джаннеттино гневно топнул ногой:
– Презренный, непокорный пес! Надеюсь, что это его конец. Нам следовало бы знать, что с этим заносчивым глупцом никогда не прийти к согласию. Пошлем его к черту!
Когда загрохотали вороты, поднимающие якоря, адмирал вспомнил, что обещал Джанне привезти Просперо домой целым и невредимым. Поэтому он грубо положил конец злобным нападкам своего племянника.
– Не вредно бы тебе помнить, что именно твой промах довел до беды. Если бы ты выполнил задание на берегу, такого никогда бы не случилось. Иди и верни его, и, если будет нужно, даже силой.
Тонкие губы Джаннеттино скривились.
– Смотрите! – ответил он и указал на восток.
Галеры корсаров уже покрыли четверть расстояния, отделявшего их от европейцев. Большие треугольные паруса были теперь прекрасно видны. Легко было подсчитать, что общим числом их не меньше шестидесяти.
– Можем ли мы медлить и дальше? – спросил Джаннеттино.
Разгневанный адмирал в смятении почесывал бороду.
Глава XVIII
Пленник Драгута
Историки поразительно разноречивы во мнениях об этой экспедиции в Шершел. Впрочем, это им присуще. Льстивое произведение Лоренцо Капелло «Жизнь князя Андреа Дориа» представляет собой отчет, полный небылиц, оплаченный самим адмиралом и прославляющий его. Другие авторы, больше заинтересованные в истине, чем в сохранении доброго имени Андреа Дориа, основываются исключительно на фактах. А факты говорят, например, о том, что во время бегства из Шершела – а это отступление и впрямь напоминало бегство – направляемый Дориа флот мчался к Балеарским островам так стремительно, как только позволяли паруса и весла, в то время как флот Барбароссы преследовал его по пятам.
Но не весь флот Барбароссы участвовал в этой погоне, которая к тому же с наступлением сумерек была прекращена. Драгут-рейс с десятком своих галер отстал от берберского воинства и вошел в бухту Шершела, чтобы выяснить, что же там случилось.
Город был охвачен волнением, а в бухте отсутствовали корабли, за исключением одной императорской галеры с турецкими рабами, но без команды, которая могла бы ее защищать. Это была одна из трех галер, направившихся к молу, когда Просперо, так благородно отказавшись подчиниться приказу, сошел на берег. То было одно из его собственных судов, которое он оставил дожидаться своего возвращения с двумя сотнями солдат и людьми, которых надеялся спасти. Двум другим кораблям с восьмьюстами освобожденными христианскими невольниками он разрешил отплыть с императорским флотом.
Этой неохраняемой галерой и завладел Драгут. Затем он высадился на сушу и во главе корсарского войска ворвался в город. Беспорядочное сражение увлекло его на восток, к старому римскому амфитеатру. Здесь он застал укрепившихся европейцев, окруженных солдатами Аликота – турками и арабами. Это был отряд Просперо, выросший на сотню человек за счет спасенных им испанцев.
Слава Драгута, принесшая ему гордый титул Меч Ислама, затмевала известность более жестокого и старого Аликота. Он велел канонирам, вытащившим из крепости свои пушки на волах, чтобы обстрелять оставшуюся горстку захватчиков Шершела, не открывать огонь. Вместо этого он послал к амфитеатру трубача с белым флагом и предложением сдаться.
Просперо предоставил своим сторонникам самим принять решение. Они видели привезенные пушки, и многие из них уже воздавали молитвы Господу, ожидая мгновения, когда они предстанут перед Ним. Поэтому они жадно ухватились за это предложение жизни. И хотя ее будут омрачать лишения рабства, все же надежда на отдаленное освобождение поддержит их силы.
Поэтому они бросили оружие и в суровой, молчаливой покорности вышли из укрытия. Мусульмане шумно окружили их, чтобы вести в тюрьму, где их станут содержать до тех пор, пока судьба каждого не будет определена в Сук-эль‑Абиде.
Последним вышел Просперо, с горечью в сердце, с чувством вины перед своими сторонниками, поставленными им в столь ужасное положение, и со злостью на Дориа, ставшего на его и их пути. Просперо был убежден, что, если он окажется на берегу, синьор Андреа, рыцарь Христова воинства, все же отсрочит отъезд и останется, чтобы взять его с собой. В своем поступке (самом по себе, надо признать, достаточно неразумном) он был движим честолюбием, порожденным родовой враждой между домами Адорно и Дориа. Позже он осознал, что долго дурачил себя, веря, что если уж его взяли в экспедицию, то прошла и вражда. И даже понял, что никогда она не была такой живучей, как в те времена.
Просперо насупил брови при этих мыслях, более тяжелых, чем ожидание предстоящего заточения. Он один вылез из-под обломков древних стен и безразлично стал перед толпой, которая выкрикивала ругательства и потрясала саблями перед его лицом. Потом он различил фигуру командира в зеленом шелковом халате, схваченном на бедрах длинным кушаком, с которого свисал турецкий ятаган, украшенный золотом и слоновой костью. Тюрбан из зеленого шелка был надет на остроконечный шлем, сиявший как отполированное серебро. Драгут-рейс, высокий, сильный и насмешливый, с раздвоенной черной бородой, орлиным носом, пристально смотрел на него проницательным взглядом. Резко очерченные алые губы неожиданно разомкнулись, в улыбке обнажились крепкие белые зубы. Он выступил вперед, резко гаркнув: «Прочь!» – отстранил тех, кто стоял у него на пути, подошел к Просперо с низким поклоном и поднес ладонь к бровям. Потом рассмеялся.
– Опять превратности войны, синьор Просперо!
Он говорил на своеобразной смеси греческого, романских и тюркских языков. Такую речь в Средиземноморье мало-мальски понимали все.
– И превратности весьма приятные, господин Драгут. Коль уж я пленник, слава богу, что именно ваш.
Он расстегивал свой пояс, чтобы сдать оружие. Но Драгут остановил его. Из опыта общения с франками командир корсаров знал об их рыцарских манерах. И теперь был рад случаю показать, что позаимствовал их. Это тешило его самолюбие и внушало мысль о превосходстве над грубыми пиратами, которыми он командовал.
– Нет-нет! – воскликнул он, взмахом руки предупреждая возможные возражения. – Оставь меч себе, дон Просперо. Истинным господам довольно и честного слова.
Просперо поклонился.
– Вы великодушны, синьор Драгут.
– Я принимаю так, как принимают меня. Всегда. Когда я был вашим пленником, со мной обошлись вежливо, и, слава Аллаху, столь неожиданно попав в мои руки, ты тоже не будешь страдать от меня. Я никогда не думал, что встречу тебя среди сторонников этого старого негодяя Андреа.
– Опять же превратности войны. Всякое бывает в солдатской жизни.
– Все в руках Аллаха, – поправил его Драгут. – Он велит, что три тысячи заплаченных за меня дукатов должны быть отработаны. А пока можешь считать себя моим гостем, дон Просперо.
У Просперо не было причин жаловаться на гостеприимство Драгута ни в Шершеле, ни, позднее, в Алжире. Но была и другая причина, по которой он хотел бы пользоваться им дольше, чем было необходимо гонцу, чтобы добраться до Генуи и вернуться обратно.
Гонца отправили к Андреа Дориа, ибо по зрелом размышлении Просперо, не без помощи Драгута, понял, что адмирал все же был прав в своем решении.
Спустя несколько дней, когда он был на галере Драгута, плывущей в Алжир, анатолиец поведал ему, что Дориа удалось ускользнуть от Барбароссы и в целости увести свой флот.
– Я уважал бы его больше, если бы это у него не получилось, – сказал Просперо.
– Неужели? А его повелитель император? А люди, плывшие с ним? Слава Аллаху, лично я не трус, но никогда не вступаю в схватку, если мне грозит поражение. Это не героизм. Это плохое командование. Господин Андреа возвращается домой с подмоченной репутацией. Но выбора не было: он знал, что при любом другом раскладе возвращение домой вообще бы не состоялось.
Тем временем Андреа Дориа, достигнув Мальорки без двух богато нагруженных судов, шедших за ним и захваченных Барбароссой (это не считая потери около семисот солдат, направленных на освобождение восьми сотен невольников, которых он теперь вез с собой), решил, что ему не подобает возвращаться домой как побитой собаке. Что-то надо сделать, чтобы иметь возможность выставить себя в выгодном свете. Итак, попав в то утро на Мальорку, он вернулся к этим размышлениям и предпринял рискованное плавание к бухте Алжира, надеясь, что она охраняется не очень хорошо. Там он повстречал четыре алжирские галеры, направлявшиеся в Египет. Одну он захватил сразу, три другие понеслись к берегу так быстро, что совсем не осталось времени освободить из цепей христианских гребцов. А те, что надрывались на первом судне, были раскованы и присоединены к христианам, вызволенным из плена Просперо.
Адмирал посчитал, что этого достаточно. Захваченное судно для перевозки зерна и двенадцать сотен спасенных рабов были весомым доказательством его мощи на море. Он хвастливо задрал нос, отчего все возвращавшиеся с ним домой испытали ощущение триумфа, и составил туманный отчет, из которого императору стало бы ясно, что экспедиция принесла кое-какие плоды ценой весьма незначительных потерь.
Полагали, что Просперо Адорно погиб. Дон Алваро де Карбахал писал, что юноша пал смертью героя, в то время как Андреа Дориа представил его гибель как следствие мужественного, но бесплодного и заведомо обреченного шага. Император, помня Просперо, сказал, что его смерть – большая потеря для его величества, и выразил соболезнование.
В письмах дона Алваро говорится и о другом. Он полагал, что шершелская авантюра пошла на пользу корсарам, укрепившимся в сознании своего превосходства на море. Это утверждение император отнес на счет зависти: ведь дон Алваро сам хотел командовать его флотом.
Но если адмирал умудрился вернуться в Геную с высоко поднятой головой, то на сердце у него лежал тяжкий гнет. Он не тревожился из-за своего бегства с флотом из Шершела: у него просто не было другого выхода. Но если совесть командира была спокойна, то как человек он глубоко переживал неудачу. Все (и в особенности данное Джанне обещание) говорило о том, что ему следовало удержать Просперо от безрассудной вылазки, которая, несомненно, стоила ему головы. Поэтому Дориа, человек волевой, ни перед кем не опускавший глаз, боялся посмотреть в лицо своей племяннице.
Как он и ожидал, она пришла в гавань с монной Переттой во главе большой толпы знати и простолюдинов, с флагами, трубами и цветами явившейся приветствовать избежавшего поражения триумфатора. С первого взгляда он заметил в ней разительную перемену. Ее бледное лицо выражало страдание. Прекрасные карие глаза поблекли и затуманились. Спокойствие, свидетельствовавшее о силе духа, сменилось апатией, а сдержанность – полным безразличием ко всему.
Она безучастно позволила себя поцеловать. Странно было то, что Джанна не задала никаких вопросов, чем еще больше осложнила задачу Дориа. Освободившись от восторженной толпы и оставшись наедине с Джанной в будуаре монны Перетты во дворце Фассуоло, он рассказал ей все.
– У меня для вас печальные вести, моя дорогая, – сказал он так скорбно, что она все поняла.
Ответа не последовало. Он боялся ее смятения, но Джанна его не выказала. Неестественно вялая, она смотрела на него, казалось, лишь из вежливости. Монна Перетта, сидя возле нее на персидском диване, с мрачным видом держала Джанну за руку, сочувствуя ей и ободряя ее.
Озадаченный адмирал ни о чем не спрашивал. Он просто рассказал все, стараясь представить смерть Просперо как акт величайшего героизма.
Он был готов к горестным рыданиям. Он даже ожидал обвинений в том, что поставил необходимость вывода флота выше, чем спасение Просперо. Но был совсем не готов к тому, что затем последовало.
В помутневших глазах Джанны, по-прежнему устремленных на него, ничего не изменилось. Голос тоже звучал по-прежнему бесцветно.
– Благодарю Бога, что конец его был таким достойным, – сказала она.
Глава XIX
Неосторожность монны Аурелии
Когда адмирал получил наконец от дамы объяснение этой тайны, оно ошеломило и испугало его.
Едва экспедиция отплыла, как вспыхнуло раздражение по поводу альянса Адорно и Дориа, к которому вела предстоящая женитьба Просперо. Дом Адорно презирал главу клана Дориа за это поражение. Те же чувства овладели и знатными генуэзцами, не смирившимися с верховенством Дориа в государстве и готовыми поддержать семейство Адорно, находящееся в оппозиции к нему. Об этом презрении так открыто и свободно говорили, что споры приводили даже к стычкам. Они достигли кульминации, когда Таддео Адорно, публично оскорбленный Фабио Спинолли, убил его на дуэли, а на следующую ночь и сам был умерщвлен агентами Спинолли. Это вынудило его отца в бешенстве прийти к монне Аурелии.
– Мадам, предательство вашего негодного сына начинает приносить свои зловещие плоды, а пожинать их вынуждены другие. Мой мальчик предпочел умереть от ран, нанесенных подлецами. Но я клянусь святым Лаврентием, что синьор Просперо заплатит за это. Мы пустим грязную кровь из его жил, как только доберемся до него.
Ее щеки побелели.
– Вы угрожаете его жизни?
– А что еще остается делать? Могу ли я оставить убийство моего сына безнаказанным?
– Возьмите плату с тех, кто пролил его кровь. Направьте свой гнев на Спинолли.
– Этим мы тоже займемся, будьте уверены. Но мы придушим зло в зародыше. Мы очистимся от позора, в который вверг нас синьор Просперо, очистимся раз и навсегда.
И в ярости добавил:
– И Аннибале быстро найдет управу на Просперо!
– О, вы сумасшедший! Вы и ваш сын!
Он усмехнулся.
– Скоро вы отведаете нашего безумия. Вы поймете, что это такое, когда мы перережем глотки вашим щенкам.
Они с ненавистью смотрели друг на друга: он – объятый яростью и горем из-за потери сына, она – в паническом страхе перед угрозой.
– Боже мой! – воскликнула она. – Вы не представляете себе, что творите, кровожадный дурак!
– Когда дело будет сделано, вы об этом услышите, – жестко ответил он и повернулся, чтобы уйти, но монна Аурелия в ужасе схватила его за руку.
– Вы ослеплены! – исступленно вскричала она. – Все не так, как вы думаете, Рейнальдо. Настояв на своем, вы приблизите день собственной смерти. Разве вы не видите, сошедший с ума слепец, что Просперо не мог поступить иначе?
Он сердито посмотрел на нее.
– Вы достойная мать своего сына, клянусь Господом! Не мог поступить по-другому, вы говорите? Ха! – Он попытался отпихнуть ее. – Дай мне пройти, женщина.
Но она, дрожа, цеплялась за него. И в панике забыла об осторожности. Она хотела лишь одного – спасти своего сына от рук мстительных убийц. Но поскольку предупредить Просперо, чтобы он мог защитить себя сам, она не могла, оставалось, по ее мнению, лишь одно – отвратить Рейнальдо от его кровавого замысла, открыв ему страшную правду.
– Слепой, невидящий глупец! – взорвалась она. – Что мог сделать Адорно в ссылке? Чтобы свести счеты с этими Дориа, нужно было возвратиться сюда, в Геную. А как мы могли это сделать? Только уверив их, что они в безопасности!
– О чем вы говорите? Если вы что-то знаете, выскажитесь яснее.
– Это и болвану ясно. Смирение Просперо – лишь притворство. Он принял их предложение дружбы только для того, чтобы уж наверняка повергнуть их в прах.
Он широко расставил ноги и, уперев руки в бедра, вытаращил глаза.
– И позволил себе помолвку с Джованной Марией Дориа? Кажется, вы об этом забыли. Ба! Но меня на мякине не проведешь.
– Это правда, клянусь на Библии!
– Правда! О Божий гнев! Ну а что тогда эта дама?
Монна Аурелия жестоко усмехнулась:
– Она? Всеобщее посмешище, которое осрамят Дориа, чье имя она носит.
Рейнальдо был потрясен.
– Если это правда, синьор Просперо заслуживает не больше уважения, чем если это ложь.
– Кажется, на вас не угодишь.
– Да, мне не нравится ни то ни другое. Я еще сохранил чувство приличия.
– Это для меня новость, – сказала она.
– Если я с кем-то ссорюсь, то не отыгрываюсь на женщинах, а вступаю в бой непосредственно со своим врагом.
Она рассмеялась ему в лицо.
– Это тоже что-то новенькое. Если вы так отважны, храбры и прямолинейны, почему вы не вцепились в бороду Андреа Дориа, когда он был здесь? Или почему вы не сделаете этого в Генуе с одним из Дориа? Тут их много, есть на кого направить свою ярость. Но вы предпочитаете с отчаянной задиристостью нападать на меня.
– Господи, Аурелия, будь вы мужчиной…
– …вы вели бы себя более вежливо. По возвращении Просперо узнает, что вы о нем думаете. Тогда и посмотрим, хватит ли у вас духу упорствовать в своем мнении.
Лишь после его ухода монна Аурелия поняла, что ее откровенность произвела на него действие, прямо противоположное желаемому. Она хотела успокоить его, полагая, что он разделит ее восхищение упорством Просперо, что он, полный мстительной решимости, чужд всяких слюнтяйских сомнений. А вместо этого Рейнадьдо ушел совсем в другом настроении, не приняв ее образа мыслей. И тогда она испугалась: стоит Рейнальдо заговорить, стоит его словам достичь ушей Дориа – и все пропало. Рейнальдо вспылил и, лишь поостыв, осознал, какой бедой чревато создавшееся положение. События развивались с бешеной скоростью, как бывает, когда в дело вмешивается злой рок. Спустя три или четыре дня дворецкий монны Аурелии доложил ей о прибытии герцогини Мельфийской с племянницей.
Поначалу охваченная страхом хозяйка решила не принимать непрошеных гостей. Потом храбрый дух Строцци придал ей сил. Вооруженная сознанием собственной правоты, она спустилась по большой мраморной лестнице в гостиную с колоннами, мозаичным полом и потолком, богато украшенным фресками. Там мать Просперо и его невеста впервые увидели друг друга.
Пожилая женщина держала себя с холодным, презрительным достоинством, молодая – хладнокровно, с некой задумчивой таинственностью, которую монна Аурелия нашла одновременно и восхитительной, и отвратительной.
Спокойствие хозяйки в этот день было напускным, за ним пряталась истерзанная душа. Столь же фальшивой была и улыбка монны Перетты.
Монна Аурелия, стоя на пороге, приветствовала их с холодной вежливостью:
– Вы оказываете мне большую честь.
Потом она шагнула вперед с поразительной грациозностью, которую сохранила, несмотря на гнет прожитых лет. Гостьи сделали глубокий реверанс, мягко шурша парчой. Монна Джанна была облачена в платье винного цвета, монна Перетта – в розово-серебристое, усеянное драгоценными камнями и подпоясанное блестящим кушаком. Темные глаза герцогини под дугами бровей сверкали, алые губы улыбались.
Она объяснила цель своего визита:
– Ваше здоровье и так подорвано нашими общими несчастьями, и, дабы не утруждать вас посещением нашего дома, я решила посетить вас сама вместе с племянницей. Ведь это ее долг.
– Исполнение которого несколько запоздало, – ответила монна Аурелия, решив занять выжидательную позицию.
Она предложила им сесть, устроив гостей лицом к окнам, а сама расположилась спиной к свету.
– Однако дольше тянуть было нельзя, – мягко сказала Джанна. – Я всегда хотела видеть вас, а теперь ощутила настоятельную потребность в этом.
Даже настроенная враждебно мать Просперо почувствовала, как мелодично звучит низкий голос Джанны.
– Что же превратило ваше желание в потребность?
– Вам интересно? – вежливо осведомилась герцогиня. Она тихонько помахала веером из павлиньих перьев. – Вы действительно задавались этим вопросом? Или же хотите, чтобы мы просто подтвердили вашу собственную догадку?
– Обычно я не позволяю себе гадать, когда могу просто узнать все, что мне нужно, от людей.
Монна Перетта сохраняла безмятежно-дружелюбный вид, хотя в голосе ее сквозила некоторая резкость.
– Признаюсь, мадам, меня давно одолевают сомнения. Только ли здоровье вынуждает вас сторониться нашего дома? Сомнения усилились, когда я почувствовала холодность, с которой вы принимаете будущую невестку.
Улыбка монны Аурелии не сулила ничего хорошего.
– Теплого приема можно ожидать, когда мать одобряет выбор своего сына. А я далека от этого. Во всяком случае, я вела себя искренне.
– Искренне, мадам? – твердо, но несколько смущенно спросила Джанна.
– В чем же, по-вашему, я лукавлю?
– А вот это, – сказала герцогиня, – нам бы и хотелось узнать.
Джанна, утомленная этими экивоками, решила внести ясность.
– Нам рассказали гнусную историю, исходящую якобы от вас. Безобразная история, настолько безобразная и позорная, что мой дядя стесняется спросить вас прямо, правда ли это… Вы меня простите, мадам, если мне недостает деликатности монны Перетты. Вы, возможно, поймете, как мне важно знать полную правду. Эта история…
Но договорить ей не дали. Монна Аурелия уже была охвачена и ослеплена гневом. Взрыв последовал мгновенно:
– Я знаю эту историю, и нет нужды пересказывать ее. Незачем подслащать пилюлю. Вы говорите о позоре и оскорблении. Но что оскорбительного в предположении, что у Адорно хватило низости вступить в союз с убийцами собственного отца?
У герцогини перехватило дух.
– Боже мой!
Бледное лицо Джанны озарилось улыбкой сострадания.
– Это менее оскорбительно, чем мысль о том, что Просперо Адорно мог опуститься до обмана, о котором вы говорите.
– Наши точки зрения, естественно, расходятся, – был ответ. – Это обвинение я перенесу.
– Вы хотите сказать, что этот чудовищный слух – правда?! – воскликнула герцогиня.
На ее пылающем лице появилось выражение ужаса. На миг она лишилась дара речи, а когда заговорила, слова, казалось, душили ее.
– Вы сказали, что мы смотрим на вещи по-разному. Естественно. Я благодарю вас за такое признание. – Она резко поднялась. – Домой, дитя. Мы получили ответ.
Но с лица Джанны не сходила та же странная сострадательная улыбка.
– Это ложь, – со спокойной уверенностью проговорила она. – Позорная, бесстыдная ложь, имеющая целью ранить и унизить нас, вот и все.
Она медленно поднялась.
– Разве вы забыли, мадам, что ваш сын на войне? Полагали ли вы, что, если ему не суждено вернуться и опровергнуть эту нелепицу, память его будет навеки запятнана в глазах тех глупцов, которые поверят вам? Вы не думали об этом. Подумайте же сейчас и, во имя Бога, мадам, откажитесь от этой гнусной клеветы. Если ее источник – ненависть ко мне и желание поразить мое сердце, то все тщетно: вы жестоко просчитались, я не поверю вам, не предам Просперо.
Самолюбивая монна Аурелия говорила так со многими, но никогда не слышала подобных речей от других. Она побелела, глаза ее засверкали, дыхание стало судорожным.
– Вы предпочитаете благодушное неведение, не так ли? – Она резко рассмеялась. – Клевета, говорите? Ложь? Ха! Сколько пробыл Просперо в Генуе, что так и не выкроил время жениться? Что помешало ему? Вы знаете, как он сам объяснял недостаток пыла. Обдумайте же объяснения этого вялого влюбленного.
Лицо монны Джанны омрачилось, глаза стали похожи на две черные лужицы. Она заметно дрожала.
Уловив внезапную перемену, монна Аурелия вновь рассмеялась исполненным ненависти смехом.
– Теперь вы не станете говорить, что я лгу, не так ли?
Джанна шагнула к своей тетке и положила ладонь на ее руку, как бы ища опоры.
– Да, – сказала она упавшим голосом. – Мы получили ответ. Пойдемте.
Монна Перетта обняла Джанну и подтолкнула к двери. Уже на пороге супруга адмирала обернулась и бросила через плечо:
– Ваш сын, мадам, стоит своей флорентийской мамаши. Да поможет ему Бог быть таким, каков он есть, а вам – гордиться им.
Монна Аурелия не удостоила их ответом. Обе гостьи вышли. Герцогиня – полная гнева, а Джанна – сверхъестественно спокойная. Но спокойствие ее не имело ничего общего с самообладанием. Это была апатия сломленного духа. Если она и слушала горькие сетования тетки, то сама хранила молчание и теперь, и позже, вплоть до того дня, когда герцог Мельфийский принес ей весть о гибели Просперо.
Супруга все рассказала адмиралу. Вначале он отказывался верить ей. Он считал, что монна Перетта наслушалась бредней злобной женщины. Но его мнение стало меняться, когда она, в свою очередь, напомнила ему об оскорбительном неповиновении Просперо в Шершеле, представив его как свидетельство мстительной ненависти. В конце концов хладнокровный Дориа впал в такую ярость, какой его близкие никогда прежде не видели.
Племянники, казалось, испытывали злобное удовлетворение.
– Я знал, что делал, когда приковал собаку к веслу, – похвалил себя Филиппино.
Герцог готов был согласиться с ними.
– О да! Вы говорили мне, что я старый дурак, не так ли? А вы оба все поняли и распознали. Но у вас не хватило ума сообразить, что как раз ваше собственное поведение – особенно твое, Филиппино, – питало его затаенную обиду.
– Даже сейчас, – отрезал Филиппино, – вы ищете ему оправданий.
– Оправданий! – взревел дядя, широкими шагами расхаживая по комнате. – Я их не ищу. Я благодарю Бога, что Просперо ослушался меня в Шершеле и поплатился за это.
Джанна дрожала в кресле, а монна Перетта сидела, плотно сжав губы, и всем своим видом показывала, что согласна с супругом.
– А вот я не таков, – проворчал Джаннеттино с недовольной гримасой на лице. – Я люблю сводить счеты собственными руками, а не с Божьей помощью.
Филиппино согласился с ним:
– Конечно. Неверные сделали все за нас, но это слабое утешение. Ему следовало принять смерть от моего меча, который пронзил бы его горло.
Но спустя несколько недель, когда наступила зима, с сицилийского корабля, который продолжал плавать, несмотря на отвратительную погоду, на генуэзский берег сошел молодой мавр Якуб бен-Изар. Он привез письма для герцога Мельфийского.
Так получилось, что в это время герцог отсутствовал и во дворце Фассуоло его замещал Джаннеттино Дориа. Офицер порта проводил мавра к нему. На вопрос, откуда письма, Якуб с поразительной прямотой ответил, что они от Драгут-рейса и касаются выкупа господина Просперо Адорно, пленника его хозяина.
Джаннеттино сломал печати.
«Господин герцог! – писал Драгут, хотя и с ошибками, но на сносном итальянском языке. – У меня приятные для Вас известия. Волею своей Аллах сохранил жизнь великого романского капитана Просперо Адорно, который ныне пребывает у меня в плену. Я назначаю за него разумный выкуп, не превышающий трех тысяч дукатов, – то же, что Вы получили от господина Хайр-эд‑Дина за меня. После уплаты я сразу же верну ему свободу и в целости и сохранности отправлю в Геную. Пока же он остается также и заложником, гарантирующим безопасность моего посланника Якуба бен-Изара. Да продлит Аллах Ваши, господин, дни на земле!»
Джаннеттино послал за своим кузеном, и за закрытыми дверьми они вдвоем принялись решать, что же предпринять. Джаннеттино склонялся к тому, что за три тысячи дукатов стоило бы вернуть этого мерзавца домой и публично повесить за невыполнение приказа. Но коварный Филиппино высмеял своего двоюродного брата за несообразительность.
– Чтобы его повсюду сующий нос приятель дель Васто обрушился на нас с обвинениями, а другой закадычный дружок, дон Алваро де Карбахал, снова назвал неподчинение дона Просперо благородным поступком?
Эти сложные умозаключения раздосадовали Джаннеттино.
– Ты уже открыто высказывал сожаление по поводу того, что он погиб в Шершеле. Ты, кажется, говорил о мече, воткнутом в его глотку.
– Если его вернут сюда, ты увидишь, что угроза будет приведена в исполнение.
– И еще я увижу, что убийство понравится императору не больше, чем казнь.
– Убийство? – Филиппино презрительно взглянул на него. – Дуэль не убийство. Если я убью его в честном поединке, кто сможет обвинить меня?
– Возможно. Но вдруг он убьет тебя?
– Тогда ему придется биться с тобой, Джаннеттино, а после тебя найдется еще дюжина других, пока кому-нибудь не повезет.
Джаннеттино пожал могучими плечами.
– Герои! – проворчал он.
– Но в любом случае в этом не будет нужды, – сказал Филиппино. – Поскольку мы не можем его повесить из-за уважения, которое питает к нему сам император, остается только один выход. Пусть он сдохнет в цепях.
– Но как долго он будет в плену? Когда-нибудь ведь наступит освобождение.
– Ты упускаешь из виду одну вещь. Он остается заложником, гарантом возвращения этого Якуба бен-Изара. А что, если Якуб вообще не вернется? Это ведь очень просто. – Он рассмеялся. – Я пошлю господина Якуба на галеры и предоставлю господину Просперо самому расплачиваться за это. Не думаю, что мы снова услышим о нем.








