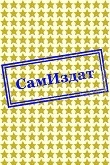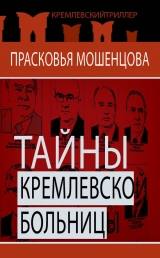
Текст книги "Тайны Кремлевской больницы, или Как умирали вожди"
Автор книги: Прасковья Мошенцева
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
Самоубийство в посольстве
Прошла неделя после покушения на меня. Раны постепенно заживали. Правда, голова моя была еще тяжелой. К тому же побаливала правая ключица, только через несколько лет выяснилось, что там был перелом.
И вот в воскресное утро, в шесть утра, раздался телефонный звонок. Меня попросили срочно подняться на пятый этаж. Я знала, что там живет личный повар нашего посла вместе с женой. Жена служила в посольстве уборщицей. К ней меня и вызвали.
На постели я увидела стонущую женщину с явными признаками острого отравления. Ее губы и лицо казались фиолетовыми.
Муж-повар рассказал следующее. Рано утром он услышал, что жена ходит по комнате, но не придал этому значения и снова уснул. Когда проснулся, увидел жену на подоконнике, окно было распахнуто. Она готовилась выпрыгнуть. Он успел схватить ее за ночную сорочку. Женщина повисла снаружи. В тишине еще спящего города раздался ее истошный крик. Чудом ему удалось втянуть ее обратно в комнату.
Позже выяснилось, что женщина страдала шизофренией, о чем никто не догадывался. Ее странное поведение, некоторые отклонения в психике расценивались как безобидное чудачество. Я недоумевала: как могли проморгать такую болезнь в Союзе, да еще дать визу на выезд за рубеж?
Жена повара решила свести счеты с жизнью. Выпила большое количество различных ядов. Причем хватала все, что попадалось под руку: нафталин, марганцовку, йод… Смотреть на нее было страшно. Я сделала все необходимое в таких случаях: инъекцию успокаивающих и сердечных лекарств, желудок промыла молоком. Женщина уснула.
Я понимала, что спасти больную вряд ли удастся: слишком большую дозу отравляющих веществ она приняла. Сказала о происшествии послу. Не знаю, какой разговор вел он со своими помощниками, но часа через три мне было приказано собираться в путь – сопровождать больную до Москвы. Я пыталась возражать:
– Она же нетранспортабельна! Психически нездоровый человек… Возможна непредсказуемость поведения. К тому же нарастает интоксикация… Ее нельзя никуда везти.
Но посол настоял на своем.
– Нельзя допустить, – доказывал он, – чтобы этот из ряда вон выходящий случай стал достоянием определенных французских служб и прессы. Все будет истолковано против нас. Вы знаете, что произошло в советском посольстве в Америке? Там из окна выбросилась учительница… Не помню, то ли со второго, то ли с третьего этажа. Так ее просто подхватили сотрудники американской разведки, днем и ночью следившие за зданием посольства. Ее вынудили остаться в Америке. После выздоровления она стала работать на радиостанции «Голос Америки» и за хорошую плату поливала свою страну бог знает как. В частности, попытку самоубийства она трактовала как акт протеста против режима. Твердила об издевательствах над ней и прочая. Не забывайте, идет «холодная война».
Мне ничего не оставалось делать, как подчиниться распоряжению посла. В спешке как-то забыла про свои собственные травмы.
Задание было непростым. Прежде всего, я должна была сделать так, чтобы ни в аэропорту, ни в самолете никто не заметил состояния моей больной. Полет прошел благополучно. Правда, когда самолет стал снижаться над Восточным Берлином, я ненадолго потеряла сознание. Немудрено: после сотрясения мозга прошло всего семь дней.
В Берлине нас ждала машина с представителем советского посольства. Конечно, там уже знали, кого я сопровождаю, и заранее подстраховались. Нас поместили в полуподвальное помещение. Мало того, какой-то умник запер дверь на ключ. Мы обе крепко уснули. Моя подопечная – после успокаивающего укола, я – от переутомления. Около трех часов ночи нас разбудила стрельба. «Неужели война?» – ужаснулась я.
Но вскоре все стихло. Я начала барабанить в дверь – никто не откликался. Моя пациентка, бледная, задыхающаяся, металась по комнате, с трудом передвигая ноги. Пришлось снова делать ей успокаивающий укол.
О нас вспомнили только в полдень. Открыли дверь, стали извиняться. Потом посадили в самолет на Москву. И только в самолете сопровождавший нас человек объяснил, что же произошло ночью в Берлине. По его словам, западные немцы пытались перейти границу Восточного сектора. Пограничники вынуждены были открыть огонь. А спустя время между Западным и Восточным Берлином была воздвигнута железобетонная стена.
В Москве мою пациентку уже ждали. С небывалой поспешностью люди в белых халатах подхватили женщину и поместили в машину «скорой помощи». Я была возмущена: мне даже не дали попрощаться с ней, не поинтересовались подробностями заболевания и даже не сообщили, в какую лечебницу ее направляют. Только на следующий день я узнала, что увезли мою пациентку в психиатрическую больницу имени Соловьева. Состояние ее было крайне тяжелым. Через трое суток она умерла.
Незнакомки с портрета Крамского
В последний год жизни в Париже мы часто ходили по музеям, картинным галереям, ездили за город. Побывали в знаменитом Лувре. Любовались собором Парижской Богоматери, знакомым по романам Виктора Гюго. Бродили по Латинскому кварталу и набережным Сены… Все было интересно! Случалось встречаться и с русскими эмигрантами.
Однажды, гуляя по парижским улочкам, заглянули в небольшой магазинчик с русским названием. Хотели купить нашу копченую колбасу и еще что-нибудь отечественное. Продавцами оказались эмигранты из России. Встретили нас радушно, предложили все самое лучшее. Они уже упаковывали наши покупки, когда открылась дверь и на пороге появилась старая дама, в весьма поношенном, но элегантном костюме. В руках она держала потертый ридикюль с какой-то диковинной, блестящей отделкой. На голове, которую она старалась держать очень прямо, была старинная шляпа с поникшими страусовыми перьями.
Продавец устремился к ней навстречу со словами:
– Милости просим, княгиня! Рады вас видеть.
Он бережно проводил ее до прилавка. Потом быстрым движением смахнул в ее открытый ридикюль обрезки колбасы. Уходя, княгиня долго его благодарила…
Запомнилась и другая встреча. По врачебным делам я оказалась в нашем консульском отделе. Со мной был милый человек – Михаил Михайлович Юрьев. Он работал в посольстве, но имел отношение и к консульскому отделу, а потому был знаком со многими эмигрантами. Многие приходили сюда за документами, разрешающими въезд в Советский Союз. В основном это были женщины – немолодые, печальные, скромно одетые.
Одна из них в одиночестве стояла у окна. Я долго смотрела на нее, что-то неуловимо знакомое чудилось мне в ее облике… Несмотря на возраст, женщина была очень хороша: темные большие глаза, слегка опущенные веки, гордо вскинутая голова… Михаил Михайлович познакомил нас и с любопытством наблюдал за обеими. Я была младше, да и одета несравненно лучше. Помню, на мне был любимый черный костюм с бархатным воротничком, черные замшевые туфли на высоком каблуке и шляпа из черного бархата с розовыми страусовыми перьями. Женщина повернулась в полупрофиль – и я поняла, на кого она похожа… На «незнакомку» Крамского!
В Москве, бывая в Третьяковской галерее, благо она напротив моего дома, я подолгу любовалась портретом этой загадочной женщины. Он прямо-таки притягивал к себе.
– А знаешь, ты чем-то похожа на эту «незнакомку», – сказал однажды мой дядя, стоявший рядом.
То же самое сказал в Париже Михаил Михайлович, когда я стояла подле парижской «незнакомки»:
– Вы обе будто сошли с полотна Крамского… Очень похожи, как будто двойники.
«Ничего себе, двойники, – подумала я. – Девочка из бедной крестьянской семьи… И потомственная аристократка».
И еще один случай. На этот раз я ехала из консульства в посольство вместе с нашим военным атташе, генералом Зверевым. Ехали на такси. Путь был длинным, чуть ли не через весь Париж. За разговорами не заметили, как машина остановилась прямо у входа в посольство. Таксист, пожилой человек с благородной внешностью, вышел из машины, чтобы помочь мне. Генерал собирался расплачиваться. И вдруг таксист признался, что, невольно слыша наш разговор, понял, что мы из России. Потом посмотрел на генеральскую форму Зверева и сказал с горькой усмешкой:
– Никогда не думал, что я, генерал царской армии, буду когда-нибудь везти советского генерала.
Наш военный атташе как будто смутился. Потом улыбнулся и горячо пожал руку бывшему царскому генералу. За услуги Зверев заплатил в три раза больше, чем было на счетчике. Таксист поблагодарил, но деньги принял с достоинством. На глазах его показались слезы. Он так и стоял у своей машины, пока мы не скрылись за дверями посольства.
Доктор Лякур и посол Павлов
Срок нашего пребывания в Париже подходил к концу.
Однажды воскресным вечером мы с мужем были приглашены в гости к доктору Лякуру. Это было знаком особого расположения. Надо сказать, что у французов не очень принято приглашать гостей домой. Встречи назначаются в кафе, ресторанах, причем, как правило, каждый расплачивается за себя сам. Как говорится, дружба – дружбой, а табачок – врозь. Удивило меня, что во Франции считается нормальным, когда взрослые дети оплачивают обед у родителей.
Мы же попали в «настоящие гости». Все располагало к откровенной беседе: и приветливость хозяев, и знаменитые французские вина, и прекрасно сервированный стол, и тонкая французская кухня… Говорили о медицине, о падении рождаемости во Франции. Лякур сокрушался, что детей рождается все меньше и меньше, что процесс этот принимает угрожающий характер. Говорил, какие меры принимает правительство для повышения рождаемости: на каждого ребенка выделяется пособие, и размер его таков, что родители троих детей могут безбедно на него жить, не заботясь о трудоустройстве. Кроме того, во Франции много женских и детских консультаций, осуществляется медицинский патронаж. И все это, разумеется, бесплатно.
– Такая политика уже дает свои плоды, – закончил доктор с улыбкой…
Естественно, что в ответ я с гордостью рассказывала, как обстоят дела с охраной материнства и младенчества в Советском Союзе.
Потом заговорили о хирургии.
– Я бы пропел оду русским хирургам, – сказал Лякур. – Особенно их рукам. Взять хотя бы ваши руки, мадам. Это же – живой совершенный инструмент! И это признают во всем мире.
Похвала французского доктора была приятна. Я вспомнила, что подобные комплименты слышала от японского врача… Но про себя подумала: «Этому совершенному «инструменту» не помешали бы другие – настоящие высококачественные хирургические инструменты и аппаратура». И с обидой вспомнила, с какими трудами добывала иглы для Бакулева и Петровского.
День отъезда все приближался. Я уже мечтала о возвращении домой. Но посол Павлов не спешил отпускать меня. Отношения наши были непростыми. Поначалу он произвел на меня хорошее впечатление: умен, правдив, смел, элегантен. Потом я убедилась, что частенько он был несправедлив и придирчив. Взять хотя бы историю с домашним арестом! Но, видимо, я устраивала его семью как лечащий врач. Под конец командировки вдруг выяснилось, что года за два до отъезда во Францию я оперировала Павлова в Кремлевской больнице. Почему-то он напомнил об этом только сейчас. Я же его лицо забыла. Может быть, потому что в Париже он носил бороду, которая, на мой взгляд, уродовала его довольно красивое лицо. К тому же по тогдашним временам она не соответствовала, как теперь говорят, имиджу дипломата.
Разочарование вызвал и один непредвиденный случай. Павлов пригласил нас с мужем прокатиться по Парижу. А именно в тот день студенты праздновали окончание учебного года. Как это принято во Франции, они всячески развлекались: свободно шествовали по центральным улицам города, заходили в кафе и рестораны, где ели и пили бесплатно. Кроме того, студенты безнаказанно могли и побезобразничать: опрокидывали столы и стулья в кафе, переворачивали машины… В этот день им позволялось буквально все.
И надо же было очутиться на пути гуляющих студентов советской машине! Нас весело остановили, попросили выйти. Мы поняли, что ждет впереди. В нескольких шагах валялись перевернутые вверх колесами машины. Я была уверена, что нас не тронут. Красный флажок на капоте автомобиля указывал, что едет не кто иной, как посол Советского Союза. Думаю, что студенты узнали и самого посла – по характерной бородке. Действительно, после небольшого замешательства нам дали «зеленую улицу».
Но что случилось с самим Павловым? На него жалко было смотреть. Куда девалась его гордая осанка, всегдашняя самоуверенность? Он суетился, что-то просительно лепетал…
«И это наш посол!» – с горечью подумала я.
Наконец наступил день нашего отъезда. Чтобы оставить о себе память на прекрасной земле Франции, в садике у посольства я посадила серебристую ель.
На вокзале нас провожало много людей. В последний момент появился и сам посол, хотя, по дипломатическому протоколу, в его обязанности это не входило. Мы обнялись и распрощались навсегда.
Украли трусы…
Дома, в России, первым делом захотелось забраться в глубинку, чтобы подышать по-настоящему чистым воздухом, увидеть милые сердцу пейзажи. Всем большим семейством отправились на Рязанщину, в есенинские места, в городок Спасск.
Природа Средней полосы радовала глаз. Но после жизни во Франции были особенно заметны убогость и бедность окружающих селений.
Погода была жаркой, и мы решили искупаться в Оке. На берегу резвились деревенские детишки. Увидев наших, городских, да к тому же хорошо одетых ребят, они сбились в кучу и притихли. Но уже через несколько минут дети, все вместе, бегали, кувыркались, плескались в воде…
Когда мы вдоволь наплавались и вышли на берег, обнаружилось, что вся наша одежда, вплоть до трусов, пропала. Вот так незадача! Погоревали немного и собрались уходить в купальниках, благо было тепло. Как вдруг увидели бегущего по берегу мальчика, лет пяти, в широких и длинных не по росту трусах. Не успели сказать и слова, как маленькая Люба сообразила, что трусы на мальчике – явно папины. Она помчалась вслед за ним, догнала, вцепилась ручонками в трусы и стала их стаскивать, приговаривая:
– Отдай папины трусы. Отдай папины трусы.
Бедняга мальчуган испугался, заплакал. Но за трусы держался крепко, не собираясь с ними расставаться. Подбежали взрослые. Выяснилось, что на мальчугане трусы были собственные, а вовсе не нашего папы. Малыша успокоили, но теперь уже в голос ревела Люба! Мы же давно не хохотали так легко и самозабвенно! Еще бы… Наконец-то мы в своей стихии, на родной земле.
Дом в Лаврушинском
Загадочная история нашей квартиры
Этот дом всегда казался мне громадой. Особенно когда переехали сюда из Подмосковья, в 39-м. Массивное серое здание располагалось как раз напротив Третьяковской галереи и возвышалось над Замоскворечьем. Из окон последних этажей видны были Москва-река и Кремль. Дом был только что построен для советских писателей.
Я уже знала, что здесь жил и умер Антон Семенович Макаренко – автор знаменитой «Педагогической поэмы».
Зимние месяцы проводил в этом доме Михаил Пришвин, чьи рассказы о природе я читала детям. Говорили и о Константине Треневе, который тоже жил в Лаврушинском. Его пьесу «Любовь Яровая» я смотрела в театре. Неужели я воочию увижу всех этих знаменитых людей и даже стану их соседкой? Сердце мое замирало…
Поразило меня и внутреннее убранство дома. Парадные лестницы, старинные люстры, дубовый паркет. Квартиры были однотипные: три комнаты и еще маленькая – для прислуги.
Когда мы въехали в новую квартиру на седьмом этаже, одна комната была закрыта на замок. Выяснилось, что прежде квартиру занимал Иван Капитонович Луппол, человек из окружения Алексея Максимовича Горького. После смерти Горького он стал организатором и директором музея писателя в Москве. Одна из комнат и была занята библиотекой бывшего хозяина. Нас это нисколько не смутило. Несказанно были рады и двум комнатам.
Буквально через несколько дней после переезда появилась жена Луппола – Мария Евгеньевна. Рассказала, что мужа ее арестовали, она же не имеет своего угла и скитается по знакомым. Мы посочувствовали ее бедам и предложили временно пожить в пустой комнате, которую уже освободили от книг. Разумеется, без прописки, нелегально. Она с радостью согласилась. Мы и думать не думали, что совсем скоро пожалеем о своем порыве.
Не знаю, каким образом, но без нашего ведома Мария Евгеньевна незаконно оформила одну из больших комнат на себя. Ради сохранения добрососедских отношений мы не роптали. Вскоре в своей комнате она поселила молодого любовника. По странному стечению обстоятельств, он оказался бывшим воспитанником колонии Антона Семеновича Макаренко, который к этому времени уже умер. Правда, связь свою соседка держала в тайне. Но, как известно, мир слухами полнится… Одним словом, Мария Евгеньевна казалась нам женщиной властной и непредсказуемой.
Постепенно мы стали обживаться в новом доме. Жильцы уже знали, что по профессии я – врач, обращались за помощью.
Однажды заболел наш сосед Виктор Григорьевич Финк. Я пришла его навестить. С этого дня началась наша дружба. От него я и услышала леденящую душу историю о бывших хозяевах нашей квартиры. Описываю ее так, как услышала от Финка.
– История трагическая, – рассказывал Виктор Григорьевич. – Вы, должно быть, знаете, что у Алексея Максимовича Горького был сын, Максим Пешков, который умер при загадочных обстоятельствах. У него была красавица жена, все звали ее Тимошей. Иван Капитонович Луппол, муж Марии Евгеньевны, влюбился в нее безумно. Жена, разумеется, узнала и решила отомстить. За Лупполом была закреплена машина и постоянный шофер, которому он доверял. Мария Евгеньевна решила воспользоваться ситуацией. Она сблизилась с шофером, мало-помалу стала черпать у него нужную информацию. А вскоре – и писать доносы на собственного мужа. А тут неожиданно умирает Максим Пешков. По одной из версий, причиной его преждевременной смерти было умышленное отравление. Подозрение пало именно на Луппола, чему немало поспособствовала Мария Евгеньевна. Короче, – закончил свой рассказ Финк, – она его и отдала в руки НКВД. Ивана Капитоновича арестовали, судили и сослали в Сибирь. Там он вскоре и умер.
После войны из Чебоксар приехала моя мама с детьми. Нас было уже пятеро, не считая няни для младшей дочери Любочки, которая родилась в 49-м…
С Марией Евгеньевной мы прососедствовали лет двадцать. Она все надеялась заполучить свою квартиру назад. Но даже после реабилитации мужа ей ничего не вернули. Думаю, она и не хлопотала особенно, боясь разоблачений. Ведь уже после смерти Сталина стали обнародовать имена доносчиков. Зачем ей было рисковать?
В начале 60-х соседка тяжело заболела. Молодой любовник из колонии Макаренко бросил ее, так и не дождавшись обещанной прописки. Марию Евгеньевну положили в больницу, откуда она уже не вышла. Наша семья заняла, наконец, всю квартиру.
Нежданная встреча
Чего-чего, а тишины и покоя в нашей квартире не было никогда. Вечно толпились родственники, друзья детей. Кто-то приезжал, кто-то уезжал. Особое оживление наступало, когда из Тульского суворовского училища приезжал наш воспитанник, он же племянник Саша. Как правило, он приводил за собой ватагу товарищей, прибывших в Москву для участия в военном параде на Красной площади. Обычно человек двадцать суворовцев вваливались в нашу квартиру. В доме их уже ждал по-праздничному накрытый стол: пирожки, салаты, холодец, рыба… Потом подавалось что-нибудь горячее и обязательно сладкое и чай. Я старалась побаловать ребят, ведь у большинства из них отцы погибли на фронте.
Однажды ребята заявились с подарком от друзей-нахимовцев. Что за подарок, никто не знал. Решили посмотреть, отправившись зачем-то в ванную, да и еще прихватив с собой собаку.
Через несколько секунд в ванной раздался взрыв и повалил густой дым. Первой, дрожа всем туловищем, выскочила собака и стремглав бросилась на балкон. Потом стали выбегать мальчишки. Саша пытался пожар потушить: открыл краны с водой. Но огонь разгорался, а дым выедал глаза. Оказалось, нахимовцы решили подшутить над суворовцами и послали в подарок дымовые шашки. То-то было смеху! Чуть не сгорели…
В другое прекрасное утро, вскоре после возвращения из Франции, в квартире раздался звонок. В этот день никого не ждали. Накинув халат, я пошла открывать.
На пороге стоял пожилой человек с седыми, кудрявыми волосами, морщинистым лицом и темными, печальными глазами. Руки его слегка дрожали. Не знаю почему, но я сразу почувствовала, что это – отец. Мой отец, которого я не видела почти сорок лет.
Несколько минут мы молча смотрели друг на друга, потом он произнес: «Прости».
Что творилось в моей душе, объяснить трудно. Ведь я была уверена, что отца давно уже нет в живых. И вот он стоит передо мной… Забыв обиды и не задавая вопросов, я на секунду прижалась к его груди… Потом пригласила в дом. Он вошел, но продолжал стоять, словно онемев. Еще бы! Перед ним стояла не худенькая девчушка, которую он видел последний раз в Паревке, а взрослая красивая дама – благополучная и счастливая, судя по большой, богато обставленной квартире, блистающей к тому же безукоризненной чистотой.
Почему-то мне стало безумно жалко этого человека – моего отца. Он прожил у нас неделю, много пил, плакал и каялся. Рассказывал подробности о втором браке, где у него было уже трое взрослых детей. Но счастлив отец не был. Новая жена, по его словам, оказалась настоящим жандармом в семье. Но самое печальное – она постоянно угрожала, что выдаст отца гэбэшникам, если он вздумает от нее уйти. Страх разоблачения не отпускал его ни на минуту.
– Я же жил под чужим именем, – признался отец. – Взял имя своего брата Павла…
Я что-то слышала об этой истории от родственников, но до конца не верила.
Через семь дней отец вернулся в Белгород, где жил теперь. А через какое-то время пришло письмо от его дочери. Она сообщала, что вот уже два месяца, как отца парализовало, что вся семья выбилась из сил, и спрашивала, нельзя ли его положить в какую-нибудь больницу. Мол, мне, врачу Кремлевской больницы, сделать это несложно.
«Всего неделю этот человек был моим отцом, – думала я, – а в той семье прожил сорок лет… И теперь, старый и больной, стал лишним».
Я все сделала, чтобы помочь ему. Написала на бланке Кремлевской больницы к главному врачу Белгорода письмо с просьбой госпитализировать отца. Отца положили в больницу, даже выделили отдельную палату. В больнице он вскоре и умер.
С мамой они так и не встретились. Когда отец был в Москве, она еще лежала в больнице после несчастного случая. Я не хотела ее волновать. Мне казалось, она всю жизнь любила его одного…