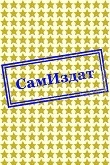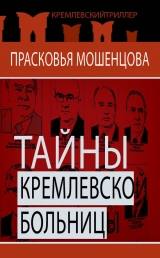
Текст книги "Тайны Кремлевской больницы, или Как умирали вожди"
Автор книги: Прасковья Мошенцева
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
Моряк с раздробленной рукой и другие
Однажды вечером меня вызвал посол Павлов и попросил немедленно выехать в Гавр.
– Случилось несчастье, – объяснял он. – Там стоит на якоре наше торговое судно, и моряку в машинном отделении раздробило руку. Уже трое суток он находится во французском госпитале. По этой причине судно не может продолжать свой курс. Но главное – состояние моряка резко ухудшилось. Ему назначена на завтра операция – ампутация руки.
Выехали тотчас. Сопровождали меня муж, как сотрудник посольства с дипломатическими полномочиями, и секретарь Позельский. Мужчины попеременно вели машину. Расстояние до Гавра было порядочным, а нам необходимо было приехать туда как можно раньше.
В 12 часов ночи мы поднялись по трапу советского парохода. Моряки помогли найти госпиталь, где лежал юноша. Несмотря на дипломатические паспорта, мы попали туда с большим трудом. К тому же в госпитале не оказалось дежурного врача: он ночевал дома – так принято во Франции.
Врача мы дожидались часа два. В это время слушали моряка: как произошел этот несчастный случай, как его лечат. Он пожаловался, что в госпитале за все три дня его никто не осмотрел, не сделали ни одной перевязки. Я пощупала руку – было впечатление, что это не рука, а сплошная масса засохшей крови, пропитавшей бинты.
Наконец пришел врач. Я попросила разъяснить, что является показанием к ампутации руки. Кроме того, попросила разрешения присутствовать при перевязке, чтобы самой посмотреть травму. Но… Ни разъяснения, ни разрешения не получила. О чем бы я ни просила, получала категорический отказ.
Честно говоря, не ожидала от французов такого безразличного, если не сказать больше, отношения к нашему соотечественнику. Недолго думая, приняла решение – забрать из госпиталя больного и увезти в Париж. Конечно, был риск: у моряка не было визы, не имелось и заграничного паспорта. Это означало, что никто не даст разрешения на повторную госпитализацию. Но опять сработала моя отчаянная головушка: если потребуется операция – сделаю ее сама. Мне ли, военному хирургу, робеть?
Все вместе взялись за дело. Сначала отвезли больного на пароход. Там я сразу приступила к осмотру травмы. В течение часа отмачивала засохшие комки ваты, положенной еще при первой перевязке прямо на места переломов пальцев правой руки. А первая перевязка была сделана три дня назад. Это ли не варварство? Восхищение французами стало меркнуть.
Вспомнила случай, когда мне довелось оказывать первую помощь пленному немцу. Это был 46-й год. Я работала ординатором в 1-й Градской больнице – клинике мединститута. «Скорая помощь» привезла пленного немца с огромной скальпированной раной головы: примерно половина кожи с волосяным покровом была содрана и вывернута назад. Зрелище было ужасающее! Даже я, навидавшись за время войны всяких ранений, не могла смотреть на пленного без содрогания. Оказалось, немец работал на стройке и с большой высоты по касательной на него упал кирпич. Череп не пострадал, раненый был в полном сознании. Путая русские слова с немецкими, он умолял меня помочь ему, говорил о старой матери, о жене и детях, оставшихся в Германии. «Странный человек! – подумала я тогда. – Как будто, если бы их не было, мы не стали его оперировать и лечить».
Я сделала все возможное, чтобы спасти необычного пациента. Пластическая операция вернула ему прежний облик. Он пролежал в моей палате примерно месяц. Коллеги, посмеиваясь, спрашивали: как там твой друг немец? А мы действительно подружились. Немец, когда выписывался, плакал.
…И вот наш моряк во Франции в начале 50-х, уже после войны… Сломанные его пальцы были еще живые, не омертвевшие. Это меня обнадежило. Наложила антисептическую повязку на рану, уложила шину на руку, и мы тронулись в путь.
Вернулись в Париж утром. Не теряя ни секунды, я взяла больного в свою амбулаторию. Обезболила места переломов, сделала вытяжение каждого пальца, уложила их в правильное положение и зафиксировала гипсовой повязкой. Через три недели больной стал шевелить пальцами. Рука была спасена! Дальнейшее лечение моряк проходил уже в Советском Союзе.
А месяца через два мне пришлось выехать на побережье Атлантического океана, в порт Шербур. Заболела дочь Малика, представителя СССР в Совете Безопасности. В Шербур я приехала с небольшим опозданием. Вся семья ждала меня на набережной. Малик с супругой представляли собой весьма элегантную пару. С ними была и девочка. Малики возвращались в Париж, но дочь еще на пароходе почувствовала себя плохо: поднялась температура, болела голова. Мы ехали поездом, в комфортабельном купе. Никаких признаков острого заболевания у девочки я не нашла. Плохое самочувствие объяснялось морской качкой, которую она не переносила. Яков Александрович сразу повеселел, пришел в хорошее расположение духа, завел со мной разговор о политике, в чем, признаться, я была полным профаном.
Малика это ничуть не смутило. Наоборот, он неожиданно раскрылся и рассказал мне много интересного из своей жизни дипломата и политика. Я внимала ему с открытым ртом. Он посматривал на меня с улыбкой и продолжал свой монолог. Так незаметно и доехали.
В следующий раз мне довелось встретиться с ним уже в Москве, в Кремлевской больнице. Но об этом позже…
Произошел еще один случай, заставивший меня изрядно поволноваться. И опять пришлось вступить в конфликт, теперь уже с торгпредом.
Неожиданно у его секретаря Тани Дмитриевой обнаружили туберкулез легких. Ей грозило увольнение и преждевременная отправка в Союз. А там, в Москве, у нее оставались дочка и мать, которые существовали только на ее зарплату. Нарушая существующие инструкции, я решила помочь ей остаться в Париже. Вместе с рентгенологом еще раз тщательно осмотрела больную, нашла туберкулезный очаг. Но вот неожиданность! Расположен очаг был таким образом, что туберкулезные палочки в мокроту не попадали. Стало быть, для здоровья окружающих Татьяна опасности не представляла. Это и давало мне шанс не соглашаться с ее увольнением. И опять мне помогли друзья – французские врачи. С их помощью я достала самые новейшие и мощные антибиотики, сделала Татьяне более ста инъекций. Очаг был ликвидирован.
Но какой ценой досталась мне эта победа! Меня не раз вызывали «на ковер» не только к торгпреду, но и к послу. Предупреждали об ответственности, которую я на себя беру, и прочем. Я стояла на своем.
Прошло много лет. Моя Татьяна жива и здорова по сей день.
Мама бросается в шахту лифта
Эта страшная командировка в Москву возникла неожиданно. Мне было поручено сопровождать в столицу дочь маршала Тимошенко, которая собиралась рожать. Ее муж – военный летчик, служил в Париже. Маршал же непременно хотел, даже требовал, чтоб дочь рожала на родине.
Летели самолетом. Все шло благополучно. И вот в Шереметьевском аэропорту я передала будущую мамашу прямо в руки любящего отца.
Сама же поспешила проведать своих. По пути к дому остро ощутила, как соскучилась по маме и Милочке, которая уже училась в школе. Дома застала плачущую дочь. Мамы не было…
– Она в больнице, – еле выговорила Мила.
Уже позже я выяснила, что случилось страшное… Мама бросилась в шахту лифта. Пыталась покончить с собой. Зачем? Почему? Я не могла найти причину. И только потом узнала, что накануне она получила известие о смерти брата, которого очень любила. Видимо, это и послужило поводом…
История такова. Мамин брат Иван, мой дядя, до войны служил моряком на Балтийском флоте. Сначала юнгой, потом получил звание капитана. Жил в Ленинграде, где получил квартиру. Там и женился на эстонке. Когда началась война, ушел на фронт, защищал Ленинград. Вернулся с фронта живой и невредимый. Но, как это часто бывало, жена не дождалась мужа. В своей квартире он застал своего бывшего друга.
Дядя Ваня остался без жены и без угла. Но это было лишь началом его несчастий. Чтобы завладеть квартирой, бывшие жена и друг написали, как водится, донос. Дядю Ваню осудили по известному «Ленинградскому делу» и сослали в Сибирь. Все-таки он надеялся спастись: передавал письма маме, где писал, что ни в чем не виноват, что стал жертвой оговора. Наверное, надеялся на помощь моего мужа, работавшего в органах… Никто из родных не сомневался в его невиновности. Но известно, какое беззаконие творилось в те годы… Куда бы ни обращались родственники, доказывая невиновность дяди Ивана, – все было тщетно. В придачу ко всем бедам в ссылке он заболел туберкулезом и в 1952 году умер.
И, видимо, маму потрясло то, что сначала она получила бумагу о реабилитации брата, а ровно через два дня – извещение о его смерти. Она была вне себе от горя… Но, думаю, дело не только в этом. Мама давно разочаровалась в советской власти. Ведь на ее глазах арестовали и увезли в черной машине честного, преданного партии коммуниста. Хотели арестовать и ее. Это событие перевернуло всю ее жизнь! Помню их вечные споры с мужем. Муж в шутку называл маму «троцкисткой», она его – «ежовщиком»… И вот теперь – смерть брата…
К счастью, мама осталась жива. С тяжелым сотрясением мозга, переломами ребер и ключицы ее отвезли во 2-ю Градскую больницу.
Я помчалась туда… Узнать маму было трудно. Сначала мне показалось, что это другой человек. Кроме всего прочего, за ней плохо ухаживали. Заведующая отделением сказала, что мама не выживет… Я направилась прямо к главному хирургу клиники, профессору Борису Петровскому. В коридоре встретила врача Татьяну Суворову, мою сокурсницу по Воронежскому мединституту. Обрадовалась, надеясь, что она поможет… Она же окинула меня с ног до головы оценивающим взглядом и холодно произнесла:
– Я слышала, ты стала парижанкой. Как тебе удалось?
Язык мой словно прилип к нёбу, я лишь спросила, где кабинет Петровского.
Борис Васильевич как будто ждал меня, любезно предложил стул. Когда я сказала о маме, он холодно произнес:
– Ну что же, каждый человек умирает… Что ж поделать? – И тут же сменил тему разговора, опять став внимательным и улыбчивым: – Вы же теперь в Париже. Многое можете. Вы мне достаньте инструменты для операций на сердце, а я вам помогу с мамой…
Он уже знал, что инструменты есть у Бакулева.
Я пообещала. Забегая вперед, скажу, что и Петровскому я переслала эти уникальные иглы. Но хотя бы раз уважаемые академики вспомнили о моей помощи, сыгравшей немалую роль в развитии отечественной сердечной хирургии. К тому же покупала я инструменты на собственные деньги, а это два месячных оклада. Видимо, высокопоставленным академикам такие услуги казались мелочью. А мы, рядовые врачи, были для них просто «винтиками».
После разговора с Петровским я решила забрать маму домой. Он отдал необходимые распоряжения, дал капельницу для переливания крови, необходимые лекарства. На «скорой помощи» я привезла маму домой. Министерство иностранных дел пошло мне навстречу – предоставило отпуск за свой счет. День и ночь я выхаживала маму, а когда она поправилась, вернулась во Францию.
Фото для рекламы
Этот случай всегда вспоминаю с улыбкой. В Париже мне предлагали сфотографироваться для рекламы! Можно вообразить подобное в 52-м году?
Приближался праздник Первого мая. В посольстве, по обыкновению, намечался большой прием. По протоколу, гостей на приемах встречают посол с супругой. Но жена Павлова уехала в Москву и на этот раз попросила меня ее заменить.
Я воодушевилась и решила доказать, что мы, русские женщины, «других не хуже», и даже более того. Прежде всего, тщательно занялась своей внешностью. Вместе с переводчицей отправилась в парикмахерскую. Когда парикмахерши распустили мои косы, расчесали и увлажнили разными бальзамами, то пришли в полный восторг! Мало того, стали настойчиво просить разрешения сфотографировать меня для рекламы. Прямо сейчас же, с новой прической. Причем предложили за рекламу немалые деньги. Я, естественно, отказалась. Ведь с детства внушали, что советская женщина должна вести себя скромно и не пристало ей выставлять себя напоказ, тем более в чужой стране.
Французские мастера превратили меня из пастушки в королеву. Они соорудили из нескольких кос высокую прическу, а сзади, у ее основания, прикрепили переливающуюся всеми цветами «жар-птицу»… Я надела вечернее платье – бархатное, цвета бордо, золоченые резные туфли на высоком каблуке. Руку мою украшал тяжелый витой золотой браслет.
Поглядела в зеркало и в первый раз не узнала себя. Красавица!
Посол одобрил мой туалет. Первомайский прием прошел, говоря дипломатическим языком, на высоком уровне. Помимо дорогих вин, русской водки, на столе стояла черная икра – любимое лакомство всех иностранцев. Гости были довольны. Я же исправно играла роль хозяйки.
Правда, в последующие дни испытывала на себе косые взгляды жен наших дипломатов. Они явно завидовали мне и даже пустили сплетню, что посол ко мне неравнодушен. Но вечер был дивный… Я чувствовала себя настоящей женщиной.
«Дело врачей». Отголоски в Париже
О «деле врачей» мы узнали в Париже. В посольстве о нем не говорили. И я долго ничего не знала о происходившем в Союзе, более того, в больнице, где недолго работала накануне отъезда за рубеж.
Неожиданно меня вызвал посол и объявил, что я арестована и буду находиться под домашним арестом до выяснения каких-то «обстоятельств». Мне не разрешили даже съездить за дочкой в детский сад – привезли сами. Я долго мучилась вопросом: что же такое могла натворить? Но все как воды в рот набрали.
Только потом я узнала о «деле врачей», что называется, из первых рук. На рубеже 1952–1953 годов в Москве были репрессированы врачи Кремлевской больницы, большей частью – профессора: терапевты и невропатологи. Поводом для громкого процесса послужили болезнь и смерть Жданова – члена Политбюро, первого секретаря Ленинградского обкома партии в годы Великой Отечественной, видного идеолога. Он входил в ближайшее окружение Сталина. И, как выяснилось позже, был одним из организаторов массовых репрессий в 1930—1940-е годы. Заболевшего Жданова, разумеется, поместили в Кремлевскую больницу. Состояние его становилось все хуже и хуже. Срочно был созван очередной консилиум терапевтов и невропатологов: опять расшифровывалась электрокардиограмма и в который раз выносилось заключение о состоянии уже безнадежно больного Жданова.
На этом консилиуме присутствовала и доктор Тимашук, тогда обычная заведующая отделением функциональной диагностики. Она не согласилась с заключением консилиума, особенно с показаниями электрокардиограммы. Сам по себе случай не редкий в медицинской практике. Ее выслушали, но в лечении больного ничего особенно не изменилось: по-прежнему проводилась активная терапия сердечно-сосудистой системы и другие процедуры. Хотя лечащие врачи понимали, что помочь Жданову практически невозможно. Он умер в 1948 году.
Каким-то образом сам факт несогласия доктора Тимашук с мнением консилиума был взят на заметку в известных органах.
Через несколько лет гэбэшники в угоду Сталину стали строить целое дело. Пришел черед искать «врагов народа» среди врачей. Вспомнили о докторе Тимашук. Вызвали ее в органы, убедили, что консилиум намеренно исказил картину болезни Жданова с единственной целью – умертвить верного соратника Сталина. Как умели убеждать в НКВД – теперь известно каждому. На Тимашук поднажали, и она под диктовку написала письмо на имя вождя о злодеяниях кремлевских врачей. Об этом упоминает и Светлана Аллилуева в книге «Двадцать писем к другу».
Арестованные врачи, не выдерживая пыток и боясь за судьбу своих близких, в большинстве случаев наговаривали на себя. Однажды, уже после смерти Сталина и закрытия «дела врачей», профессор-терапевт Василенко рассказал, что пришлось ему вынести в энкавэдэшных застенках… Сначала он мужественно переносил все истязания, но потом не выдержал. Признался, что он – английский шпион. Ему хотелось единственного – умереть.
Что касается Тимашук, за заслуги перед государством ее наградили орденом Ленина. Одновременно в газете «Правда» появилась статья о ее сыне-летчике, который во время войны сражался с фашистами, был сбит и горел в самолете. Почему-то вспомнили об этом спустя семь лет после окончания войны. Кажется, ему присвоили даже звание Героя Советского Союза.
Я была лично знакома с Тимашук. Мы работали в одной больнице, встречались на своих садовых участках под Чеховом, беседовали. Мне казалось, что она не виновата. Такого же мнения были многие наши врачи и медсестры. Мы считали, что ее, человека доверчивого, просто обманули. Но сколько жизней было погублено! О случившемся переживала она до конца своей жизни.
Ну а в начале 53-го я сидела в Париже под домашним арестом. Длился он около недели. Потом была встреча с Громыко – в то время заместителем министра иностранных дел, во время которой я и выступала в роли врача-«отравителя». Но об этом я расскажу позднее.
А спустя еще время состоялся разговор с послом. На этот раз Павлов извинился за крайне досадное недоразумение. Но опять не сказал, что связан мой арест с «делом врачей». Чтобы загладить свою вину, он даже пригласил всю нашу семью к себе на дачу, под Париж.
Почему-то запомнила не сам визит, а именно дорогу. Когда мы ехали в посольской машине с красным флажком, что означало – едет сам посол Советского Союза, нас обогнала кавалькада машин с другим, американским флагом. Машины мчались стремительно, со скоростью, превышающей нашу раза в два. Американцы, прильнув к стеклу, весело помахали нам рукой, как бы хвастаясь своим превосходством.
Однако далеко отъехать им не удалось. Не прошло и получаса, как мы увидели те же машины дымящимися и искореженными. Произошла авария. Хорошо, что обошлось без жертв. Теперь уже мы обгоняли американцев. «Тише едешь – дальше будешь!» – произнес кто-то из наших.
Весной 53-го пришло известие о смерти Сталина. Это было потрясением. Отголоски скорби доносились и до Парижа. Помню, что все французские газеты, за исключением «Юманите», обрушились на нашу страну и на Сталина с руганью и разоблачениями. Первые полосы пестрели изображениями Сталина в виде монстра.
Казалось, в одно мгновение был забыт многолетний страх перед этим человеком. Как, впрочем, предавалась забвению и роль нашей страны в разгроме гитлеровского фашизма.
Однако среди французов было немало людей, сочувствующих нашему горю. Помню, в течение трех дней, с раннего утра и до позднего вечера, непрерывной чередой шли эти люди в посольство СССР, чтобы высказать слова соболезнования, положить цветы к портрету Сталина.
Признаюсь, я тяжело переживала эту утрату. Казалось бы, отчего? Не прошло и года, как наша семья пережила трагедию с мамой и ее братом. Да и сама я чудом избежала участи «врачей-убийц». Сейчас мне кажется, что все эти грустные события мы не связывали с личностью Сталина. Мы были как заколдованные… Или закодированные.
Покушение
А летом 53-го случилось нечто из ряда вон выходящее… Началось с того, что заболел сотрудник нашего посольства. Рентгенограмму грудной клетки ему сделали в парижской клинике. Чтобы получить результат исследования, я выехала туда на посольской машине. Вел машину второй секретарь посольства Будник. Помню, день был выходной. На улицах – пустынно. Настроение – прекрасное. Ехали не торопясь. И вдруг увидели, что навстречу нам на большой скорости мчится машина. Прямо перед нами резко свернула в сторону. Мы заметили, что за рулем сидела женщина. Будник чертыхнулся и поехал еще медленней. Не успели мы прийти в себя, как та же машина на такой же сумасшедшей скорости протаранила нас с той стороны, где сидела я. Инстинктивно я закрыла лицо руками, услышала скрежет металла, звон стекла – и потеряла сознание.
Когда очнулась, сообразила, что лежу на сдвинутых стульях в каком-то кафе, окровавленная, в разорванном платье. «Шок», – услышала чьи-то слова.
Тут же подъехала полицейская машина, она же – «скорая помощь». Мне дали какое-то лекарство, уложили на носилки и задвинули в машину. Потом я увидела Будника, услышала обрывки разговора на повышенных тонах. Будник говорил по-французски бегло, я понимала слабо, но все-таки разобрала, что меня хотят увезти в больницу. Будник категорически возражал. «Видимо, у него есть серьезные причины», – подумала я и опять впала в забытье.
Пришла в себя, когда уже приехали в посольство. От носилок отказалась, помнила инструкцию: полицейским находиться на территории посольства было не положено. С большим трудом я все-таки встала. Голова была чугунной, сильно подташнивало. Мне помогли добраться до своей квартиры. Когда с меня сняли платье, зрелище было удручающим: вся грудь в кровоточащих порезах. На правом бедре – рваная рана.
Осмотреть травмы пришел наш знакомый доктор Лякур. Он извлек из моего тела около ста осколков стекла, потом наложил повязки. Рекомендовал строгий постельный режим.
В тот же день меня навестил посол. Он сообщил, что часа два назад к нему обратились представители власти Парижа, выразили сожаление по поводу случившегося и предложили денежную компенсацию за мое увечье.
– Я категорически отказался, – сообщил Павлов. – Такого правила в инструкциях нет.
А я стала думать: кому же было выгодно убить меня? Ведь абсолютно ясно – то был таран именно на меня. Я терялась в догадках: кто, почему, зачем? Профессия у меня – самая гуманная, несущая добро и исцеление людям. Так, ни до чего путного не додумавшись, я задремала.
Все выяснилось позже.
– А ты знаешь, что в Париже проживает твой родной дядя – Андрей Афиногенович Трегубов? – сообщил мне работник посольства, некто Юрьев. – Да, да – Андрей Афиногенович Трегубов. Здесь, во Франции, он является членом Народно-трудового союза, НТС. Причем одним из его руководителей. Это очень серьезная антисоветская организация. Когда-то во главе НТС стоял небезызвестный Савинков.
Я не поверила своим ушам. Новость просто ошеломила. Но в голове тотчас пронеслось: «Не может быть.
Если бы это было так, меня никогда не выпустили бы за границу. Никогда».
Я стала припоминать историю еще одного маминого брата, ведь все совпадало: и фамилия, и имя, и отчество.
Вспомнила рассказы мамы. Еще в Первую мировую войну Андрей Трегубов воевал против Германии в составе русского экспедиционного корпуса, посланного во Францию. Он был даже награжден орденом Почетного легиона. Когда началась война, дядя Андрей был уже женат. Жена Настя слыла красавицей, родила ему двоих детей. Третий появился уже в его отсутствие. В отличие от других маминых братьев был он грамотен, даже окончил гимназию в Тамбове.
Из нашего села Паревка в экспедиционный корпус отобрали всего двоих: дядю Андрея и его товарища. Они и воевали вместе, практически не разлучаясь. После войны друг дяди Андрея вернулся в Паревку, и уже с его слов мы узнали подлинную историю. Оказывается, в конце войны они попали в плен к немцам. Там им пришлось хватить лиха: над ними издевались, их били… Решили бежать. Но все получилось неудачно. Немцы организовали погоню, стреляли. Дядя Андрей был ранен, упал и уже не шевелился.
– Я не мог ему помочь, – рассказывал его однополчанин. – Немцы были совсем близко, я слышал яростный лай собак. Какая-то сила заставляла меня бежать дальше. Не знаю точно, убили Андрея сразу или он был еще жив…
Позже пришла весть, что Трегубов Андрей Афиногенович погиб на войне как герой Франции. Но полной уверенности не было. Ходили слухи, что дядя Андрей жив. Правда, слухи эти доходили только до мамы.
Я толком ничего не знала. И все-таки… Теперь мне казалось возможным, что дядя Андрей был ранен и после выздоровления остался во Франции. Но верилось в это с трудом. Предательство было не в его характере. А потом… Он безумно любил жену и детей, чтобы оставить их навсегда. Так полагали все, кто его знал.
Оставалась единственная версия: Андрей Афиногенович Трегубов погиб, а его документами воспользовался, причем с далеко идущими целями, другой человек. Недаром он числился в рядах НТС. Когда я приехала во Францию, он испугался разоблачения. Меня решили убрать. Этой версии придерживался и муж. По своим каналам, еще до отъезда во Францию, он узнал, что в Париже живет человек с такой же фамилией, именем, отчеством. И даже год рождения совпадал. Думаю, муж знал что-то наверняка. Но мне сказал:
– Запомни, дяди Андрея для тебя нет. Он даже поклялся, что это правда. Припомнила я, что мама не очень хотела, чтобы я ехала во Францию.
– В любую другую страну, – говорила она, – но только не в эту.
Вспомнила и о смерти сына дяди Андрея, для всех совершенно неожиданной, в конце Отечественной войны. Его отравили, когда он служил в Прибалтике. Таинственным этим случаем занималась наша контрразведка, но расследование до конца доведено не было.
Сотрудники посольства выдвигали еще одну гипотезу. Вполне возможно, что я была неугодна французской или какой другой разведке. Ведь я лишила возможности бывшего доктора, эмигранта Ильина, свободно проникать в наше посольство, другие советские учреждения, а также в семьи их сотрудников. Не исключалось, что Ильин был агентом сразу нескольких разведок и использовал профессию врача для сбора различного рода сведений. Но я мало верила этим догадкам.
Ни к каким определенным выводам я так и не пришла, а потому бросила ломать себе голову.