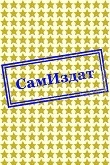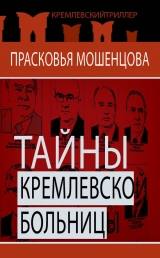
Текст книги "Тайны Кремлевской больницы, или Как умирали вожди"
Автор книги: Прасковья Мошенцева
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
В клинике профессора Бакулева
Сразу после войны в Наркомате здравоохранения составляли списки молодых врачей, работавших в госпиталях и способных пополнить научные медицинские кадры, заметно поредевшие в годы Великой Отечественной. Так случилось, что моя фамилия стояла в этом списке первой. Это значило, что мне предоставлялось право выбирать клинику по желанию. Я назвала клинику профессора Левита, по учебнику которого училась в мединституте. Но к Левиту я не попала: ему не понравилось, что перед началом работы я решила взять отпуск, и на мое место был принят другой человек.
Тогда заместитель наркома по кадрам предложил мне клинику профессора Бакулева. Я с радостью согласилась, так как о Бакулеве мы, хирурги, были наслышаны. Уже были известны его труды по хирургии легких, лечению огнестрельных ранений. Именно он был организатором и первым директором Института сердечно-сосудистой хирургии. На следующий же день я отправилась в клинику.
В раздевалке надела белый халат. Пыталась надеть и шапочку, но ни одна не держалась на голове из-за толстых кос. Тогда нянечка предложила:
– Идите так. В отделение входить не надо. Кабинет профессора – в коридоре.
Когда вошла в кабинет, увидела невысокого человека самой обычной внешности. Взглянув на меня, он строго произнес:
– Что это такое? Почему без шапочки? Выйдите немедленно!
Я буквально скатилась по лестнице вниз. Нянечка поняла свою оплошность, побежала в отделение и вернулась с белой пеленкой. Я повязала ее так тщательно, что ни один волосок не был виден, и снова направилась к профессору. Бакулев опять бросил на меня взгляд и сказал:
– Характеристика у вас безупречная. Такие врачи мне нужны. Завтра же приступайте к работе.
Позднее я убедилась, что стиль работы в клинике был весьма жесткий, прямо-таки диктаторский: неукоснительное подчинение любому распоряжению начальства. К тому же допускалась и грубость ведущих врачей. Во время операции случалось, что кричали на ассистентов и сестер, швыряли инструменты… Короче, в клинике было принято нагонять на всех страх – по поводу и без повода. Я числилась ординатором, а непосредственным моим руководителем был кандидат медицинских наук Гуляев. Подражая Александру Николаевичу, он тоже держал всех врачей в ежовых рукавицах. Не знаю, помогали ли подобные методы, но клиника считалась лучшей в Советском Союзе. Именно здесь впервые стали делать операции на сердце и легких.
Помню свое первое дежурство. «Скорая помощь» привезла больного с переломом бедра. Проделав все предварительные манипуляции, я соединила костную ткань и по всем правилам наложила гипсовую повязку. На следующее утро обход делал сам Бакулев. За ним торжественно шествовала свита врачей и студентов. Я, как новенькая, шла в последних рядах. Подойдя к моему больному, профессор грозно спросил:
– Кто наложил эту повязку?
Все притихли. Только бросали друг на друга взгляды, как бы ища виноватого. Я тоже оробела и спряталась за чью-то спину. Тишина стояла мертвая. Бакулев повторил вопрос уже более мягко. Опять никто не ответил. Тогда он произнес фразу, которую я запомнила надолго:
– У этого хирурга золотые руки.
Постепенно я входила в курс дел и стала принимать участие в более сложных операциях. Как-то, осмелев, сказала Бакулеву, что у меня готова научная работа по материалам специализированного госпиталя. Для защиты диссертации нужно лишь все оформить соответствующим образом и назначить оппонентов. Реакция профессора меня огорошила:
– Ваша работа не по профилю нашей клиники. Мы в ней не заинтересованы. Возьмите какую-нибудь нашу тему, и надеюсь, вы быстро защититесь.
Я последовала совету профессора. И мне дали задание – найти и выделить вещества из плаценты новорожденного, которые бы способствовали заживлению ожоговых поверхностей. Исследования мои шли трудно. Специальной лаборатории для исследования не было. Мне выделили комнату в полуподвальном помещении, с плохим освещением, без вытяжных шкафов. А реактивы были далеко не безобидны для здоровья. Но все же я собрала интересный научный материал, наметила план дальнейших исследований, собиралась работать и дальше… и мужа направили в командировку в Югославию, я должна была ехать с ним. Как ни жалко мне было прерывать ординатуру в бакулевской клинике, я подчинилась женской доле. Но зигзаги судьбы еще не раз сталкивали меня с Александром Николаевичем…
Необыкновенные приключения за границей
Дунайское кладбище
В начале 1946-го всей семьей мы приехали в Белград. Несколько позже привезли и нашего воспитанника – четырехлетнего племянника Сашу. Муж служил в торгпредстве, я – в Советско-Югославском морском агентстве. Я была обязана оказывать медицинскую помощь всем гражданам Советского Союза, которые находились в плаваниях по Дунаю на территории Югославии.
В послевоенные годы по этой реке плавало много наших пароходов, катеров, барж. Частенько моряки брали с собой жен и детей. Мне приходилось лечить не только травмы, различные заболевания вплоть до инфекционных, но и принимать роды.
Однажды роженица была так благодарна, что решила назвать свою дочку моим именем. Когда я сказала, что меня зовут Прасковьей, она задумалась на мгновенье, потом махнула рукой: «Прасковья так Прасковья!»
Время было нелегкое – миновал всего лишь год после окончания войны. На кладбищах в Белграде еще стояли очереди из гробов: людей, умерших от ранений, голода и болезней, не успевали хоронить. Чаще всего смерть наступала от туберкулеза легких. Доносилось и эхо войны. Как-то в наше агентство пришло указание из Москвы: разыскать в Дунае труп советского моряка, помощника капитана, и определить причину его смерти. В поисковую комиссию вошла и я. Работа, как и ожидалось, оказалась чрезвычайно трудной. Мы вылавливали из реки трупы, остававшиеся там со времени боев на Дунае. Никто не хотел хоронить погибших, хотя береговые службы обязаны были это делать.
Наконец, на этом дунайском кладбище мы нашли нашего моряка. При осмотре тела обнаружили явные признаки насильственной смерти. К сожалению, это был далеко не единичный случай гибели наших военнослужащих в мирное время. Чаще всего это происходило на территории Венгрии. Помощник капитана погиб там же. Венгры, по моим наблюдениям, более враждебно относились к советским людям, нежели югославы.
После этого печального путешествия Дунай мне уже не казался голубым. Я все чаще называла его «дунайским кладбищем»… И все-таки я полюбила Югославию. Мне нравились ее своеобразные города, контрастные краски ее природы… Но особенно – люди. Так же, как и мы в Советском Союзе, они были интернационалистами, особенно в послевоенное время: хорватов и сербов сближала общая победа над фашизмом. Братьями и сестрами называли они и нас, советских людей.
Летом 47-го после окончания учебных занятий югославы пригласили школьников, учителей и меня, врача, провести отдых на острове Раб в Адриатическом море. Никогда не забуду это чудесное путешествие! Для проезда по железной дороге нам выделили целый вагон, для плавания по Адриатике – пароход. Помню, в пути встретилась эскадра военных кораблей. На флагмане моряки выстроились в шеренгу, и офицер-югослав приветствовал нас, произнося в рупор русские слова: «Дорогие советские дети и учителя! Моряки югославского флота приветствуют вас и желают вам хорошего отдыха и здоровья».
Островитяне встретили нас тоже дружелюбно, разместили в прекрасной гостинице, устроили торжественный обед. Помню длинный стол, накрытый белоснежной скатертью, уставленный магнолиями и розами. Возле каждой тарелки лежала салфетка, искусно сложенная в виде лебедя. Обслуживали нас молодые люди – бывшие партизаны. Видимо, другой работы на острове не было. Еда была обильная и вкусная, но я узнала, что сами жители острова жили впроголодь. И мы делились с островитянами всем, чем могли. Наши школьники выносили из столовой хлеб, овощи и подкармливали югославских детей. Безоблачное это лето пролетело незаметно.
Вальс с Тито
В ноябре отмечалось 30-летие Октябрьской революции. К праздничному вечеру готовились с особым тщанием: ожидались высокие гости. Правда, имена не назывались. Случилось так, что я опоздала на официальную, торжественную часть. Появилась на приеме, когда уже шел концерт художественной самодеятельности. После него начались танцы. Я стояла рядом со своей приятельницей Викой Воскобойниковой. Вика слыла невероятной модницей, очень следила за внешностью. И, разумеется, в этот вечер была неотразима.
Оркестр заиграл вальс «Дунайские волны». Вика замерла в ожидании партнера… В нашу сторону направился представительный мужчина средних лет, безукоризненно одетый и немного чопорный. Лицо его мне смутно кого-то напоминало. Я посторонилась, уверенная, что он хочет пригласить модницу Вику. Но незнакомец подошел ко мне и галантно пригласил на вальс. Мы легко закружились в вихре музыки. Незнакомец спросил, работаю ли я в Белграде самостоятельно или нахожусь при муже. Не очень любезно я ответила:
– Вы очень любопытны.
Кавалер мой улыбнулся и больше ни о чем не спрашивал. Музыка замолкла, он проводил меня на место, подвел к Вике, раскланялся и словно растворился в толпе. Вика нервно схватила меня за руку и проговорила громким шепотом:
– Ты знаешь, кто это был? Это же Тито! Броз Тито!
Конечно, не явись я на вечер с опозданием, я бы увидела Тито на трибуне. А так я знала его только по портретам.
Больше встречаться с Тито мне не приходилось. Правда, не раз я видела его сына Жарко – он любил заглядывать в наш «Русский дом».
В 48-м дружбе Югославии с Советским Союзом пришел конец. Неожиданно на съезде Союзной народной скупщины президент республики Иосиф Броз Тито и его соратники вылили ушат грязи на Советский Союз и персонально на Сталина. Заседание этого памятного съезда транслировалось по радио на всю Югославию.
Для нас, да и для многих людей в самой Югославии такой поворот событий был полной неожиданностью. Еще вчера мы были «сестрами и братьями», а сегодня стали чуть ли не врагами. Воистину: «паны дерутся, а у холопов чубы трещат». На следующий день после съезда исчезли портреты Сталина, которые висели повсюду: в учреждениях, в витринах магазинов, на стенах домов. Вместо Сталина на нас смотрели другие лица: Карл Маркс, Ленин и сам Иосиф Броз Тито.
Правда, простые югославы продолжали нам симпатизировать. На улице, рынке, в магазине можно было услышать тихое: «Русские, мы с вами». Тихое – потому что люди боялись. Да и не зря: вскоре начался террор. Несогласных с политикой Тито сажали в тюрьмы, приговаривали к принудительным работам. Вскоре был репрессирован наш близкий знакомый Анте Зорич. Он был женат на русской, и с его восьмилетним сыном дружила наша дочь. Но в это же время из Москвы по личной просьбе Тито был приглашен профессор Бакулев, ставший уже светилом. Он должен был оперировать президента. Конечно, мы с мужем поехали встречать Александра Николаевича в аэропорт. Но, увы, так и не встретили. Кто-то опередил нас – Бакулев был уже в резиденции Тито. Я узнала, что операция прошла успешно, и через неделю Бакулев возвратился в Москву. Позже при встречах он шутил: мол, «побывал в плену у президента Югославии». С горечью говорил, что дети в стране голодают, а Тито регулярно принимает молочные ванны…
Через много лет я прочитала в книге актрисы Татьяны Окуневской, как однажды в Югославии Тито пригласил ее к себе во дворец и подарил букет черных роз. А на пальце у него было кольцо с черным бриллиантом.
Украли диссертацию!
В это неспокойное время приключилась еще одна неприятная история. Наш посол в Югославии Лаврентьев вызвал меня к себе и предложил выступить в Военной медицинской академии Белграда с докладом. Дело в том, что из Союза я привезла научную работу на тему «Огнестрельные ранения таза с повреждением мочеполовой системы», которую готовила еще в госпитале. Разрешение Главлита, а проще цензуры, у меня, разумеется, имелось.
Случилось так, что о часе моего выступления в академии сообщили буквально накануне. У меня не было времени подготовиться и выбрать из обширной работы необходимый материал. Я отобрала его прямо перед выступлением. Остальное оставила на столе, в кабинете, куда меня пригласили. Обратила внимание, что, как только я покинула кабинет, двери заперли. Как выяснилось позже, кабинет этот принадлежал югославскому генералу – организатору конференции.
Доклад мой выслушали с большим вниманием. Коллеги югославы задавали много вопросов. И фактически все свелось к дружескому собеседованию, которое длилось более двух часов.
Вернувшись в кабинет, я обнаружила, что моя научная работа исчезла вместе с рисунками, фотографиями, рентгенограммами. Поиски по горячим следам не дали результатов. Ничего не отыскалось и потом.
А несколько дней спустя в посольстве распространили постановление Советского правительства. Суть его заключалась в том, что за разглашение различного рода сведений, в том числе и о достижениях медицины, относящихся к периоду войны, грозило суровое наказание. «Слава Богу, – подумала я, – что «разглашение» в данном случае произошло не по моей инициативе, а по указанию посла». Когда я высказала это вслух, в посольстве переполошились и попросили меня по возвращении на родину ничего никому не рассказывать об этом случае.
Я молчала. Но в душе не могла смириться с тем, что мой труд пропал, что я не смогла защитить диссертацию. И больше всего угнетало то, что бесценный опыт специализированного хирурго-урологического эвакогоспиталя, единственного в стране, не сможет быть использован современными врачами и не войдет в историю медицины военных лет.
Тем временем обстановка в Белграде продолжала накаляться. Посольство запретило держать нам домработницу югославку. Пришлось отдать детей в школу, хотя им еще не исполнилось семи лет.
Дела в морском агентстве для меня не было. В течение полутора лет я проработала врачом в нашем посольстве. В 49-м мы уехали из Югославии.
Париж! Неожиданные предложения
А через два года мужа послали уже в Париж. Я, разумеется, должна была его сопровождать в качестве врача советского посольства. Предложение было неожиданным, более того – нас торопили с отъездом.
Собирались в приподнятом настроении. Немного удивила меня реакция мамы, которая несколько раз повторила: «Не хочу, чтобы ты ехала во Францию, лучше в другую какую-нибудь страну». Она даже всплакнула. Но я не придала этому особого значения, насторожило другое – странный разговор с человеком, как теперь говорят, «в штатском».
За несколько дней до отъезда меня вызвал к себе начальник Лечебно-санитарного управления Кремля Марков Александр Михайлович. Он был не один. Рядом сидел мужчина средних лет, представительный и хорошо одетый. Мне предложили сесть. Начальник мой почему-то тотчас покинул кабинет, оставив нас вдвоем.
Не сводя с меня испытующего взгляда, человек «в штатском» заговорил о Париже. Предупредил о чрезвычайной ответственности, которую накладывает на советского гражданина работа за рубежом, тем более в такой стране, как Франция.
– Находясь в Париже, – наставлял он, – вы должны быть крайне осторожной и предусмотрительной. Одна, без сопровождающих, никуда не ходите! Ни в магазин, ни в театр, ни в музей – никуда! Кроме того, по долгу службы вы будете вхожи во все советские учреждения, во все дома советских граждан, находящихся во Франции. Если заметите что-либо необычное или подозрительное, сообщайте без промедления послу Алексею Павловичу Павлову.
Разумеется, я догадалась, к чему клонит мой собеседник, и довольно твердо сказала:
– Быть доносчиком не в моем характере. На эту роль я не гожусь.
Он как-то странно улыбнулся и сказал непонятную фразу:
– Жаль. Это для вашей же пользы. На этом свидание закончилось.
Второе, столь же неожиданное предложение, но совершенно другого характера, мне сделал профессор Бакулев, который уже работал не в нашей клинике, а получил должность главного хирурга Лечсанупра Кремля. Он пригласил меня в свой кабинет. Я поздоровалась и увидела девочку лет десяти со всеми признаками врожденного порока сердца. Она тяжело дышала, синюшным было лицо, особенно губы. Бакулев начал с места в карьер:
– Прасковья Николаевна, взгляните на эту девочку! Вам будет понятна моя просьба. Там, куда вы едете, есть возможность приобрести инструменты для сердечной хирургии, особенно атравматические иглы. Экспорт этих игл в нашу страну запрещен, поэтому здесь их не достать. Зная вас как человека, прошедшего огонь, воду и медные трубы, я уверен, что вы мою просьбу выполните. Мы сможем спасать вот таких детей. – Он опять кивнул в сторону девочки.
Я ответила, что, конечно, попробую. Но в душе обиделась: ну зачем он привел ребенка? Чтобы разжалобить меня? Уходя, подумала: «Эх, Александр Николаевич!..»
…И вот мы в Париже. Муж приехал во Францию в качестве помощника посла СССР в ранге третьего секретаря. С ним – я и младшая дочь, Люба, двух с половиной лет.
Помню, в аэропорту нас встретил представитель посольства, некто Позельский. Желая сделать приятное, он сразу показал нам главные достопримечательности Парижа: улицу Гренель, где находилось посольство, площадь Этуаль, Триумфальную арку с Вечным огнем, Елисейские Поля, Эйфелеву башню, Дом инвалидов…
О красоте Парижа мы были наслышаны и начитаны еще в Москве. Но поначалу меня почему-то неприятно поразили любовные парочки, без стеснения целующиеся и обнимающиеся на виду у всех. Коробили и деревянные будочки туалетов, расположенные по краю тротуаров и открытые снизу так, что хорошо были видны ноги людей и льющаяся в унитаз струя… Мне было неловко смотреть на Позельского и даже на мужа. Мы приехали из закрытой страны – западная цивилизация была для нас непривычной. Казалось, все эти парочки и будочки портили вид Парижа. В этот первый день Париж не привел меня в восторг.
Почему-то вспоминалась Москва: наш дом в Лаврушинском переулке, Третьяковская галерея, набережные Москвы-реки, Большой Каменный мост. И белоснежные катера, проплывающие под ним… Или вечерняя панорама Кремля, которую можно было увидеть прямо из окон нашей квартиры, похожая на картинку из русской сказки…
Мой конкурент – эмигрант Ильин
В первые дни работы было мало. «Наверное, ко мне присматриваются…» – решила я. Но вскоре поняла, что причиной был прежний доктор. Дело в том, что до моего приезда врачом посольства работал терапевт по фамилии Ильин. Он был эмигрантом, но каким-то образом получил советское гражданство, правда, пока без права въезда в страну. Он и лечил всех советских. И вдруг появилась я. Конечно, Ильину это не понравилось.
У меня начались неприятности. Наверное, виной тому стал мой характер – прямой и открытый. Профессия хирурга заставляла меня быть предельно дисциплинированной, бескомпромиссной, выше всего ставить врачебный долг. А это не всем приходилось по вкусу.
Помню, первое столкновение произошло со вторым секретарем посольства. Назову его В. Так вот, В. принес документ из какой-то клиники на оплату аборта, сделанного его жене. В Советском Союзе в начале 50-х аборты были строго запрещены. Во Франции, кстати, тоже. В поданной мне бумаге я усмотрела грубое нарушение закона и не только не подписала ее, но доложила об этом факте послу.
Второй конфликт был связан с женой одного из советников посольства. Ей предстояла операция по поводу искривления больших пальцев на ногах. Но операцию почему-то поручили делать не мне – хирургу, а терапевту Ильину, хотя я уже официально была назначена врачом посольства. Правда, меня пригласили поприсутствовать на перевязке. Я сказала что-то резкое и категорически отказалась. Знала бы тогда, что советник посольства был сотрудником госбезопасности!
После этого случая «зуботычины» пошли со всех сторон. В наказание за строптивость мне, помимо основной работы, поручили заведовать детским садом. Но вмешался муж, и посол отменил решение.
Все-таки постепенно мой авторитет восстанавливался. Помню, вызвали на квартиру заместителя торгпредства Коноплева, причем срочно. Когда приехала, у постели больного увидела все того же Ильина. Оказалось, что у Коноплева в течение двух суток сильные боли в животе, повышенная температура. Причем состояние ухудшается. Все это время он находился под наблюдением Ильина, поставившего диагноз «обострение хронического колита». Лечение проводилось соответственно этому диагнозу. Но улучшения не наступало. Пришлось вызвать меня, врача официального.
Когда я осмотрела больного, так и ахнула: острый приступ аппендицита! Коноплеву сказала:
– Немедленно в больницу на операцию.
Но он не соглашался, тем более что супруга его и доктор Ильин настаивали на прежнем диагнозе.
Я понимала, что промедление подобно смерти. Позвонила в торгпредство и сообщила о ситуации. С Ильиным разговаривала резко, даже пригрозила лишить практики из-за грубой врачебной ошибки. Говорила о других серьезных последствиях… Во всяком случае, больше в мою работу Ильин не вмешивался.
Из посольства пришла машина для перевозки больного. Рядом с шофером почему-то сидел советник. «Зачем он здесь?» – удивилась я про себя. В парижской клинике врачи подтвердили мой диагноз и тотчас приступили к операции. По наивности я предложила свои услуги. Мне вежливо отказали. Согласно французским законам иностранцев к операционному столу не допускают.
Я, шофер и опять почему-то советник остались ждать исхода операции. Красавчик дипломат всячески развлекал нас: показывал фокусы, рассказывал анекдоты… Как будто находился здесь, у операционной, специально для этого. Часа через полтора вышел хирург и с облегчением произнес:
– Хорошо, что привезли больного… Хотя и с опозданием. Червеобразный отросток был в стадии прободения, начинался перитонит.
Советник посмотрел на меня и недобро ухмыльнулся.
Постепенно работа моя вошла в нормальную колею. Счастье, что я владела многими специальностями: медицинскую помощь надо было оказывать самую разнообразную. К тому же контакты с другими врачами, особенно французскими, запрещались. Разрешалось иметь дело только с врачами-коммунистами. Можно себе представить, в какой изоляции я находилась! Во всяком случае, ощутила на себе все прелести «железного занавеса». Было трудно. Но все-таки «табу» приходилось нарушать.
Я помнила наказ Бакулева: найти и переправить в Москву уникальные инструменты для операций на сердце. Едва приехав в Париж, я занялась поиском нелегальных источников для их приобретения. И нашла. Мне помог французский профессор-хирург. Это были атравматические иглы, то есть иголка и нитка изготавливались одного диаметра. Ведь когда делают операцию на сердце, прокалывают сосуды и кровь свищет, как из крана. А эти иглы позволяли избежать кровотечения. Эти инструменты в те годы делались только во Франции. Я купила их на собственные деньги. Достала еще и скальпели, но иглы – было самое главное.
Кстати, в это время посол Павлов собирался лететь в Москву. Зная, что багаж посла проверке не подлежит, я уговорила его взять «контрабанду» для Бакулева. Так что приходилось иметь дело не только с врачами-коммунистами.
Хоть и нечасто приходилось общаться с французами, я полюбила их за легкий характер, улыбчивость, изысканные манеры, всегдашний юмор. Помню, мы ехали в машине с сотрудником посольства. Он, явно нарушив правила движения, чуть было не стукнулся с машиной француза. Тот высунулся из окошка, вежливо улыбнулся и, как рога, приставил ко лбу указательные пальцы. Я вопросительно посмотрела на своего водителя: что сие значит?
– Это значит, – пояснил водитель, – что я – уаспе – корова… У французов это самое большое оскорбление.