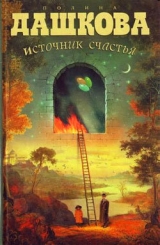
Текст книги "Источник счастья"
Автор книги: Полина Дашкова
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Полина Дашкова
Источник счастья
«Покойный старик верно искал философского камня… проказник! И как он умел сохранить это в секрете!»
В.Ф. Одоевский, «Сильфида»
Глава первая
Москва, 1916
Квартира профессора Свешникова Михаила Владимировича занимала четвёртый этаж в новом доме по Второй Тверской-Ямской улице. Профессор был не стар, вдов, имел троих детей. Злые языки утверждали, что всех их он вырастил в пробирках. Среди окрестных торговок ходили слухи, будто этот доктор оживляет покойников, умеет оборачиваться чёрной собакой и белой мышью, живёт две тысячи лет. Получил дворянство, звание профессора и царского генерала при помощи чёрной магии, а также японской и немецкой разведок.
Впрочем, ни сам Михаил Владимирович, ни его домашние об этих слухах не ведали. Только горничная Марина, тихая полная девушка двадцати пяти лет, иногда после похода в бакалейную лавку пыталась делиться рассказами торговок с няней, Авдотьей Борисовной, старой и почти глухой. Когда Марина громко шептала ей на ухо, Авдотья Борисовна вздыхала, охала и качала головой. Она думала, что Марина говорит о каких-то вымышленных персонажах, о ком-то из газет или из книжек. Она ни на миг не могла вообразить, что речь идёт о её драгоценном Мишеньке, которому она когда-то, в другом веке, была не только няней, но и кормилицей.
Москва кишела медиумами, предсказателями, гипнотизёрами, хиромантами, колдунами – на любой вкус.
В том же доме над квартирой профессора жил спирит Бубликов, и даже табличка на двери блестела «Доктор эзотерики, великий маг, заслуженный спирит Российской Империи Бубликов А.А.». Но почему-то он интересовал торговок куда меньше, чем профессор Свешников.
Тёмным январским утром 1916 года, в седьмом часу, из окна четвёртого этажа, выходившего во двор, раздался отчаянный женский визг. Дворник Сулейман воткнул лопату в сугроб, посмотрел наверх. Форточка была приоткрыта, сквозь плотные шторы пробивался яркий электрический свет. Полоска света лежала на тёмном сугробе, и отдельные снежинки искрились в ней, как россыпь мелких алмазов.
За визгом ничего, кроме тишины, не последовало. Дворник снял варежку, тихо и тщательно помолился Аллаху.
В бывшем обеденном зале, отведённом под лабораторию, старая горничная Клавдия сидела на полу и нюхала нашатырь. Над ней склонился профессор Свешников. Небритый, сонный, в шёлковом стёганом халате, с полотенцем вокруг шеи, в тёплых домашних туфлях, он только что выскочил из ванной комнаты на крик горничной.
– Ну, ну, тихо, Клавушка, будет тебе трястись, – говорил профессор приятным, хриплым со сна баритоном, – успокойся и расскажи всё по порядку.
Клавдия шмыгнула носом, подняла дрожащую руку и указала в дальний угол, туда, где за больничной клеёнчатой ширмой стояли три небольших стеклянных ящика с частыми дырочками для воздуха. В одном метались и беззвучно пищали две жирные белые крысы. В другом копошилась дюжина маленьких крысят. Третий был пуст.
– Ты открывала клетку?
Клавдия категорически замотала головой. Михаил Владимирович поднял её под мышки, довёл до кушетки, усадил и решительно направился в крысиный угол.
Толстое прочное стекло треснуло в нескольких местах.
Круглая металлическая крышка была откинута. Тонкая сосновая стружка, выстилавшая дно ящика, валялась вокруг, на полу.
– Ты видела его? – спросил профессор Клавдию, разглядывая свежие царапины на металле, сломанную маленькую задвижку.
– Ещё бы не видела! Кинулся на меня, нечисть, и откуда только силы у него, старый, больной насквозь. Почти уж издох, а прыгнул прямо вот на такую высоту. – Клавдия отмерила метра полтора от пола. – Чуть в лицо не вцепился, сволочь, едва от него, заразы, веником отбилась.
Горничная Клавдия была женщина богобоязненная, молчаливая и чопорная. Никогда она не тараторила, не повышала голоса, не произносила бранных слов. Сейчас щёки её пылали, глаза блестели. Она дрожала, как в лихорадке, и облизывала пересохшие губы. Михаил Владимирович по старой докторской привычке прижал пальцы к её запястью, машинально отметил про себя, что пульс бешеный, не меньше ста пятидесяти в минуту, и что у него самого точно такой же.
– Погоди, ты хочешь сказать, он свалился откуда-то? – уточнил профессор и огляделся.
– Да какой – свалился?! Нет!
– Ну, а что же? Подпрыгнул прямо от пола? Вот на такую высоту? – Михаил Владимирович нервно усмехнулся.
– Взлетел вверх, будто он птица, а не крыса. Ай ты, батюшки, да что же это? – Клавдия открыла рот, вытаращила глаза.
Стало тихо. В тишине раздавался шорох лопаты дворника, убиравшего во дворе снег. К этому звуку прибавился другой, упрямый и тревожный скрип.
Плюшевая коричневая штора дёргалась быстро и сильно, как будто ожила. Конец массивного деревянного карниза с треском пополз вниз, посыпалась штукатурка.
Первым опомнился профессор. Одним прыжком он долетел до окна и упал на скачущую штору.
– Клава, эфир, быстро! И перчатки, перчатки надень!
Михаил Владимирович стоял на коленях. Пойманная штора металась и пищала в его руках. Он сопел и отдувался. Глаза его сияли, под серой щетиной проглядывал румянец. Он был похож на вратаря, который поймал мяч в последний момент, когда матч почти проигран.
– Нет! – шёпотом крикнула Клава. – Я не могу! Бог свидетель, Михаил Владимирович. Не могу. Вы морду его видели? Глаза видели?
– Перестань, это всего лишь крыса. Надень перчатки.
Сверху качался карниз. Он едва держался на одном винте. Медный шар-наконечник грозил обрушиться на профессорскую голову. Клавдия сидела неподвижно, только губы едва заметно шевелились. Она бормотала молитву.
– Ладно, иди. Разбуди Таню, – сказал профессор.
Старая горничная резво вскочила, убежала и в коридоре у самой двери налетела на барышню семнадцати лет, дочь Михаила Владимировича. Таня уже сама проснулась от шума. В жёлтом пеньюаре, тонкая, голубоглазая, с распущенными светлыми волосами до пояса, она спешила в лабораторию на помощь отцу.
Через четверть часа на маленьком операционном столе возлежал усыплённый эфиром толстый зверёк. Это была лабораторная крыса, вернее, крыс. Совершенно белый, но с рыжим пятном под нижней челюстью. Странная, невероятная для крысиного рода отметина по форме своей напоминала отчётливую пентаграмму, пятиконечную звезду, перевёрнутую верхушкой вниз.
– Не иначе, прапрабабка этого крыса согрешила с кем-то из предков няниного кота, – заметила однажды Таня, – у красавца Мурзика на шее точно такое пятно, правда, круглое.
– Исключено, – возразил Михаил Владимирович. – Между кошками и крысами такие отношения невозможны.
Таня тогда смеялась до икоты. Её ужасно забавляло выражение отцовского лица в моменты глубокой сосредоточенности, когда он переставал понимать шутки и даже самые абсурдные предположения обдумывал всерьёз.
– Давай назовём его Гришка, в честь Распутина, – предложила Таня и тронула пальчиком рыжую пентаграмму.
– Сколько раз я тебе говорил: подопытным животным имена давать нельзя, только номера, – нахмурился отец. – И при чём здесь мистический мужик Её Величества? Не он один в мире зовётся Григорием. Мендель, основоположник генетики, тоже был Григорием.
– Тем более! Я буду звать его Гришка Третий! – веселилась Таня.
– Не смей! При мне, во всяком случае! – злился отец.
Диалог этот произошёл около года назад. С тех пор Таня постоянно называла подопытного крыса с рыжим пятном Гришкой Третьим. Михаил Владимирович не заметил, как сам стал звать его так же.
Сейчас оба они, отец и дочь, растерянно смотрели на спящего зверька. Розовый голый живот слегка подрагивал. Лапки, похожие на миниатюрные, изящные дамские ручки, произвели несколько слабых скребущих движений и успокоились.
– Нет, папа, это не Гришка, конечно, – сказала Таня и зевнула. – Смотри, шкурка белая, пушистая, розовые склеры. Кожа мягкая, молодая. А где пятно? Ну где, покажи, пожалуйста.
– Вот оно. На месте.
– Всё равно не верю. У Гришки огромное потомство, кто-то из очередного помёта мог унаследовать рыжую пентаграмму. Это внук или правнук. Гришка почти весь облысел после операции.
– Облысел. Но теперь оброс.
– Так быстро?
– За месяц. Это нормально.
– И окрас новой шерсти в точности как прежний, та же пентаграмма на горле?
– Как видишь.
– У Гришки должен быть шрам на черепе. Где он? Никакого шрама нет.
Танина рука в чёрной медицинской перчатке осторожно перевернула крысу на брюшко. Михаил Владимирович взял большую лупу, разгрёб густую блестящую шерсть на крысиной холке.
– Вот он, шрам. Совсем маленький.
– Папа, перестань! – Таня помотала головой. – Рана не могла зажить так быстро, и шерсть не могла вырасти. Ты же не алхимик, не средневековый маг, не доктор Фауст! Ты сам отлично понимаешь, что это чушь и бред. Над тобой смеяться будут. Не может крыса двадцати семи месяцев от роду выглядеть вот так, не может! Двадцать семь месяцев для крысы – это всё равно что девяносто для человека.
– Эй, погоди, а что ты так кричишь? Почему ты перепугалась, Танечка? – Доктор погладил дочь по щеке. – У старого крыса выросла новая молодая шерсть. Порозовели склеры. Бывает.
– Бывает? – крикнула Таня, стянула перчатки и отшвырнула их в угол. – Папа, ты, кажется, с ума сошёл! Ты же сам уверял, что биологические часы никогда не идут вспять.
– Не кричи. Помоги мне взять у него кровь на анализ, пока он спит, и подумай, как нам укрепить крышку клетки, чтобы он опять не выскочил.
Михаил Владимирович уже держал в руках стальное пёрышко и чистую пробирку. Таня быстро скрутила в узел мешавшие ей волосы, повязала низко на лоб косынку, надела чистые перчатки. При этом она продолжала громко, нервно говорить:
– Он родился 1 августа четырнадцатого года, этой даты забыть нельзя. Война началась. Он единственный из помёта выжил. Хилый, но агрессивный.
– Вот именно, агрессивный, – пробормотал Михаил Владимирович, счастливо щурясь.
Капля крысиной крови скатилась в тонкую пробирку. Таня взяла сонного крыса и, пока несла его назад, в ящик, чувствовала сквозь перчатку тепло и пульсацию мягкого тельца. На миг ей показалось, что в руках у неё не лабораторный зверёк, каких она перевидала с детства великое множество и совершенно не боялась, а существо странной, неземной породы. Она покосилась на отца, склонившегося к микроскопу. На макушке у него сквозь жёсткий седой бобрик розово сияла лысина. Гришка зашевелил лапками. Эфир переставал действовать. Таня опустила крыса в ящик, на стружку, сверху придавила крышку тяжёлой мраморной подставкой от чернильного прибора.
– Будешь его вскрывать? – спросила Таня, стягивая перчатки и косынку.
Вопрос пришлось повторить громче. Отец прилип к микроскопу.
– А? Нет, ещё понаблюдаю. Прикажи там, пусть ставят самовар. Ну, что застыла? Иди, опоздаешь в гимназию.
– Папа!
– Что, Таня? Скажи, тебе удалось выделить тот самый белок?
– Не знаю. Вряд ли.
– Тогда почему?
Михаил Владимирович поднял наконец голову от микроскопа и посмотрел на дочь.
– Все просто, Танечка. Он соблюдал диету, активно двигался. Клетка ближе других к окну, форточка открыта, он дышал свежим воздухом.
– Папа, перестань! Ты тоже соблюдаешь диету и дышишь свежим воздухом!
Михаил Владимирович ничего не ответил. Он опять прилип к микроскопу. Таня вышла из лаборатории, тихо затворив дверь.
Москва, 2006
В прихожей заливался звонок. На тумбочке чирикал соловьём мобильный, сообщая, что пришла почта. Соня проснулась и тут же увидела папу. Он сидел на краю кровати, приложив палец к губам, и мотал головой.
– Не открывай, – прошептал он, – ни за что не открывай.
Соня встала, накинула халат поверх пижамы, прошлёпала босиком в прихожую. Папа остался сидеть, ничего больше не сказал, только проводил её грустным детским взглядом.
– Лукьянова Софья Дмитриевна? – спросил мужской голос за дверью.
– Да, – просипела Соня и закашлялась.
– Откройте, пожалуйста. Вам посылка.
– От кого?
За дверью что-то сухо зашуршало.
– Прочтите сообщение на мобильном. Оно поступило двадцать минут назад, – произнёс глухой мужской голос.
Возвращаясь в комнату за телефоном, Соня взглянула в зеркало. Ветхий мамин халат болтался на тощих плечах, как мешок на огородном пугале. Бинт за ночь съехал на шею, волосы безобразно свалялись, в них запутались клочья ваты. Правое ухо от спиртовых компрессов покраснело, распухло и шелушилось. Судя по ознобу, температура с утра у неё была не меньше тридцати восьми. В ухе продолжало стрелять и булькать, ныла вся правая половина головы.
«Уважаемая Софья Дмитриевна! Поздравляю Вас с днём рожденья! Желаю здоровья и творческих успехов! И. З.».
Это сообщение было последним. Оно действительно пришло двадцать минут назад, то есть в половине одиннадцатого. Перед ним пришло ещё три. Соня не стала их читать, захлопнула телефон, поплелась назад, в прихожую.
– Не открывай, – шёпотом повторил папа.
Теперь он стоял рядом. Щеки порозовели. Трепетал нежный седой пух на макушке. Глаза казались больше и ярче.
За дверью было тихо.
– Эй, вы ещё здесь? – спросила Соня.
Ответа не последовало.
– Кажется, ушли, – сказала Соня папе. – Я всё-таки открою, посмотрю. Ладно?
Папа испуганно замотал головой.
Из-за температуры, из-за боли и постоянной стрельбы в ухе всё было подёрнуто вязкой мутью, как будто воздух в маленькой квартире сгустился.
– Ну чего ты боишься? – спросила Соня. – Тебе просто приснился плохой сон.
– Нет, – сказал папа, – это не сон. Это всё наяву, Сонечка. Прошу тебя, не открывай дверь.
– Никогда?
– Не знаю. Во всяком случае, сейчас не надо.
Несколько секунд они стояли и молча смотрели друг на друга.
– Ладно. Мне всё равно. Я лягу, – сказала Соня. – Ты не помнишь, где у нас градусник?
Папа шагнул к ней и прикоснулся губами ко лбу.
– Тридцать восемь и два. Градусник ты разбила вчера ночью. Не забудь, пожалуйста, вымести ртуть из-под кровати. Ты же знаешь, как это вредно.
– Хорошо. А где веник?
– В машине. Ты стряхивала снег и оставила веник в багажнике. А второго у нас нет. Но не вздумай за ним идти. Там метель, очень холодно. Ртуть можно собрать влажной тряпочкой. Я бы сам это сделал, но…
Из комнаты послышалась соловьиная трель мобильного. Опять пришло сообщение. В дверь позвонили, на этот раз так пронзительно громко, что Соня вздрогнула.
– Софи, ты дома? Спишь, что ли?
Этот голос нельзя было не узнать. Раскатистый, зернистый бас. Почти каждый день он звучал за кадром по телевизору на одном частном непопулярном канале. В кадре при этом обычно показывали рекламу электронных излучателей, которые лечат синусит, ожирение и воспаление предстательной железы; жгучих целительниц, которые снимают порчу и возвращают блудных мужей; аппаратики для удаления нежелательных волос и выращивания желательных. Папа включал именно этот канал, специально, чтобы послушать, как Нолик пьющий рекламирует своим авторитетным басом таблетки для лечения алкоголизма, как Нолик толстый рассказывает о новейших методах мгновенного похудания.
Блудная жена ушла от Нолика год назад. К ворожеям он не обращался, вместо этого торчал вечера напролёт на кухне у Лукьяновых и говорил, что жизнь кончена.
– Софи, это я! Открой!
Бас Нолика звучал бодро и радостно. Соня подумала, что дело совсем плохо. Раньше по утрам он не напивался. Несколько минут она возилась с замками. Папа стоял рядом и напряжённо молчал. Дверь наконец открылась.
– Мяу-мяу! – сказал Нолик.
Его круглая физиономия сияла. Выпив, он всегда мяукал. Но вместо запаха перегара Соне ударила в ноздри густая свежая волна аромата живых цветов. Нолик держал под мышкой огромный букет роз. Багровые, почти чёрные тугие бутоны были усыпаны капельками воды.
– Поздравляю. – Он перешагнул порог и потянулся губами к Сониной щеке.
– С ума сошёл? – спросила Соня и поморщилась от очередной пулемётной очереди в ухе.
– К сожалению, врождённая честность не даёт соврать, – вздохнул Нолик и выпятил нижнюю губу, – это не я. Они лежали на коврике у двери. Я только слышал, как кто-то спустился на лифте. Если ты сейчас быстренько посмотришь в окно из кухни, ты, может быть, успеешь увидеть.
– Веник, – произнесла Соня и зашлась кашлем.
– Какой веник?! Шикарные розы! Ну, ты даёшь, Софи! – возмутился Нолик. – Красота немыслимая, посмотри, понюхай! Надо обязательно обрезать и обжечь стебли.
– Ключи от машины в кармане моей синей куртки, спустись и принеси, пожалуйста, веник. Он в багажнике. Я разбила градусник, нужно смести ртуть.
– А, понял, – кивнул Нолик. – Сейчас сделаю. Только не бросай розы, поставь их в воду.
Дверь за ним закрылась. Соня осталась стоять, обняв обеими руками шуршащий букет. Большой вазы в доме не было. Единственной посудиной, подходящей по объёму, оказалось пластиковое помойное ведро. Соня вытащила из него мешок с мусором, ополоснула, налила воду. Пока она возилась с цветами, вернулся Нолик. Вместе с веником он принёс небольшой коричневый портфель и торжественно вручил Соне.
– Помнишь, как говорит моя мама, когда теряются нужные вещи? Где-нибудь лежит и молчит! Вот, он валялся под передним пассажирским сиденьем и, конечно, молчал. Хотя, даже если бы он и мог что-то сказать, его бы вряд ли услышали.
Это был папин портфель. Он пропал как раз в тот ужасный вечер, девять дней назад.
– Папа! – позвала Соня. – Иди сюда, смотри, Нолик нашёл твой драгоценный ридикюль.
– Не кричи, – прошептал папа, – я отлично слышу. Я тут, рядом.
Он действительно стоял рядом, прямо перед Соней. За несколько минут лицо его осунулось, состарилось, щеки сморщились и побледнели, подёрнулись серой стариковской щетиной, седой пух пригладился, прилип к коже. Глаза стали тусклыми и такими безнадёжными, что Соню пробрал озноб.
– Ты совсем не рад, что нашёлся портфель? – тихо спросила Соня.
Папа скорбно покачал головой и положил руки ей на плечи. Руки были слишком тяжёлые и тёплые. Соня крепко зажмурилась, пытаясь унять головокружение, а когда открыла глаза, увидела испуганное лицо Нолика, почувствовала его огромные лапы на плечах.
– Софи, посмотри на меня! Это я, Софи! Ты вообще меня видишь? Слышишь? Что за верёвка у тебя на шее?
– Дурак! Это не верёвка, а бинт. У меня, Нолик, воспаление среднего уха, я делала на ночь компресс, и он съехал. Я тебя отлично вижу и слышу. В чём дело?
– Ты только что разговаривала с Дмитрием Николаевичем.
– Да. И что?
Нолик прижал ладонь к её лбу.
– У тебя жар. Но не такой сильный, чтобы бредить. Приди в себя, пожалуйста.
Бедняга Нолик так испугался, что от лёгкого утреннего хмеля не осталось и следа. Соня пришла в себя, исключительно ради Нолика, чтобы он не волновался.
– Всё нормально. Я в порядке. Я знаю, что папа умер, в прошлую среду мы его похоронили, и сегодня девятый день.
– Уф-ф, слава Богу, – вздохнул Нолик, – ты только забыла добавить, что сегодня ещё и день твоего рождения. Тебе, Софи, стукнуло тридцать лет. Здесь тридцать одна роза. Некто добавил один цветок, потому что чётное число в букете – плохая примета. Только такая пофигистка, как ты, могла поставить розы в помойное ведро. Воды хотя бы налила?
– Естественно! Арнольд, почему ты не подарил мне на день рожденья большую красивую вазу?
– У меня для тебя другой подарок. Но ты, Репчатая, его не получишь, если будешь называть меня Арнольдом. Ещё раз услышу – уйду.
– Ага! Кубарем выкатишься, если ещё раз назовёшь меня Репчатая!
Секунду они смотрели друг на друга грозно, как будто собирались подраться. Нолик возмущённо пыхтел. Лет двадцать назад они бы, правда, подрались, не больно, но обидно. Нолик терпеть не мог своего полного имени – Арнольд. А Соню раздражало детское прозвище Репчатая. Тут же возникал в памяти школьный коридор, зелёные масляные стены, серый в стрелочку линолеум, топот ног за спиной и крики: «Лукьянова! Лук! Луковица репчатая!»
Нолик учился в той же школе, двумя классами старше, и жил когда-то в квартире напротив. Именно из-за него за Соней тогда гнались и обзывали Репчатой. Он нравился самой энергичной девочке в Сонином классе, Нине Марковой. Нина писала ему записки и требовала, чтобы Соня работала почтальоном. Нолик отказывался отвечать, энергичная Нина ему совсем не нравилась, и в итоге виноватой оказалась Соня. Всё это была забытая детская чушь, но с тех пор кличка Репчатая ассоциировалась у Сони с крайней степенью недоброжелательности.
– Все из-за тебя! – сказала Соня и впервые за прошедшие девять дней улыбнулась, глядя на хмурого, толстого, смешного Нолика.
Он давно стал для неё уже не другом детства, а родственником, младшим братиком, хотя был старше. Толстый, пьющий, балованный Нолик, без признаков мужественности, с нестабильным доходом и тяжкими амбициями несостоявшегося актёра.
– Что – из-за меня? Я, между прочим, отменил на сегодня все озвучки по случаю твоего юбилея. Я рано встал, тащился к тебе в метель, через всю Москву.
– Мог бы просто позвонить.
– Ты трубку не берёшь.
– Да? Правда? А почему?
– Слушай, может, тебе врача вызвать?
– Ха-ха, я сама врач.
– Ничего не ха-ха. Ты не врач, ты биолог. Тебе нужен этот, как его? Ухо-горло-нос.
– Иди на фиг. Лучше вымети ртуть из-под кровати, напои меня чаем, потом сбегай в аптеку и стань мне хотя бы на один день родной матерью.
Нолик с готовностью засуетился, проводил Соню в папину комнату, уложил на тахту, накрыл пледом, ушёл выметать ртуть.
Портфель оказался странно лёгким, как будто внутри почти ничего не было. Соня поставила его на папин письменный стол и старалась не смотреть на него. Слишком сильно было искушение открыть прямо сейчас.
Недавно папа летал в Германию. Пробыл там двенадцать дней. Сказал, что летит в гости к своему бывшему аспиранту Резникову. Вернулся задумчивый, мрачный. Почти не разговаривал с Соней. И ни на секунду не расставался с этим портфелем. Он купил его там, в Германии.
– Дай посмотреть, – просила Соня.
У неё была слабость ко всяким сумкам и портфелям. Она уже заметила, что на папином портфеле есть боковые кольца для наплечного ремня. У Сони на плече эта элегантная дорогая вещица смотрелась бы очень стильно.
Он не дал. Почему-то разозлился и сказал, что она обязательно сломает замок или оторвёт ручку. Он, кажется, даже под подушку его клал на ночь.
Соня пыталась расспросить, в каких он побывал городах, что делал, что видел, как поживает Резников, но папа упорно молчал или ворчал на бытовые темы. Она, Соня, опять не помыла посуду, ходит в такой мороз с непокрытой головой, в ванной течёт кран, в тахте что-то сломалось, она не раскладывается, и ему узко спать. Полгода не работает принтер. Нельзя смотреть кино, сломался дисковод.
– Сам все починишь, – огрызалась Соня, – ты же инженер, доктор технических наук.
Родители разошлись пять лет назад. Собственно, это был даже не развод, формально они до сих пор числились мужем и женой. Но мама уже пять лет жила в Австралии, ей там дали долгосрочный гранд в каком-то университете. Ни от Сони, ни от папы она не скрывала, что в Сиднее у неё есть близкий друг, австралиец Роджер, вдовец, старый, старше папы. Соня имела счастье видеть его однажды. Он прилетал с мамой в Москву, знакомиться с Соней. Кривоногий, маленький, ниже мамы на голову, лысый, но с тёмными кудрявыми волосами в ноздрях и в ушах, он очень старался произвести на Соню хорошее впечатление, постоянно ей подмигивал. Потом мама объяснила, что от волнения у бедняги Роджера случился нервный тик.
Чтобы взять портфель, надо было слезть с тахты, пройти два шага до стола. Круглые блестящие замочки, конечно, заперты. Но Соня знала, где ключи. Она нашла их в парадном тёмно-сером папином костюме, когда переодевала его для похорон. Колечко с двумя маленькими ключами было аккуратно приколото к подкладке внутреннего пиджачного кармана английской булавкой.
– Кстати, насчёт родной матери, – пробасил Нолик, появившись на пороге в старом фартуке с божьими коровками. – Ты не забыла, что Вера Сергеевна послезавтра прилетает? Она звонила мне, просила тебе напомнить, чтобы ты встретила её на машине. Очень беспокоится, что ты не берёшь трубку. Я на всякий случай записал рейс, время. А как же ты поедешь в Домодедово такая больная?
– Ничего. Выпью побольше таблеток, посажу тебя рядом в качестве дополнительной печки. Когда рейс?
– Вроде ночью, в половине первого.
– Слушай, как там чай? Тёпленького хочется. Горло болит ужасно.
– Да, я сейчас. Тебе сюда принести или пойдёшь на кухню?
– На кухню. Здесь я пролью.
– Это уж точно, – хмыкнул Нолик, – ты бы на ноги что-нибудь надела. Нельзя при такой температуре босиком. Вечная твоя проблема.
– Что делать? – вздохнула Соня. – Мои тапочки не живут парами. Носки, впрочем, тоже. Найдёшь что-нибудь парное – надену.
Нолик натянул на её босые ноги папины шерстяные носки. Благо, у папы в комнате все лежало на своих местах, аккуратно, по ящикам. По дороге, в прихожей, она чуть не сшибла ведро с розами.
– Да, кстати, кто же принёс эту красоту? – спросил Нолик.
– Понятия не имею.
– У тебя мобильник заливается, не слышишь?
– Это почта. Посади меня, прислони к стенке, возьми телефон и почитай, кто и как меня поздравляет. Потом перескажешь своими словами.
Нолик налил чаю ей и себе, уселся на табуретку с телефоном. Читал он долго и увлечённо, присвистывал, качал головой.
«Все бы ничего, – думала Соня, – шестьдесят семь лет это, конечно, не юность, и даже уже не зрелость. Но и не глубокая старость».
На сердце папа не жаловался. Более здорового и крепкого человека, чем он, она не знала. Он не пил спиртного, никогда не курил, не ел жирного и сладкого, каждое утро делал зарядку перед открытым окном. И с нервами у него было всё в порядке. Откуда вдруг это – острая сердечная недостаточность? И с кем он был в тот вечер в одном из самых дорогих и снобских московских ресторанов? Он терпеть не мог рестораны, тем более такие пафосные. Почему если его пригласили, то не отвезли домой? Он позвонил в половине одиннадцатого вечера, попросил его забрать, назвал адрес. Когда она подъехала, он сидел на лавочке в сквере, обняв этот свой портфель. Лавка была вся в снегу, он сидел на спинке, похож был на снеговика, даже в бровях сверкали снежинки. Соня спросила: что случилось? Он сказал: ничего. Только потом, когда сели в машину и проехали мимо ресторана, он сказал, что ужинал там сегодня. Пообещал завтра все рассказать. Дома пожаловался на слабость. Лёг спать. А утром уже не дышал и был холодный. Соня вызвала «скорую», они сказали, он умер около часа ночи.
– Кто такой И.З.? – спросил Нолик, оторвавшись наконец от чтения Сониной почты в телефоне.
– А? – встрепенулась Соня. – И.З. – это тот, кто прислал розы. Кстати, где твой подарок?
– Да погоди ты. Послушай.
«Софи, почему не берёшь трубку? Мы волнуемся!»;
«Твоя свинка с миомой сдохла. Отзовись!»;
«Ты просила срочно результат биопсии, всё готово, а тебя нет!»;
«Софи, твою статью приняли, просят доработать!»;
«У тебя скоро день рожденья? Круглая дата? Прости, забыл, какого числа. Напиши, я поздравлю»;
«Софи, ты заболела? Подойди к телефону!»
– А, ну это я писал.
«Уважаемая Софья Дмитриевна! Поздравляю! И.З.»
«Софья Дмитриевна, с вами всё в порядке? Как вы себя чувствуете? И.З.»
Нолик глотнул чаю, уставился на Соню.
– Вот. Это пришло только что. Слушай, Репчатая, кто такой И.З.?
Соня хотела обругать его за Репчатую, но закашлялась.
– Это он прислал розы? – Нолик достал сигареты и нервно закурил.
– Вероятно, да.
– Откуда он взялся?
– Понятия не имею. Кто-нибудь из института.
Она говорила сквозь тяжёлые приступы кашля. Нолик так завёлся, что не замечал этого.
– Ерунда! В твоём нищем НИИ нет никого, кто мог бы раскошелиться на такой букет. Может, у тебя зреет серьёзный роман?
– Вполне возможно, – вяло улыбнулась Соня, справившись с кашлем.
– Но ты его знаешь? Ты с ним встречалась, с этим И.З.?
– Нет, Нолик, нет. Сколько раз повторять?
– Но как же? Это жутко дорого, Софи, это не просто так, от доброго дяди.
– Мне не оставили адреса, по которому их можно вернуть. Ты обещал сходить в аптеку, у меня кончились все жаропонижающие, и ещё, мне нужны капли для уха.
– И ты не попытаешься узнать? Выяснить?
– Как?
– Ответь ему, спроси, кто он?
– Да. Обязательно. Только не сейчас.
– Почему?
– Потому что у меня умер папа, и я болею, и мне все по фигу.
Минуту Нолик хмуро молчал, курил, потом вздохнул и произнёс уже спокойнее:
– Надо хотя бы поблагодарить. Ты всегда была воспитанным человеком, Софи.
– Хватит. – Соня прижалась затылком к стене и закрыла глаза. – Знаешь, папин аспирант, Резников, был на похоронах.
– Знаю. Он помогал нести гроб. Лысый такой, с бородкой. И что?
– Он сказал, что не приглашал папу в Германию. Он давно живёт в Москве.
– Погоди, при чём здесь Резников?
– Папа уверял меня, что летит в Германию к нему. Папа никогда не врал.
– Ну, а может, это что-то – ну… личное? Почему бы нет? У мамы бойфренд в Сиднее, папа завёл себе кого-нибудь в Берлине.
– В Гамбурге. Нет, Нолик. Как раз об этом он бы мне рассказал. Слушай, я сейчас совсем никакая. Сходи, пожалуйста, в аптеку. В прихожей моя сумка, там деньги.
Когда Нолик ушёл, Соня ещё несколько минут просидела на кухне, прислонившись затылком к холодной кафельной стенке и закрыв глаза. Ей хотелось, чтобы опять появился папа. Она знала, что сейчас встанет, пойдёт в его комнату, откроет портфель, и бредовая мысль о том, что нельзя этого делать без его разрешения, не давала покоя.
По дороге она присела на корточки, уткнулась лицом в розы. Кто бы ни был этот неизвестный И.З., спасибо ему. На самом деле ей впервые в жизни подарили такой букет. Если бы не смерть папы и не воспаление среднего уха, она наверняка бы ужасно обрадовалась и была бы польщена.
С трудом доковыляв до папиной комнаты, она взяла портфель в руки, чувствуя себя почти воровкой. Может, Нолик прав и у папы в Гамбурге появилась подружка? Недаром он не хотел, чтобы Соня провожала его в аэропорт.
Наверное, они познакомились здесь, в Москве. Ещё за пару месяцев до отлёта в Германию он вёл себя странно, возвращался поздно. Соне просто в голову не приходило, что её пожилой домашний папочка может иметь какую-то свою тайную личную жизнь.
Она знала: заседания кафедры и учёные советы никогда не заканчиваются за полночь. Как многие его коллеги-преподаватели, папа подрабатывал, готовил абитуриентов к экзаменам. Мальчики и девочки обычно приезжали сюда, папа занимался с ними в своей комнате. Сам никогда к ним не ездил. Но в последние два месяца кафедра и учёный совет стали заседать до часа ночи, и почему-то вдруг большая часть занятий с абитуриентами переместилась неизвестно куда.
Соня ясно представила себе элегантную пожилую фрау, научную даму, с аккуратной сединой и очаровательной фарфоровой улыбкой.
Между тем портфель был открыт. Ничего, кроме плотного небольшого конверта, Соня там не нашла. В конверте фотографии, чёрно-белые, очень старые.








