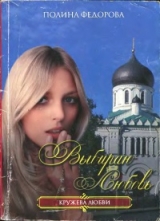
Текст книги "Выбираю любовь"
Автор книги: Полина Федорова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Наталия Михайловна пила в столовой чай, когда ей доложили, что пришел Гундоров.
– Ну так зовите его сюда, – сказала горничной графиня и велела принести еще один прибор.
Она благосклонно кивнула князю, когда он вошел, и протянула для поцелуя сухонькую ладошку.
– Присаживайтесь, князь. Попейте со мной чаю. Или, может, велеть принести вам кофею?
– Нет, благодарю вас. Я выпью чаю, – ответил Гундоров.
– Вы прекрасно выглядите, – заметила графиня князю, когда он сделал несколько глотков. – Время щадит вас.
– Да и вас, графиня, не берут годы, – деликатно произнес Александр Андреевич, заставив себя с удовольствием взглянуть в желтоватое лицо Загряжской, испещренное частой сеточкой морщин. – Да-а, – откинулся он на спинку кресел. – Время, может, и щадит нас, да вот не щадят обстоятельства.
– Какие такие обстоятельства? – бросила быстрый взгляд на князя Наталия Михайловна.
– Поскольку дружба наша, графиня, весьма старая и насчитывает уже полвека...
– Пятьдесят два года, – поправила его Загряжская.
– Тем более. Буду с вами совершенно откровенен. – Гундоров вздохнул, и лицо его помрачнело. – Мой внук...
– Что ваш внук? – подалась вперед Наталия Михайловна.
– Мой внук... влюбился, – закончил Александр Андреевич.
– Фу, ты, господи, – приняла прежнее положение графиня. – Вы меня напугали. Я уж было подумала, что он стрелялся на дуэли или проигрался в карты.
– Если бы, – сокрушенно покачал головой Гундоров. – Для молодого человека нашего круга это было бы вполне нормально.
– Влюбиться для молодого человека тоже вполне нормально, – заметила Наталия Михайловна.
– Было бы нормальным, ежели бы не объект приложения его чувств.
– А что такое?
– Он предложил руку и сердце актриске из Петровского театра, – уныло произнес Гундоров.
– Да что вы говорите? – звякнула чашечкой о блюдце Наталия Михайловна.
– Именно так, – трагически посмотрел на нее князь. – Причем актриска эта давно уже не девица и поведения самого разнузданного.
– Да, это действительно несчастье, – резюмировала графиня.
– Вот почему я пришел к вам, – Гундоров посмотрел на Загряжскую своими круглыми глазками, – просить вашей помощи.
– Понимаю, – после непродолжительного молчания ответила графиня. – Вы хотите, чтобы я познакомила его с девицей из приличной семьи и он отвлекся бы от этой актрисы. Так сказать, выбить клин клином.
– Вы правильно понимаете, – отставил чашку Александр Андреевич. – Однако мне необходима не просто девица, общаясь с которой он бы отвлекся от актриски, а невеста и будущая жена. Попросту говоря, мне необходимо его женить, и по возможности скорее.
– Резонно, – заметила Загряжская.
– У вас есть кто-нибудь поприличнее на примете?
– Приданое невесты вас интересует? – деловито спросила графиня.
– Не в такой степени, как оно интересовало бы меня в иных обстоятельствах. Пусть оно будет небольшим. Я хотел бы, чтобы как можно скорее совершилась помолвка.
– Ну, тогда я бы остановилась на двух кандидатурах, – раздумчиво произнесла Наталия Самсоновна.
– Я весь внимание, – подался вперед князь.
– Значит, так: вдовица Зинаида Аполлоновна Колокольцева, весьма богатая, имения в Московской и Пензенской губерниях, двадцать один год, и Ксения Панчулидзева, дочка Алексея Давыдовича, бывшего саратовского губернатора.
– А ей сколько лет? – поинтересовался Гундоров.
– Двадцатый. Очень богата, вернее, богат отец, наживший себе состояние казенными доходами от Елтонского соляного озера, когда еще был вице-губернатор. Но он прижимист и богатого приданого не даст.
– Я понял вас, – благодарно посмотрел на Загряжскую Гундоров. – Чаша моих весов склоняется в сторону вдовицы Колокольцевой, однако, Наталия Михайловна, – князь счел уместным положить свою ладонь на лапку графини, – переговорите-ка вы лучше с родителями обеих.
– С Колокольцевой надобно будет разговаривать с самой, – заметила ему Загряжская.
– Ну, с самой так с самой, – улыбнулся князь. – Полагаюсь на ваш опыт и участие к моему внуку. Главное, женить его как можно скорее.
– Поняла вас, – улыбнулась Загряжская, и лицо ее еще более покрылось сеточкой мелких и частых морщин.
– Не сомневался, что мы поймем друг друга, – улыбнулся в ответ князь и посмотрел на графиню так, как смотрел на нее пятьдесят два года назад, когда его представляли ей. В этом взгляде были восхищение, восторг, нежность, страсть, – словом, все, от чего сердце графини Загряжской тогда учащенно забилось. Впрочем, пятьдесят два года назад Наталия Михайловна еще не была Загряжской, а лицо ее не портила ни одна морщинка. Теперь же, как бы на нее ни смотрели и что бы ни говорили, сердце старой графини билось ровно и спокойно.
13
Комическая опера Михаила Попова «Анюта» шла на ура. Это была не первая ее постановка в театре. Анюту играли и Синявская, и Воробьева, и Сандунова. Синявская со своими дворянскими кровями мало походила на крестьянскую дочь, зато была весьма убедительна в конце пьесы, когда оказывалось, что она дочь полковника Цветкова, отдавшего ее в трудную для него минуту на воспитание крестьянину Мирону Воробьева, весьма шустрая девица в жизни, была таковой и в роли Анюты, и своими метаниями между предлагавшими ей руку и сердце работником Филатом и дворянином Виктором вызывала у публики вместо положенного в пьесе смеха некоторое раздражение, что для актерской игры было весьма не плохо, но в иной, не комической постановке. Сандунова же в свои тридцать с хвостиком и с бабьей дородностью вместо прописанной в пьесе юной девицы смотрелась зрелой женщиной, явно повидавшей в своей жизни не одного мужика. Брала она голосом, очень сильным и чистым, посему ей прощалось несоответствие лет и собственной фактуры. Однако во всех них комического было мало.
Настя играла Анюту впервые. И с начальных мгновений появления ее на сцене зрители сразу же поверили ей. Подходило к ее небольшому росточку, хрупкой фигурке и негромкому голосу даже имя – Анюта. Как ей удалось привнести комическое восприятие всего происходящего на сцене, осталось загадкой для публики. Однако когда старик Померанцев, игравший Мирона, пропел своим дрожащим тенорком:
Боярская забота:
Пить, есь, гулять и спать;
И вся их в том работа,
Штоб деньги собирать.
Мужик, сушись, крушиса,
Потей и работай,
А после хош взбесиша,
А денюжки давай... —
зрители, ранее воспринимавшие монолог настороженно, дружно расхохотались.
Вызывало смех и показное, нарочито подчеркнутое рыцарское отношение Виктора к Анюте. Плавильщиков играл влюбленного дворянина с большим пафосом, заламывал к месту и не к месту руки, выказывая свое отчаяние, прикрывал тыльной стороной ладони глаза, словно ослепленный красотой Анюты, выходившей в первых сценах вымазанной сажей.
Зрители хохотали, когда тщедушный работник Филат, домогавшийся благосклонности Анюты и получивший отказ, пообещал ей выломать ребра дубиной, хохотали, когда, вступив в словесный поединок за руку и сердце Анюты, Филат, похожий на общипанного воробья, дерзко заявил Виктору:
Да, петь и помнить то, што также и хресьяны
Умеют за себя стоять, как и дворяны.
А как преобразилась Анюта, когда узнала; что она дочь полковника Цветкова, дворянина! Сажа с лица исчезла, она стала выступать павой и совершенно перестала замечать Филата. Счастливо исчез и сословный барьер, разделявший Анюту и Виктора. Теперь они могут спокойно пожениться, тем паче что Виктор подкинул и Мирону, и Филату деньжат, за то, что они оба лишаются Анюты. Крестьяне тотчас успокаиваются, все кругом довольны:
Всех счастливей в свете тот,
Кто своей доволен частью!
Настю вызывали восемь раз и буквально засыпали цветами. Приехавший ревизовать московские театры главный надзиратель над всеми российскими зрелищами (должность, которую придумала еще Екатерина Великая), актер и режиссер Иван Афанасьевич Дмитревский, первый и единственный покуда академик из числа театральной братии, весьма хвалил Настю, актерским дарованием ее был просто очарован и звал ее и бывшего своего ученика Плавильщикова на гастроли в петербургский Императорский театр, где он вот уже более двух десятков лет исправлял должность инспектора. Прощаясь с Настей, старик даже прослезился и изрек фразу, которой его напутствовала в должность главного надзирателя театров великая государыня императрица: «Театр – это такое место, которое должно быть во всей строгости училищем добродетели и страшилищем порокам».
Итак, от поклонников нет отбоя. Букеты цветов в гримерной некуда ставить, и, отправляясь домой, она сама едва находит место в экипаже, настолько он заполняется цветами. Юноши с пылающими от восторга взорами бродят возле ее дома в надежде ее увидеть еще, что было бы для них величайшей радостью. А уж встретить ее возле дома или хотя бы поймать ее благосклонный взгляд из окна и вовсе несказанное счастье, ради коего, в чем они нимало не сомневаются, стоило часами мерзнуть под ее окнами.
Вот и Константин Львович Вронский, вручив шикарный букет цветов, зовет ее на лето с собой на Липецкие воды, что в устах сего красавца-ловеласа звучит почти равнозначно предложению руки и сердца.
Настя ответила ему беспечно:
– Хорошо, я подумаю над вашим предложением.
Окрыленный успехом Вронский тотчас изрек:
– А сегодня предлагаю провести вечер со мной. Мы отметим ваш успех и...
– Простите, Константин Львович, я немного устала и хотела бы отдохнуть у себя дома, – не дала ему закончить Настя, прекрасно понимая, куда клонит Вронский. – Как-нибудь в следующий раз.
– Вы обещаете мне? – попытался заручиться ее согласием красавец.
Настя беспомощно огляделась, пытаясь отыскать взглядом Дмитрия, но вместо него она увидела Каховскую. Александра Федоровна, восприняв ее взгляд как призыв о помощи, подошла к Насте и взяла ее под руку.
– Прошу прощения, сударь, но у меня к Анастасии Павловне есть очень важный разговор, – даже не глянув на Вронского, твердо заявила она и отвела Настю в сторону.
– Так вы обещаете мне? – воскликнул им вдогонку Вронский.
Настя оглянулась, но ничего не ответила.
– Чего он от вас хочет? – спросила Каховская, когда они сделали несколько шагов. – Будьте осторожны с этим господином. Мне говорили, что он известный похититель дамских сердец. Коллекционер, так сказать.
– Знаю, – ответила Настя и добавила с непонятной Каховской печалинкой: – Мне говорил об этом Дмитрий Васильевич.
– Какой Дмитрий Васильевич? – спросила Каховская.
– Нератов, – отчего-то зардевшись, ответила Настя.
– Это из каких же Нератовых? – спросила Александра Федоровна, тщетно пытаясь поймать взгляд Насти и отметив про себя, что та вдруг смутилась, что было совершенно не в ее характере. – Уж не сын ли покойной Марии Александровны?
– Он внук князя Гундорова, – с большой неохотой ответила Настя.
– Правильно. Мария Александровна была дочерью Гундорова, единственной дочерью.
– А вы, как вы здесь оказались? – стараясь перевести разговор, спросила Настя.
– Как и все, – просто ответила Александра Федоровна. – У меня домик в Замоскворечье.
– Неужели и вы приехали за женихом? – простодушно спросила Настя и, спохватившись, прикрыла рот ладошкой. – Простите, пожалуйста!
– Ничего, вопрос вполне уместный, – добродушно улыбнулась Каховская. – Нет, милочка, нет и нет. Помилуй меня, Господи, от такой награды. Мне вполне хватило и моего бывшего муженька...
– А что случилось? – поинтересовалась Настя, и ей самой показалось странным любопытство к замужней жизни. – Простите, я, кажется, сую нос не в свои дела.
– Перестань извиняться. Вопросы замужней жизни волнуют молодых девиц, просто не всякая о том спросит.
Каховская немного помолчала.
– Что случилось, спрашиваешь? Годом раньше я бы ответила, что муж мой оказался мерзавцем и гулякой, что замужество было самой глупой ошибкой в моей жизни, что мучений, которые мне довелось испытать, живя с ним, не пожелаешь и врагу. Но теперь... Теперь я скажу иначе: у нас были слишком одинаковые характеры. Как говорят, нашла коса на камень. Когда он ударил меня, я ударила его, а когда он схватился за нож, в моей руке оказались каменные щипцы. А потом я ушла от него. Какое-то время жила у отца, но прожить в отцовском доме, будучи замужней женщиной, – значит постоянно служить притчей во языцех во всех городских гостиных. И я стала жить самостоятельно. О чем ничуть не жалею. Так что учти, что я тебе сейчас сказала, когда будешь выбирать себе жениха.
– Он не такой, – вырвалось у Насти, хотя она вовсе не хотела ничего рассказывать о себе Каховской. – Он очень добрый.
– У тебя уже есть жених? Кто он?
Настя молча опустила голову.
– Хорошо, не говори. Его зовут... Дмитрий Васильевич Нератов. Ведь так?
Настя кивнула.
– Он уже сделал тебе предложение?
Настя снова кивнула.
– А ты? – спросила Каховская и вместо ответа услышала плач. Тоненький, тихий, как плачут дети, когда их обидел кто-то из самых близких им людей.
– Ах ты боже мой, – участливо вздохнула Александра Федоровна и приобняла Настю. – Сиротинушка ты моя бедная!
Настя плакала уже в голос. Тонкие, чуть резковатые черты лица Каховской вдруг смягчились, и она, едва сдерживаясь, дабы не составить компанию рыдающей Насте, произнесла срывающимся голосом:
– Так ты что, влюблена?
– Не знаю, – еле слышно ответила Настя и только пуще зашлась в плаче.
Две слезинки выкатились из глаз Каховской, оставив на щеках мокрые дорожки.
– Он... мне даже... снил-ся, – срывающимся от плача голосом тихо сказала Настя. – Да-вно, еще до на... нашей встре-чи...
– Значит, это твоя судьба, – произнесла Каховская.
Плач Насти перешел в настоящие рыдания.
– Ничего, Настенька, ничего, – прошептала Каховская скривившимися от сдерживаемого плача губами и прижала Настю к себе. – Я же с тобой...
Дома, веля своей единственной горничной и экономке в одном лице никого не принимать, впрочем, для визитов время уже и так было слишком позднее, Настя долго бродила среди корзин с цветами, коими была уставлена едва ли не вся комната. Все, о чем она мечтала с тех пор, как впервые вышла на сцену, заменив сбежавшую с корнетом Феклушу, сбылось. У нее была слава прекрасной актрисы; всякий раз после спектаклей ее заваливали подарками, весьма дорогими, которые позволили бы ей безбедно жить несколько лет; она уже сейчас могла позволить себе сменить квартиру и завести собственный выезд; десятки поклонников одолевали ее своим вниманием, многим из них она смогла бы приказывать, как лакеям, – барыня да и только. Ну какого еще, ей-богу, надобно рожна? Живи и радуйся! Ан нет. Все это уже мало радовало и для счастья, как оказалось, было недостаточно. Ну, зачем ей это все только ради себя? И нужно ли это ей одной?
Конечно, играть в театре, да просто быть в нем своей и принадлежать этому миру было ей совершенно необходимо. Она уже не мыслила себя без театра, его запаха, сотен глаз, устремленных на нее оттуда, из залы, у обладателей коих она могла вызывать мысли и чувствования, ею самой и навеянные. Стало быть, она могла повелевать всеми этими людьми, могла заставить их удивляться, переживать, страдать, плакать и смеяться. Когда она видела, чувствовала, что это ей удается, холодок пробегал по ее коже. И это было высочайшим, высшим наслаждением, какое только может испытывать смертный. Но все остальное? Зачем это ей, если она не может ни с кем поделиться?
Вот если бы рядом был человек, любящий ее! И чтобы она любила его... Больше жизни! Даже больше театра! Тогда она смогла бы разделить с ним все, что имеет: успех, деньги, славу! Ведь счастье – жить не для себя, а для тех, кто тебе дорог больше всего на свете.
Как Дмитрий Васильевич?..
Настя бродила по комнатам, как сомнамбула, натыкаясь на корзины с цветами. Потом, измученная более, нежели после «длинной драмы», как назывались в афишах и авертиссементах пьесы в пяти действиях, легла, но перед глазами по-прежнему стоял Дмитрий Нератов. Смущаясь, он протягивал ей коробочку с кольцом, и они снова касались друг друга пальцами рук, отчего тотчас по коже Насти побежали мурашки. А потом, уже в полусне, ей казалось, что они целовались, и губы Дмитрия были сухими и горячими, как и его объятия. И ей было покойно и приятно.
14
Настя в роли Анюты в пьесе Попова произвела в Первопрестольной настоящий фурор. В Москве только и говорили, что о ее игре, и называли ее не иначе как Настенька, что говорило о полном признании как московской актрисы. Господин Медокс увеличил ей жалованье вдвое, сравняв его с жалованьем, что получали Воробьева и Сандунова. Те хоть и хмыкнули, да поделать ничего не могли. К концу сезона Настя перебралась из шумного Замоскворечья на тишайшую Спиридоновку, в домик близ Патриарших прудов, с большим ухоженным садом и беседкой, где летом можно было бы пить полуденный чай и вести неторопливые беседы с милым дружком. Да только такового дружка у Насти не было. С их последнего разговора на Пресненских прудах Дмитрий не давал о себе знать и даже не посетил ни одного ее спектакля. Она это знала, так как во время спектакля пыталась отыскать его со сцены взглядом и не находила.
– Не смотри ты так часто в зал, – сделал ей даже замечание Плавильщиков. – Ищешь, что ли, там кого?
Однако чем дольше она не видела Дмитрия, тем больше о нем думала. Может, напрасно она так с ним поступила? Ну заставила помучиться этого старика Гундорова, видела его унижение, и будет? За свое унижение – его унижение, за свои страдания – его страдания – стало быть, квиты? Далее-то зачем мстить? Ведь не князю этому мерзкому больнее стало, а внуку его. Он-то при чем?
Эх, кабы вернуть то последнее свидание в беседке! Приласкать его взглядом, слово теплое сказать. Ведь он любит ее!
Пробираясь после вечерней репетиции по пустому коридору театра к артистическому входу, Настя остановилась. Ей вспомнились глаза Дмитрия, полные любви и бездонной нежности. Не могут такие глаза лгать. А она! «Боже, как вы несносны... Хорошо, я подумаю над вашим предложением. А вы все же поговорите со своим дедом. Может, ему удастся вызвать умные мысли в вашей голове»... Да это я глупая! Милый, милый мой увалень, я согласна. Согласна! Потому что теперь понимаю: люблю. Люблю!
– Ах, если бы выйти из театра, а у входа стоит он, Дмитрий, – прошептала она. – Я бы все объяснила ему, нет, ничего бы не сказала, просто подошла и взяла за руку. И мы пошли бы в эту ночь, в эту весеннюю хлябь, туда, куда пожелал бы он или куда повело бы нас Провидение, но только вместе. А там...
Настя улыбнулась, вышла на служебное крыльцо и, спускаясь с покатых ступенек, поскользнулась. Она бы и упала, не поддержи ее сильные мужские руки.
– Осторожно, сударыня, – услышала она приятный голос и подняла на своего спасителя глаза. Близко, слишком близко, придерживая ее под локоток и обнимая за талию, стоял Константин Львович Вронский. – Не ушиблись?
– Нет, благодарю вас, – ответила Настя с застывшей улыбкой, высвобождаясь из объятий Вронского.
– Ну, вот, вы уже улыбаетесь мне, – весело заметил он, не спеша отпускать Настю. – А сие уже есть progressus8 в наших отношениях, не правда ли?
Он радостно засмеялся, словно действительно был очень доволен этим самым прогрессусом.
«Улыбаюсь, да не вам», – хотела было ответить Настя, но промолчала. Все-таки Вронский не дал ей упасть, к тому же в его открытом лучистом взгляде было нечто завораживающее, против чего как раз и не могли устоять многие женщины, на коих он останавливал свой взор.
– Позвольте, я вас подвезу, – предложил Константин Львович и шутливо вывернул перед Анастасией руку крендельком. – Вы такая хрупкая, что ежели, не дай бог, упадете, то обязательно что-нибудь повредите себе и не сможете какое-то время играть. Это совершенно недопустимо, потому как тем самым вы лишите наслаждения лицезреть вас на сцене. А это будет нестерпимым ударом для всех ваших поклонников, и особенно для меня.
Он говорил и смотрел, смотрел и говорил, и звук его голоса завораживал так же, как и взгляд. Это был один из его приемов, проверенных и безотказных, но на Настю это подействовало не в той мере, в какой он ожидал. Она огляделась по сторонам, увидела, что на них смотрят, и взяла Вронского под руку не потому, что была заворожена и парализована, как кролик перед удавом, а чтобы не допустить бестактности и неловкости. Оттолкни она его, это все увидят, и поползут всякие досужие домыслы и слухи, коих и так ходит предостаточно об актрисах. А так разве поклонники никогда не подвозили ее до дому? Разве это было не в порядке вещей? Разве тот же Вронский первый раз распахивал перед ней дверцы своей кареты с гербами, как сделал это сейчас?
– Видите? – указал он на родовой герб, где на голубом фоне летел белый олень, пронзенный черной стрелой. – Олень – это я, а стрела, что пронзает меня, это стрела Амура, попавшая прямо в сердце.
Он снова взял ее под локоток, помогая ступить на подножку кареты, подождал, пока она усядется, и сел сам, но не напротив, а рядом. Карета тронулась, и колеса дробно застучали по мостовой Арбатской площади.
– Как новая квартира? – спросил Вронский, не сводя томного взгляда с Насти. – Нравится?
– Да, – ответила она.
– Верно, теперь вашим поклонникам сложнее одолевать вас своим вниманием? А я знаю, как их всех отвадить, – заявил Константин Львович и придвинулся ближе. – Надо просто выбрать одного, самого преданного, любящего вас всем сердцем и душой, и тогда остальные опечалятся, потеряют надежду и перестанут беспокоить вас.
– Такого еще надобно найти, – ответила Настя, чтобы хоть что-то сказать.
– В этом нет необходимости, – еще ближе придвинулся к ней Вронский. – Такой поклонник сидит рядом с вами.
Настя посмотрела в глаза известному ловеласу.
– Да, да, – мягко улыбнулся Вронский. – Этот поклонник перед вами. Неужели, – он подпустил в голос малую толику обиды, – вы еще сомневаетесь в этом?
Настя промолчала. Константин Львович, как бы ненароком коснувшись ее колен, взял ее руку в свои ладони.
– Ну когда же вы наконец поверите мне, что я без ума от вас?
Настя молча высвободила руку и отвернулась к окошку.
– Кстати, вы не читали сегодняшние «Ведомости»? – как ни в чем не бывало спросил красавец. – В них некто, пожелавший остаться инкогнито и подписавшийся псевдонимом «Поклонник», поместил статью про ваши успехи на сцене. А закончил статью стихами. Хотите, я вам их прочитаю?
Настя продолжала смотреть в окно.
– Ну, Анастасия Павловна, – тронул ее за плечо Вронский. – Неужели вы не хотите послушать посвященные вам стихи?
Сказано это было тоном разобиженного ребенка, Настя фыркнула и со смешком обернулась:
– Хорошо, читайте.
Вронский, ободренный ее улыбкой, продекламировал:
Смугла, тонка, с огнистым взором
И чистым профилем камей,
Она живет одним задором, —
Одними бурями страстей.
Он закончил и выжидающе посмотрел на Настю.
– Вам понравилось?
– Понравилось, – ответила она и не удержалась, чтобы не спросить: – А кто скрывается за этим псевдонимом «Поклонник»?
– Я! – торжественно произнес Вронский.
– Вы?
– А что? – похоже, немного обиделся Константин Львович. – Вы отказываете мне в возможности написания стихов?
– Да нет, отчего же, – не очень решительно ответила Настя.
– А еще я играю в домашних спектаклях, – снова беря за руку, поведал ей Вронский. – Перед вами очень романтическая натура, и поверьте...
Вронский потянулся и поцеловал Настю в смуглую щечку.
– Что вы делаете? – с возмущением спросила она, выдернув руку и отодвигаясь от Вронского в угол кареты. – Как вам не совестно?
– А что такое? – вскинул брови Вронский. – Вам не нравится, когда вас целуют?
– Не нравится.
Но Константин Львович уже горел. Не пытаясь охладить свой пыл, он снова придвинулся к Насте, одной рукой пытаясь овладеть ее ладошкой, а другой обнимая за плечи.
– Божественная, зачем вы мучаете меня? Неужели вы не видите моих страданий? Помогите мне! Один поцелуй, всего лишь один поцелуй, и я спасен!
– Прекратите! – вжимаясь в угол, прошептала Настя, и глаза ее выплеснули на Вронского холодное пламя. – Иначе я выпрыгну из кареты.
Но красавец, похоже, ничего не слышал. Он еще крепче обнял Настю, другая рука легла на ее колено и медленно поползла вверх. Она уперлась ладонями в его грудь, но ее сопротивление было тотчас сломлено. Ладонь Вронского проникла под шубку и через несколько мгновений грозила оказаться возле ее бедер. Вот она все ближе, ближе...
На повороте карету тряхнуло, и на какое-то мгновение Вронского отбросило от Насти на целую ладонь. Этого времени ей хватило, чтобы дрожащими пальцами открыть дверцу кареты и, не раздумывая, буквально выброситься из нее.
– Стой! – заорал Вронский кучеру, и карета встала как вкопанная. С побелевшим лицом он выскочил и увидел Настю, глубоко впечатанную задним местом в единственный сугроб, который, верно, забыли или поленились убрать дворники, и сложенную пополам так, что голова ее почти упиралась в красные сафьяновые ботики. Он облегченно выдохнул и протянул руку пытающейся выбраться из сугроба девушке.
– Позвольте, я вам помогу, – сказал он, давясь от готового вырваться наружу смеха и отводя глаза. – Вам одной... трудно будет... выбраться...
Настя вновь полоснула по нему негодующим взором, высвободила руки, уперлась ими в снег и, приподнявшись, съехала из сугроба на мостовую. Руки Вронского она не приняла. Когда он принялся помогать ей отряхиваться, Настя отскочила от него и срывающимся голоском пронзительно воскликнула:
– Не прикасайтесь ко мне!
– Хорошо, хорошо, – примирительно поднял ладони Вронский. – Вы не ушиблись?
Настя снова бросила на него возмущенный взгляд, отряхнула последнюю крошку талого снега, прилипшего к шубке и, гордо вскинув голову, пошла по мостовой. Вронский, кивнув кучеру, чтобы следовал за ним, пошел за ней.
– Простите меня, Анастасия Павловна, – поравнявшись с ней, тихо произнес он.
– Вы... вы, – она вскинула на него рассерженные глаза, но не увидела во взгляде Вронского ни прежней уверенности, ни теплой и обволакивающей обворожительности. Константин Львович смотрел просто, и в его взоре сквозили удивление, уважение и даже некоторая благодарность. За то, что она не солгала и осталась с ним человеком? И напомнила ему, что он тоже человек? Ведь в его кругу истинно человеческое было в дефиците, и бал там правили ложь и фальшь...
– Простите меня, Анастасия Павловна, – повторил тихо Вронский. – Я больше так не буду... С вами.
– Да вы словно дитя малое: «больше так не буду». Смешно даже...
– Ей-богу, не буду. Вы ведь мне действительно очень нравитесь. Вот я и подумал, почему бы мне с вами не закрутить роман. Или ни к чему не обязывающий романчик: я вам подарки и все такое, а вы мне свое благорасположение, так сказать. Как это делают все. Но вы оказались не такая, как многие, – добавил он задумчиво. – И... спасибо вам за это.
Какое-то время они шли молча.
– Вы... больше не делайте так, – наконец, произнесла она примирительно. – Ладно?
– Ладно, – повеселел Вронский, – не буду. Значит, вы простили меня?
– Вы же объяснились. Честно и искренне. Чего же на вас дуться? – посмотрела на него Настя.
– Вы удивительная, – произнес с нескрываемым восторгом Вронский.
– Опять? – нахмурила бровки Настя.
– Нет, нет, – поторопился успокоить ее Константин Львович, – я без всякого умысла вам это сказал. Порой мне кажется, что в вас, – он на какое-то время замолчал, подыскивая слова, чего ранее за ним не замечалось, ибо у него на все случаи всегда были заготовлены целые фразы, – сидит какой-то бесенок, колючий и ершистый, когда надо, а, по сути, милый и добрый. И это притягивает.
– Кого-то, возможно, и притягивает, – сказала раздумчиво Настя, – а кого-то, наоборот, отталкивает, – с печалинкой добавила она.
Так они и шли: Настя, чуть поодаль Константин Львович, а за ними, сбоку, четверка лошадей, впряженная в карету с родовыми гербами на дверцах.
– Ну вот мы и пришли, – сказала Настя, когда они остановились у ее дома. – Спасибо, что проводили.
– Еще раз прошу извинить меня за мою... бестактность, – серьезно произнес Вронский.
– Я на вас не сержусь, – так же серьезно ответила Настя. – Я даже отчасти благодарна вам.
– За что? – удивился Константин Львович.
– За внимание ко мне. Своеобразное, конечно, – она усмехнулась, – но все же внимание.
– Вам не хватает внимания к вам?
Настя молча опустила голову.
– Помилуйте, Анастасия Павловна, вам ли говорить об этом? Стоит только вам простите свистнуть, и у ваших ног тотчас окажется сотня поклонников, готовых исполнить любое ваше желание.
– Я не про то говорю. Не про такое внимание.
– А про какое внимание вы...
Вронский не закончил фразу и на мгновение застыл.
– Боже мой! – воскликнул он. – Как же я сразу-то не догадался! Ведь вы же влюблены! Так?
Настя еще ниже опустила голову.
– Ну конечно же, влюблены. А я-то навязывался вам со своей... Простите, меня, Анастасия Павловна, ради бога, простите.
– Да я вас давно уже простила, – посмотрела на него Настя, с удивлением замечая, что у такого ловеласа и дамского соблазнителя столь трепетное отношение к чувству, зовущемуся любовью. Верно, было в его жизни нечто такое... Впрочем, в жизни каждого человека, очевидно, было или есть нечто такое, что не дает ему пренебрежительно отзываться о любви. Ведь это и высшее наслаждение, и неизбывная боль – любить...
– Мне пора, – тихо произнесла Настя. – Прощайте. И... спасибо вам.
Она потянулась на носочках и поцеловала Вронского в щеку. Затем резко повернулась и вошла в парадное.
– Прощайте, – произнес Константин Львович растерянно и запоздало, когда двери, пропустив Настю, уже закрылись. Затем он снял перчатку и осторожно потрогал место поцелуя. Он потом еще долго чувствовал его на своей щеке, словно печать, скрепившую некий договор между ним и Настей, впрочем, не только с Настей, а и со всем миром и, главное, с ним самим. Договор быть человеком...
15
Последней премьерой в этом сезоне была драма Владислава Озерова «Фингал», целиком построенная из песен Оссиана, легендарного воина и барда кельтов, жившего еще в третьем веке от Рождества Христова. Владислав Александрович знал, как выжать слезу из публики. В актерской среде ходили слухи, что драматург сам обливался слезами, когда писал сию пьесу. Однако одно дело написать слезливую драму, а другое – сыграть ее так, чтобы заставить заплакать не только добрейшую графиню Салтыкову или состоящую в преклонном возрасте вдовицу Загряжскую, но и героя русско-турецкой войны полного генерала Тимофея Ивановича Тутолмина, исправляющего на Москве должность генерал-губернатора, архивных юношей и даже видавших виды искушенных театралов.
В трагедии было все: пение бардов, хоры, даже сражения. Старик Померанцев великолепно вел роль лелеящего злобное желание мести локлинского царя Старна, самого трагического лица в драме, потерявшего в сражении сына Тоскара, убитого володетелем Морвены Фингалом, и теряющего дочь Моину влюбленную в Фингала и любимую им. Доверчивого и благородного Фингала играл, конечно, Плавильщиков, а прелестную и чистую сердцем Моину – Настя. Уже после спектакля наплакавшиеся вволю знатоки, видевшие «Фингала» на петербургской сцене, утверждали, что Настенька в роли Моины была более трогательной, нежели уже покорившая Большой театр в столице Катерина Семенова.








