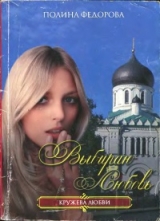
Текст книги "Выбираю любовь"
Автор книги: Полина Федорова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
– С какой это стати? – опешил Есипов.
– Она должна поехать в Москву или Петербург учиться, а потом блистать на императорской сцене, – заявила ему Александра Федоровна.
– Она мне самому нужна, – не очень вежливо ответил Есипов, что, впрочем, было свойственно им обоим. Что поделаешь – друзья детства!
– Эгоист! – выпалила она.
– Без нее у меня упадут сборы, – парировал Павел Петрович.
– Со временем, она может стать выдающейся, великой актрисой. А в твоем театре ей уже нечему учиться. Пока публика ходит на нее. Но через несколько лет она приестся зрителям, и сборы у тебя все равно упадут.
– Вот тогда и отпущу ее.
– Давай я выкуплю ее у тебя. Нехорошо, конечно, торговаться, ведь она мне почти подруга... Сколько ты за нее хочешь?
– Нисколько.
– Двести рублей.
– Нет.
– Триста.
– Я же сказал: нет.
– Я попрошу губернатора поговорить с тобой, – с угрозой произнесла Каховская.
– Я все равно ее не продам, – отрезал Есипов. – И вольную ей не дам.
– Это твое последнее слово? – нахмурила брови Александра Федоровна.
– Последнее, – буркнул Павел Петрович, прекрасно зная, что ежели ей что-либо втемяшилось в голову, она не успокоится, покуда не добьется своего. «Но ничего, еще посмотрим!»
– Посмотрим, – словно в ответ его мыслям с иронией произнесла Каховская, прощаясь.
– Посмотрим, – уже вслух с легким поклоном ответил ей Павел Петрович.
5
Есиновы – старинный дворянский род. Еще в первой половине пятнадцатого века его родоначальник Есип Васильевич, упоминался в родословных книгах как боярин. Трое его сыновей, Василий, Богдан и Димитрий были в Новгороде Великом посадниками – высшая выборная в те времена должность в Новгороде и Пскове.
После разгрома Новгорода Иваном Грозным и высылки из него наиболее значимых дворян стали Есиповы тульскими и рязанскими помещиками, а затем за дворянские службы верстаны были поместным окладом и в Казанской губернии.
Трое Есиповых подписались в избрании Михаила Романова на царство. Род был военный, и числились в нем тысяцкие, воеводы, стрелецкие головы, полковники и генерал-майоры.
Павел – младший сын майора Петра Есипова, записавшего своих отпрысков сразу по рождении в военную службу. Старшие, Михаил и Леонтий, оба дослужившись до чина секунд-майора, вышли лет тридцать назад в отставку и получили после кончины отца имения в Тетюшском и Свияжском уездах. Павел же был записан в лейб-гвардии Измайловский полк, имея ко времени выхода старших братьев в отставку чин гвардии сержанта. Бывая в увольнительных в столице, посещал Каменный театр и сам игрывал со старшим из братьев Желтухиных Петром в домашних любительских спектаклях. А самым лучшим его приятелем сделался бывший студент Московского университета, только-только начавший свою сценическую карьеру в театре князя Урусова, Петр Плавильщиков. Его-то, некогда сотоварища по любительским театральным подмосткам, ныне ведущего актера Петровского театра, ставшего к тому времени сценической звездой, и пригласил на гастроли в третий сезон своего театра Павел Петрович. Слава Плавильщикова как актера и драматурга гремела в обеих столицах, и авторитет его в актерской среде был непререкаем.
– А хороший у тебя театр, – сказал Плавильщиков, придя на второй день по приезде в Казань посмотреть на сцену, где ему придется играть, и окидывая взором зрительную залу с двумя ярусами лож, галереей, партером и двумя рядами кресел. – Большой. Публики много можно вместить. Верно, и сборы неплохие, а? – подмигнул старинному приятелю Петр Алексеевич.
– Сборы неплохие, – согласился Есипов. – Однако покуда тридцать тысяч рубликов верну, что на его строительство и обустройство положил, много воды утечет.
Оставим на время Петра Алексеевича и сделаем небольшое отступление касательно самого театра.
Ведь как, милостивые государи, рождаются в России публичные театры? В Петербурге, скажем, возник при Екатерине Великой Вольный российский театр, составленный его зачинателем Книппером из молодых людей Воспитательного дома для незаконнорожденных. Ну куда таковых девать? Ведь несмотря на то что некоторые из них являлись отпрысками дворян с весьма известными на Руси фамилиями, в том числе и от славного Рюрика проистекавшими, дорожка в службу им была заказана: хорошего классу им не добыть, чинов не стяжать да и денежек довольно не иметь. Ну не в крестьяне же им идти, в поте лица своего добывать хлеб насущный! Лынским, Батовым, Тинским да Доровым, коим отцы их дали усеченные фамилии, отняв несколько букв от своих (Волынский, Щербатов, Борятинский, Гундоров...), да и прочим бастардам от отцов с менее изящными фамилиями надобно же как-то жить! Вот и придумал острый умом Книппер пристроить таковых чад более-менее пристойно, не забывая, конечно, и о собственном благосостоянии. Театр скоро стал публичным, в нем играли и «Недоросля» Фонвизина, и «Мота, любовию исправленного» Лукина и даже «Беверлея» француза Сорена. А после специальным указом императрицы Екатерины Алексевны Вольный театр становится уже не вольным, а Императорским публичным.
Или, скажем, в Москве... Взял крещеный еврей английского происхождения Медокс да и составил из любителей театральной игры труппу – денежки зарабатывать. И ведь получилось! И стал театр публичным, то есть общедоступным, для всех.
Ну, это в столицах, скажете вы.
Хорошо, кинем взгляд в провинцию.
Ярославль. Не там ли великий основатель профессионального театра актер Федор Григорьевич Волков из любительской опять же труппы, куда входили знаменитые Дмитревский и Шумский, составил первый общедоступный театр?
А Воронеж, где публичный театр появился в начале девятнадцатого века?
А Пенза, где в это же время местных театралов радовали аж три публичных театра? В одном из них труппа статского советника и богатея Петра Абросимовича Горихвостова ублажала публику итальянскими операми.
В Казани же... Здесь публичный театр возник следующим образом.
Двадцать седьмого мая 1798 года, на четвертый день своей визитации вместе с цесаревичами в Казань, император Павел Петрович после обеда, что уже вошло в обыкновение, гулял вместе с великими князьями Александром и Константином в саду генерала Лецкого. Сад, когда-то начавшийся с липовой рощи, предваряющей массивы нескончаемого Арского леса, был частью усадьбы генерал-майора Лецкого, прежнего коменданта казанской крепости, отстоявшего ее 12 июля 1774 года от пугачевской вольницы. В его «дворце», – небольшом одноэтажном деревянном домике в пять окон, стоящем в самом конце одной из дворянских улиц Казани, и остановился, прибыв в город, император Павел.
Во время прогулок императора с цесаревичами по саду Лецкого для ублажения слуха высочайших особ играл оркестр и пели актрисы крепостной театральной труппы Есипова – а чьей же еще? Пели актрисы и в тот день, о котором идет речь, и особо отличались душевностью и артистизмом сестры Фекла и Марфа Поклеповы, их в городе звали не иначе как Феклуша и Марфуша. И то ли состояние духа у императора было в тот день превосходным, то ли актрисы пели особенно проникновенно, только император вдруг расчувствовался, подошел к ним и, поблагодарив за доставленное удовольствие, пожаловал им свою поясную брильянтовую пряжку.
Есипов, коему было положено быть при актрисах и оркестре и, вида, что государь пребывает в благостном настроении, подошел к нему и с поклоном произнес:
– Осмелюсь просить, ваше императорское величество, вашего высочайшего соизволения и милости разрешить открытие в Казани публичного театра. Многие губернские города уже имеют оные, и только Казань еще пребывает во мраке по причине отсутствия сего заведения, несущего обществу культуру и нравы исправляющего. Посему...
– А много вам потребуется казенных денег для устройства театра? – перебил отставного прапорщика император.
– Нисколько, – поспешил заверить государя Есипов. – И здание, и все обустройство театральное я с превеликим удовольствием возьму на себя. Так что для казны, ваше императорское величество, будет совершенно необременительно.
– Похвально, – благосклонно взглянул на собеседника Павел, – что в славном городе имеются такие патриоты искусства, да еще пекущиеся о государственной казне. Что ж, извольте получить на вашу просьбу мой ответ «да». Ходатайствуйте в Дирекцию императорских театров, и я без промедления дам вашему делу положительный ход.
Вот так выросло на площади, тотчас получившей название Театральная, огромное здание, пятидесяти сажен глубины и двадцати пяти сажен ширины, украшенное колоннами, к коим прибивались для сведения всеобщего театральные авертиссементы...
Итак, услышав о сумме из уст Павла Петровича Есипова, Плавильщиков вскинул брови:
– Сколько-сколько?
– Тридцать тысяч серебром, – повторил Есипов.
– Ну, брат!.. – восхищенно протянул Плавильщиков. – Это же целое состояние! Прости, но, верно, правду про тебя говорят, что ты ушиблен театром...
– Вот им же и лечусь, – не очень весело произнес Павел Петрович. – Ну что, пойдем знакомиться с труппой?
Петр Алексеевич пробыл в Казани больше трех недель. Играли его «Бобыля» и впервые – новую героическую пьесу «Ермак», где, конечно, сам он и исполнял главные мужские роли.
А как он был великолепен в «Титовом милосердии» Княжнина! Труппа с замиранием сердца внимала монологам Тита, не единожды прерывавшимся аплодисментами зала. Во все дни гастролей знаменитого актера театр был полон.
Аникеева исполняла главные женские роли. В «Росславе» они составили прекрасный дуэт: русский воевода и шведская княжна. Трактование Зафирой любви как высшего жизненного чувствования, что так поразило Каховскую в игре Насти, было едва ли не самым убедительным в спектакле, нежели роли Росслава-Плавильщикова. Но более всего маститого актера поразила Настя в роли Чванкиной, глупой провинциальной барыни в стихотворной комедии Княжнина «Хвастун». Поначалу Петр Алексеевич сомневался, что хрупкая молоденькая барышня сможет перевоплотиться в даму в летах, имеющую взрослую дочь. Однако уже после первых репетиций оставил свои сомнения. Настя сыграла Чванкину, мало сказать, замечательно. Уже первый выход ее сразу же убедил зрителей, что Чванкина глупа, упряма и кокетлива не по возрасту. Чванкиной было не менее сорока лет, что сказалось и на походке Насти, и на манере разговора. Даже ее фигура показалась зрителям, да и самому Плавильщикову более полной и рыхлой, и эта метаморфоза, несомненно, была ее актерской заслугой.
Плавильщиков первым поздравил ее с успехом. И когда один из поклонников Насти, даря букет, восхищенно произнес, что она вполне может блистать на московской и петербургский сценах, актер раздумчиво произнес:
– Я тоже в этом нимало не сомневаюсь.
– Ах, Петр Алексеевич, – вскинула на него глаза Настя. – Вы, верно, забыли, что я господская дворовая девица. Барин меня от себя не отпустит.
– Я поговорю с ним, – заверил ее Плавильщиков.
Однако разговор с Есиповым ни к чему не привел. Он не хотел отпускать Настю, и старые приятели едва не рассорились из-за нее.
А потом против Есипова составился комплот. В него вошли Плавильщиков, Каховская и губернский предводитель Вешняков. На одном из раутов у предводителя к комплоту присоединился губернатор Мансуров. Первенствовала в заговоре, конечно, Александра Федоровна.
– Так как Павел Петрович, – начала она неприятный для Есипова разговор сразу после ужина, – не надумали дать Насте вольную?
Она улыбнулась, и ее лицо с резкими чертами стало почти обворожительным.
– Не надумал, Александра Федоровна, – ответил ей Есипов, сотворив на своем лице некое подобие улыбки.
– Но ты должен, ты просто обязан это сделать! – присоединился к Каховской Плавильщиков, заерзав к креслах.
– Обязан? – вскинул брови Павел Петрович. – Я ничем и никому не обязан.
– Обязан, – продолжал настаивать мэтр сцены.
– Да почему я должен ее отпускать? – уже громко возражал Павел Петрович. – Она моя, моя дворовая девка!
– Она не просто дворовая девка, она актриса! – произнес Плавильщиков хорошо поставленным голосом, будто не сидел в креслах в гостиной предводителя, а будучи Ермаком из собственной пьесы, призывал к подвигу покорения Сибири свою немногочисленную дружину. – Не получив вольную, она не сможет играть на императорской сцене! – веско добавил он и оглядел присутствующих пылающим взором Росслава. – А она должна играть в императорских театрах!
– Отчего же должна? – язвительно спросил Есипов. – Я должен ее отпустить, она должна играть в императорских театрах... Не много ли у вас должников?
– Но талант, – вступил в разговор предводитель, – мне кажется, такой дар, что не может принадлежать одному человеку. Он должен приносить пользу всему обществу и существовать во благо общества...
– Я бы даже сказал, во благо всего государства, – веско заметил его превосходительство и строго посмотрел на Есипова. – Талант есть достояние всего государства, в коем сей талант родился и произрос. И негоже, – губернатор со значением посмотрел на Павла Петровича и поднял вверх скрюченный подагрой указующий перст, я бы даже сказал, противузаконно удерживать подле себя то, что принадлежит всем.
– Но...
– Посему считаю, было бы совершенно справедливым и достойным поступком российского дворянина и гражданина своей державы, – перебил Есипова Мансуров, – совершить акт дарования свободы Анастасии Аникеевой, не как девице в крепостном состоянии находящейся, но как обладательнице редкостного артистического таланта, должного послужить на пользу и во благо всей Российской империи.
Он опустил палец и оглядел присутствующих, ожидая согласия с ним. Все, конечно, безоговорочно поддержали губернатора. Кроме Павла Петровича. Правда, после долгого молчания, в течение коего Мансуров и весь остальной комплот не сводили с него глаз, мнение Есипова изменилось. Вначале он нерешительно мотнул головой, еще через минуту неопределенно хмыкнул и дернул плечом, а затем уже произнес:
– Хорошо, господа, вы меня убедили.
Он поочередно оглядел всех заговорщиков и остановил взор на Александре Федоровне:
– Поздравляю, сударыня, – усмехнувшись, сказал он. – Вы победили.
– Ну а когда было иначе? – улыбнулась ему в ответ Каховская и примирительно добавила: – А я поздравляю вас с принятием благородного решения. Впрочем, я в этом и не сомневалась. Вы ведь и сами прекрасно понимаете, что истинный талант должен блистать для всех.
– Спасибо, друг, – произнес Плавильщиков, кажется, с искренней слезой в голосе. Впрочем, это вполне могло быть актерской уловкой. Но то, что мэтр сцены был растроган, не вызывало никакого сомнения.
– Это весьма, весьма благородно, – сказал предводитель. – Талант действительно должен светить всем.
– Патриот, – твердо заявил Мансуров и расправил брови. – Вы настоящий патриот. К несчастью, таковых в нашей державе становится все меньше. И я очень рад, что в вашем лице имею честь видеть настоящего гражданина своей страны. Весьма, весьма рад, – добавил губернатор и крепко пожал руку Есипову.
Помещик-патриот выправил через Гражданскую палату отпускную Насте, и та стала человеком вольным, имеющим право распоряжаться собственной судьбой. Деньжата у Насти водились, и, приехав вместе с Плавильщиковым в Москву, она сняла небольшой домик недалеко от Иоанно-Предтеченской церкви в Староконюшенном переулке, небольшой, но опрятный и чистенький, как и положено домам дворянского предместья Москвы. Петр Алексеевич начал хлопотать о дебюте Насти, что, впрочем, не понравилось ни московским артистам, ни директорам казенных театров. Кроме того, любимица московской публики Матрена Воробьева, опасаясь конкуренции со стороны Насти, распространила слух, что Плавильщиков хочет ее скабалировать и что Аникеева – весьма посредственная актриса, что, конечно, отразилось на мнении о ней московской публики.
Комедийный дебют прошел неудачно. В пьесе «Ошибки, или Утро вечера мудренее» Настя не лучшим образом сыграла петербургскую светскую львицу, не добившись убедительности в этом образе и не растопив льда холодно настроенной к ней публики. Среди актеров прошел слух, что театральная контора готова отказать Аникеевой в московской сцене. Все должен был решить ее трагедийный дебют, для которого, не без злого умысла, была предложена уже поднадоевшая москвичам трагедия Княжнина «Софонисба».
6
– Пойми, – горячился Плавильщиков, в душе, видно, уже сожалея, что увез Настю в Москву, слишком опрометчиво и самонадеянно решив, что она будет блистать на сцене Первопрестольной, – они выбрали для тебя «Софонисбу» явно ожидая провала пьесы, твоего неуспеха, как актрисы. Потребуй для себя другую роль, пока не поздно. Если хочешь, я могу настоять на перемене.
– Благодарю вас, Петр Алексеевич, не стоит, – невесело усмехнулась Настя. – Они все равно подберут для меня что-либо похожее и такое же древнее, как они сами. Не хотят меня видеть в Москве.
– Ну, это мы еще посмотрим, – не очень уверенно заявил Плавильщиков, стараясь не встречаться с Настей взглядом. – Давай лучше еще раз пройдем твою роль.
Она все схватывала на лету! Петр Алексеевич остался совершенно очарованным артистическим обаянием Насти, а после ее заключительного монолога даже захлопал в ладоши и воскликнул:
– Славно, Mon petit demon5, ах, как славно!
Может, все еще обойдется?
Первый удар был нанесен Насте в театральной костюмерной. Платье Софонисбы, супруги царя Нумидского, как гласили авертиссементы и афишки в руках публики из кресел и партера, оказалось неудачным и болталось на ней, как на вешалке, как это было и в ее дебюте у Есипова. И когда она вышла на сцену, то была похожа на Пьеро, марионетту из балаганного театрика, коей не хватало только веревочек, за которые бы ее дергал хозяин.
Зал встретил актрису смешком, что совершенно выбило ее из колеи. Голос, и без того негромкий, был едва слышим и часто срывался. Плавильщиков – ее возлюбленный Массинисса, желая «усилить» игру, стал почти выкрикивать свой текст и отчаянно жестикулировать. В порыве усердия он задел пальцами свой парик, и тот взвился высоко вверх. Петр Алексеевич подхватил его на лету и так ловко вернул на прежнее место, что публика начала хохотать, но уже беззлобно. И тут Настя услышала свое имя. Она бросила взгляд в зал и увидела в первом ряду кресел... князя Гундорова. Вытянув свои свекольные губы, он посылал ей воздушный поцелуй и участливо качал головой. Рядом с ним сидел юноша, чем-то похожий на старика, и тоже участливо, даже с какой-то жалостью смотрел на нее.
На мгновение она замерла.
Ее жалеют?
И кто?!
Этот противный старикашка, этот мышиный жеребчик? И его юный родственник, сын или внук, верно, такой же сластолюбец, как и его пращур?
Жалеют ее?
Они?! Нет, она не доставит им такого удовольствия.
Софонисба выпрямилась и гордо посмотрела в зал. Теперь глаза ее пылали, речь стала громче...
В нелицемерии ты оскорбленье видишь.
Едва в венце, а ты уж правду ненавидишь...
Это уже была другая Софонисба. Публика перестала замечать, что платье велико и внимала ее голосу, который уже не казался слишком тихим. Провинциальная актриса в роли царицы исчезла, и перед зрителями появилась настоящая царица, не желающая выполнять прихоти римлян и предпочитающая смерть унижению. Бесенок в Насте проснулся очень вовремя! Несколько раз она ловила на себе восхищенные взгляды Плавильщикова-Массиниссы, а потом как бы в раздумье перед очередной репликой посмотрела в зал.
Публика притихла. Зрители следили за каждым движением актрисы и ловила каждое ее слово.
Она снова встретилась со взглядом князя Гундорова. Князь, как ей показалось, был удивлен и несколько растерян. А в глазах юноши, по лицу которого, словно ненароком, скользнула взором Настя, светился восторг.
Вот так! Она не нуждается в их участии. Теперь она повелевает ими! И так теперь будет всегда – и на сцене, и в жизни!
Плавильщиков не мог сдержать улыбки, несмотря на то что ему в одной из последних сцен полагалось быть глубоко опечаленным, ведь именно Массинисса толкает свою возлюбленную Софонисбу сделать выбор между унижением и смертью в пользу смерти.
– Прости в последний раз!
Настя произнесла эти слова с такой внутренней силой, с такой выразительностью, что зал взорвался аплодисментами, даже не дождавшись, когда Софонисба бросится в прощальные объятия Массиниссы. А по окончании спектакля громкие рукоплескания буквально взорвали театр, и многие зрители, до того настроенные крайне скептически к бывшей крепостной актрисе-провинциалке, забывшись, неистовствовали в ажитации, кричали «браво!», бросали на сцену кошельки с монетами.
Несомненный успех! Можно было не сомневаться, что после такого дебюта Насте будет предоставлена одна из московских сцен.
Плавильщиков и Настя принимали поздравления от актеров, когда за кулисами появился князь Гундоров со своим юным соседом.
– Поздравляю, поздравляю вас, – пожал он руку сияющему Плавильщикову и обратился к Насте. – А вас я поздравляю особо, – приник князь своими красными губами к ее запястью, и Настя едва удержалась, чтобы не отдернуть руку. – Ведь мы с вами старые знакомые, – Гундоров со значением посмотрел на нее, – помните, пять лет назад на ужине у Павла Петровича Есипова, когда вы...
– Помню князь, конечно же, я вас помню, – перебила его Настя, заставив себя улыбнуться. – Наша встреча, несомненно, останется в моей памяти навсегда. Уверяю вас, – добавила она со странной интонацией, не понравившейся князю и заставившей его задержать на ней взгляд.
– Восхитительно! Это успех, полный успех, – бормотнул он, соображая, что бы могли значить последние слова Насти. Усилия эти, однако, оказались тщетными, и князь отступил в сторону:
– Вот, познакомьтесь, – он сделал жест в направлении юноши, что сидел рядом с ним в зале, – мой внук Дмитрий Васильевич Нератов. Вы не поверите, он впервые в театре!
– Вы не любите театр? – спросила Нератова Настя, когда тот неловко поцеловал ее руку.
– Люблю! – пылко воскликнул Дмитрий и смутился. – Впрочем, не знаю... Нет. Теперь, кажется, люблю, – совершенно запутался он.
– Так кажется или любите? – не собиралась приходить ему на помощь Настя. Она чувствовала себя именинницей, была весела, и ее черные глаза продолжали пылать и искриться.
– Кажется, люблю. Нет, определенно люблю, – с восторгом ответил Нератов.
– Значит, вам понравилось наше представление? – продолжала пытать молодого человека Настя, и в глазах ее засветился какой-то огонек, как тогда, в девичьей, перед тем как вцепиться в волосы Марфуши. Князь ничего не заметил, а Плавильщиков удивленно поднял брови: он-то уже знал, что свечение означает принятие Настей какого-то решения, после чего немедленно последует его исполнение.
– Очень, – с готовностью произнес Дмитрий. – Мне все очень понравилось. Особенно как играли вы. И вы, – повернулся он в сторону Плавильщикова.
Мэтр лишь снисходительно улыбнулся.
– А как случилось, что вы сегодня впервые посетили театр? – удивилась Настя. – Вы все время жили в деревне?
– Дмитрий Васильевич воспитывался в иезуитском коллегиуме в Санкт-Петербурге, – ответил за внука князь Гундоров. – Это закрытый пансион. И воспитанникам не разрешалось посещение театров и иных увеселительных заведений даже в увольнительные дни.
– Зачем же вы выбрали такой пансион, – пожала плечами Настя, – да еще иезуитский?
– Этот пансион выбрал я, – несколько раздраженно ответил Гундоров. – Коллегиум очень аристократическое заведение. Оно готовит юношей для государственной службы, и это лучшее из всего, что есть в столицах. Дмитрий Васильевич – сирота. Кому же о нем заботиться, как не родному деду?
– Да, вы правы, князь. – Настя повернулась к Нератову – Ваш дедушка, верно, очень любит вас.
– Да, – произнес Дмитрий.
– Тогда вам не о чем беспокоиться, – улыбнулась Настя и, показывая свое расположение к Нератову легонько дотронулась до его плеча. – Вы в очень надежных руках.
Сказано это было с легчайшей долей сарказма, и даже Плавильщиков, не говоря уж о Дмитрии Васильевиче, ничего заметить не смог. Гундоров же, проведший едва ли не половину своей жизни за разговорами в светских гостиных, великолепно усвоивший основное требование света non seulement etre, mais paroitre6 и прекрасно разбиравшийся в тончайших оттенках интонаций, намеках и недосказанностях, уловил сарказм Насти и опять, как в начале встречи, настороженно задержал на ней взгляд. Но лицо актрисы было безмятежно, глядела она уверенно и спокойно и, казалось, ни о чем не думала, кроме своего успеха. Князь вежливо поклонился и взял внука под руку.
– Прошу прощения, но нам пора, – учтиво произнес он. – Да и вам после такого спектакля требуется отдых.
– Прощайте, – тихо произнес Нератов и отвел глаза.
– Прощайте, князь, прощайте, Дмитрий Васильевич, – победно улыбнулась обоим Настя. – Надеюсь, мы еще увидимся.
– Да, да... увидимся... конечно, – пробормотал князь, не понимая, отчего у него вдруг испортилось настроение. Впрочем, так всегда бывало, когда что-либо случалось, но он об этом еще не знал. Или вот-вот должно было случиться.
А Настя, прикусив губу, сосредоточенно смотрела им вслед.
– Обернись, – вдруг тихо приказала она.
– Что? – спросил Плавильщиков.
– Ничего, это я так, – продолжая смотреть вслед князю с внуком, ответила Настя. – Обернись, – требовательно прошептала она.
Когда Гундоров с Нератовым стали спускаться по ступеням, Дмитрий Васильевич обернулся. Настя слегка кивнула ему и улыбнулась. Черные глаза ее светились все тем же неясным светом.
7
Он так и не понял, что заставило его обернуться. Словно кто-то толкнул под локоть и приказал: оглянись. И он оглянулся. И встретился с ее взглядом, обжигающим и ласкающим одновременно. Так еще никто не смотрел на него; глаза этой девушки-актрисы и требовали, и обещали.
Дед нетерпеливо тянул его к выходу, но будь его воля, Нератов остался бы здесь, чтобы еще хоть раз взглянуть в глаза этой маленькой актрисы, такие черные и бездонные, с каким-то странным светом.
Значит, он еще придет сюда. Один.
Как же не похож этот мир, в котором он находился в течение последних двух часов, на тот, что его окружал все годы учебы. Как он занимателен и красочно ярок, в отличие от черно-белого мира в пансионе аббата Николя, в котором он провел столько лет! Даже удивительно, что в самом центре столицы, на Фонтанке возле Обухова моста, существует крохотный искусственный мирок, который он считал единственным и настоящим.
Как он ошибался!
Настоящий мир как раз за стенами пансиона, там, где длинной лентой тянется Невский проспект и возвышаются над Мойкой ажурные чугунные мосты; на постоялых дворах, пропавших запахом щей и подгорелой гречневой каши, и здесь, в Москве, с ее многочисленными церквами, княжескими дворцами, кривыми переулками, слободами и загородными гульбищами.
И театр! Это особый мир, волшебный, не обособленный, как мирок аббата Николя, но дополняющий большой, настоящий, который он только начал познавать. И люди в этом волшебном мире удивительные...
– Вижу, тебе понравилась эта актриска, – ухмыльнулся Гундоров, когда они садились в экипаж.
– Что? – Дмитрий не сразу понял, о чем говорит дед.
– В ней, и правда, есть что-то бесовское. Кто бы мог подумать, что у нее откроется такой актерский дар...
– Вы и правда знакомы с ней? – спросил Дмитрий.
– Виделись однажды в имении отставного прапорщика Есипова, – непринужденно ответил князь и сощурил крохотные глазки. – Она тогда была простой дворовой девкой, а теперь, поди ж ты, актри-иса... – протянул Гундоров. – Однако тебе не о девицах надобно думать, а о службе. Я говорил кое с кем. Графиня Салтыкова уже сказывала о тебе князю Александру Борисовичу Куракину, президенту Коллегии иностранных дел, и он обещал определить тебя в службу в архив Коллегии при первой же ваканции.
– Спасибо, grand-pére7, – вскинул на Гундорова большие голубые глаза Дмитрий. – Но я бы хотел... остаться здесь, в Москве.
– А в Петербург тебя покуда никто и не зовет, – усмехнулся князь. – Там своих вельможных отпрысков хватает, девать некуда. Здесь, в Москве, пристроиться куда проще. Да и мест теплых покуда хватает...
Бывший вице-канцлер князь Куракин сдержал свое обещание. Как только в архиве иностранной Коллегии образовалась ваканция, деду пришло письмо за двумя сургучными печатями, короткое и ясное:
«Любезный князь!
Ваш внук господин Нератов определен в число юнкеров при Коллегии, положенных для службы в архиве и под начало управляющего господина действительного статского советника Бантыш-Каменского. Советую внуку Вашему приступить к исполнению своих обязанностей немедля, ибо мест оных в архиве мало, а желающих служить предостаточно».
– Поздравляю, ваше благородие, – заулыбался дед, протягивая внуку письмо князя Куракина. – Теперь ты чиновник четырнадцатого класса одного из самых привилегированных заведений Москвы.
В московском свете, на раутах и балах, архивные юноши уже давно заступили место екатерининских гвардейских сержантов.
В общем, работа была не трудная, особых усилий и затрат не требующая, правда, весьма нудная. Ну да так всегда бывает, когда каждый день повторяется одно и то же. Да и порядок на службе не отличался разнообразием. Дмитрий приходил в архив, младший член канцелярии приносил стопку древних рукописей с номерами и надписями об их содержании, а Дмитрий надписи переписывал в чистую тетрадь. В общей для всех комнате, несмотря на то что управляющий архивом был совершенно глух, стояла тишина, нарушаемая лишь поскрипыванием перьев.
Но, когда время присутствия истекало, начиналась иная жизнь. Зимой не было и дня, чтобы кто-либо из знатных вельмож не давал бала, на большинство коих князь Гундоров получал приглашения для себя и внука. Ближней и дальней родни у Гундорова в Первопрестольной было много: князья Тюфякины, Всеволожские, Мещерские... С князьями Хилковыми и Гагариными он и вовсе был одного корня. А уж про рауты и званые обеды и говорить не приходится.
С Настей Нератов встречался уже две недели. Свидания происходили либо в театре, либо в беседке на Пресненских прудах, где по средам и воскресеньям звучала для публики роговая музыка.
Настенька отличала его среди многочисленных своих поклонников, соглашалась на встречи наедине, и это были самые счастливые минуты для него, он жил ими все дни до следующей встречи. Дышать с ней одним воздухом, смотреть в ее черные бездонные глаза, то задумчивые, то полные искорок смеха, готовых вот-вот брызнуть из ее глаз, – это ли было не счастье и высшее блаженство! А ее голос, негромкий, но полный каких-то загадочных, непонятных ему обертонов? Он проникал в самое сердце и оставлял в нем сладкую музыку, самую лучшую из всего, что он слышал. Конечно, просто сказать: не думай о ней. А вот как это исполнить, когда и мыслей-то других нет, кроме как о Настеньке. Да и какие иные мысли могут прийти здесь, под низкими сводами подвала мрачной храмины в глухом переулке за Покровкой, где помещался архив Коллегии иностранных дел. Ну не думать же, в самом деле, об этих кипах полуистлевших столбцов с мертвыми буквами, содержание коих надлежало переписывать в чистую тетрадь.








