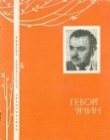Текст книги "Вологодская полонянка"
Автор книги: Полина Федорова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
15
Лето кончилось, и в один из дней созвездия весов почудилось Таире, что будто где-то звучит колокол. Она кликнула прислужницу, прислушайся, мол, действительно ли колокол где звонит или блажится просто?
– Звонит, ханбике, – ответила та. – На Биш-Балте, кажись.
Отрядили джур. Те скоро вернулись, встали у покоев ханских, мнутся, в сторону смотрят.
– В чем дело? – спрашивает Таира. – Что за звон?
– Колокол на русской церкви звонил, – отвечает один из джур.
– Поп, надеюсь, в зиндане?
– Нет, всемудрейшая…
– Почему? – вскинулась Таира. – Я же повелела, чтобы никаких служб в храме урусском. А за ослушание – в узилище, под замок.
– Никакой службы не было, досточтимейшая ханбике, – ответил старший из джур. – Священник ихний в огороде копался, а звонарь на дворе своем пьяный спал, не добудились…
– Кто же тогда звонил?
– Никто, ханбике. Своими глазами видели: на колокольне церковной никого нет, а колокол звонит. Священник сказывал, что колокол сам по себе звонит в канун несчастья великого. Или к покойнику…
На закате того же дня привели охранители на ханский двор безумного старика Шамгуна, известного в городе и на посадах своими пророчествами. Сказывали сведущие, что лет двадцать назад затеял Шамгун тяжбу за огородную землю близ Кабан-озера, и в самый разгар ее, закопав на огородах в ямах трех своих живых сыновей, предложил местному кадию [16]16
Судье.
[Закрыть]спросить у самой земли, чья, дескать, она. Кадий, усмехаясь, согласился. Спорщиков подвели к одному месту, которое, как считал Шамгун, принадлежит ему, и кадий громко спросил:
– Чья это земля?
– Шамгуна, – последовал ответ.
Затем перешли на другое место, и на вопрос кадия «Чья это земля?» – сама земля отвечала:
– Шамгуна.
Землю Шамгун, конечно, отстоял, но когда все разошлись, и он откопал сыновей, то нашел всех их мертвыми, ибо не может смертный долгое время без воздуха. Тем же днем лишился Шамгун рассудка, крепкое хозяйство его пришло в упадок, и он жил тем, что подавали ему сердобольные правоверные на базарах и при мечетях.
Завидев вышедшую к нему Таиру, Шамгун повалился на колени и с пеной у рта стал выкрикивать:
– Хурса [17]17
Дух, провозвестник смерти.
[Закрыть]. Я видел Хурсу, я говорил с ним.
Таира отшатнулась от него, а он вдруг вскинулся и, указывая на окна ханской спальни, дико завопил:
– Он! Вон он, Хурса. Он пришел за нашим ханом! Он пришел…
Ледяной холод пробежал по спине ханбике.
И действительно, пришла великая беда. Заболел Мохаммед-Эмин нежданно какой-то незнаемой болезнью. Тело его покрылось незаживающими язвами, и Таира с ужасом заметила, что во взгляде любимого поселились мука и боль.
Порою наступало улучшение, и от лучей надежды на скорое исцеление Мохаммеда-Эмина светлело лицо Таиры. Однако облегчения становились короче и короче и сменялись еще более сильными страданиями мужа. Лекари, собранные Таирой со всех концов державы, только теребили хилые бороденки и печально разводили руками: не в нашей, дескать, власти помочь твоему горю, прекраснейшая ханбике.
Русские купцы, прознав про страшную болезнь хана, привели как-то во дворец древнего деда с седой бородой по пояс:
– Испытай, царица, сего знахаря-ведуна. Он, – сказали купцы, – не одного из наших товарищей на ноги поставил. А тоже лежачими были… Привели деда в спальню ханскую. Тот походил округ Мохаммеда-Эмина, понюхал воздух, осмотрел язвы. Что думает старик, догадаться было трудно.
– А долго ли лежит царь в постели? – наконец, обратил он свой взор на ханбике.
– Третий месяц, – произнесла Таира. – Ты можешь помочь?
– Попытаем, – не сразу ответил старик, сняв с шеи гайтан с нательным крестиком и доставая из котомки холщовые мешочки и скляницы.
– Если ты поможешь, я дам тебе столько золота, сколько смогут унести люди, что привели тебя сюда, – промолвила Таира, заглядывая старику в глаза.
– И-и, царица, – протянул знахарь, остро глянув на нее из-под совершенно белых кустистых бровей. – Золото ноне мне без надобности. Вот ежели бы лет эдак с полсотни назад… – Он замолчал, раскладывая на таскаке свои мешочки.
– И что это у тебя? – спросила Таира, кивнув на столик. – Худо не станет ему? Смотри, старик…
Знахарь спокойно выдержал взгляд ханбике, любовно потрогал мешочки с травами.
– Вот здесь, – указал он на один из мешочков, – одолень-трава, что всяку силу нечисту одолевает, а еще помогает от потравы, когда ково ядом опоят. А сие, – протянул он заскорузлый палец в сторону другого мешочка, – трава плакун, что бесов смиряет да чары отводит, ежель на ково сглаз да порча были насланы. Тако же травка сия от всяческих недугов весьма пользительна. Однако мыслю, – он глянул тревожно на Мохаммеда-Эмина, – у хозяина твово болесть не нутряная, а извне насланная, от людей худых, злобою супротив него исходящих.
Он снова озабоченно посмотрел на Мохаммеда-Эмина, лежащего в беспамятстве, и добавил:
– Ты иди, дочка, нечего толчиться тут возле меня.
Сутки колдовал знахарь над Мохаммед-Эмином, двое. Бормотал себе под нос непонятные слова, метался по комнате, прогоняя из нее нечистую силу. Чаще всего из спальни Мохаммеда-Эмина слышалось громкое заклятие:
Плакун, плакун! Плакал ты долго и много, теперь послужи ты делу доброму, славному. И будь ты страшен злым бесам, и полубесам, и старым ведьмам, и младым ведьмам, и ведьмакам, и прочей нечисти лесной, болотной, земляной и поднебесной. А не похотят они тебе покориться – утопи их в слезах, а попытаются убежать от тебя – замкни в ямишу преисподнюю…
Охранители, что досматривали за стариком возле покоев ханских, среди коих приставлен был Таирой один, знающий русский язык, докладывали ханбике, что ведун-де, похоже, в деле своем сведущ: не единожды после трав да настоев дедовых хан открывал глаза и даже отвечал на вопросы знахаря. А на вторые сутки даже покушать попросил, после чего, дескать, спал безмятежно и спокойно, без стонов.
На третьи сутки старик велел позвать царицу.
Мигом примчалась Таира. И первым делом встретилась взглядом с Мохаммедом-Эмином.
– Ну как ты? – спросила по-русски.
– Лучше, – коротко ответил Мохаммед-Эмин и улыбнулся ей.
– Эй, – крикнула она звонко и весело, – немедля зовите сюда карачи Ширина с ключами от ханской казны!
– Не спеши, царица, – хмуро произнес старик, собирая мешочки и скляницы в котомку. – Облегчение у хозяина твово на время токмо, дале худо будет…
Мигом стерлась улыбка с губ Таиры. Лицо посерело, а сама она как будто с разбегу ударилась о невидимую преграду. Еле справившись с непослушными губами, спросила тихо:
– Неужто… сделать ничего нельзя?
– Нельзя, дочка, – посмотрел старик ей в глаза. – Силами небесными каждому из нас еще до рождения нашего дни намерены. Без ведома сил этих даже комариха никоего из нас куснуть не посмеет. Так-то вот…
Старик покряхтел виновато, потрогал большую сулею, что стояла на таскаке.
– В сулее травяной настой, царица. Будешь давать, когда уж шибко худо ему будет. Оно-то боль малость и поутихнет…
– Он… умрет? – уже шепотом спросила Таира.
– Филин прокричал трижды, – помрачнел старик, – и курносая уже в пути за хозяином твоим, но… – пожевал губами, – утопающий и за соломинку хватается. Проси Аждаху. Древние духи не умерли, они спят, может, и достучишься.
Ведун определил на плечо котомочку и, покряхтывая, вышел из покоев.
Какое-то время Таира стояла, опустив плечи и уперев взор под ноги. Разрозненные куски мыслей в ее голове цеплялись один за другой, и ухватить хотя бы один из них, чтобы додумать, было невозможно. Потом она подняла глаза и посмотрела на Мохаммеда-Эмина.
– Ты слышал? – спросила она одними губами.
– Да, – ответил Мохаммед-Эмин и медленно прикрыл веки.
Как и предсказывал старик-ведун, через неделю Мохаммеду-Эмину стало хуже. Не помогало уже ничего: ни травяные настои и припарки, ни мази из сосновой смолы и медовые ванны, ни старушечьи заговоры. Смерть, беспощадная смерть, с коей невозможно ни договориться, ни упросить ее повременить, встала у изголовья хана и терпеливо ожидала своего часа.
Однако не в характере ханбике было опускать руки. Взяв с собой лишь десяток джур и не дожидаясь, пока на вскрывшихся реках растает лед, она поехала сухопутьем в далекие камские улусы, где близ старинного булгарского балика Алабуга стоял на одном из древних жертвенных холмов с вросшим в землю каменным идолом полуразвалившийся языческий храм-мольбище.
Еще от старой Айха-бике слышала она, что живет в сем храме уже вторую тысячу лет крылатая дракониха Аждаха, которая знает все на свете и любит пожирать коз. Она никогда не является на глаза людям, и, что будто бы задобрив ее, можно просить у нее совета или даже помощи. Правда, как сказывала Айха, Аждаха очень не любит людей, и надо сильно постараться, чтобы ее задобрить. Ведь когда-то, давным-давно, во времена стародавние, когда только-только пришли на камские берега серебряные булгары и стали строить себе города, то облюбовали они себе один из холмов, где жил суженый Аждахи крылатый дракон Джилан. На взгляд Аждахи, великий, мужественный и красивый, и недалек уже был тот день, вернее, столетие, когда суждено было им, согласно предсказанию, записанному в Черной Книге самим Тартаром, Повелителем Тьмы, соединиться супружескими узами и завести детей. По меркам же людей, был Джилан огромен и страшен, ибо ко всему прочему, что полагалось дракону, имел он две головы, одну змеиную, которой пожирал зверей и людей, а другую воловью, для поедания травы и корней.
И решили люди извести Джилана, так как он шибко мешал становлению города на понравившемся булгарам холме. Нашелся среди воинов один умелец из рода волхвов, который вызвался изничтожить Джилана. Он заманил дракона в пустынное место, очертил его округ колдовскою чертою, обложил сеном, хворостом и дровами и поджег. Заревел тогда страшно Джилан, забил хвостом и попытался было взлететь, ибо имелись у него драконовы крылья. Ему удалось даже оторваться от земли, но крылья успели обгореть, и он рухнул прямо в самый очаг пламени и, конечно, сгорел. С тех пор невзлюбила Аждаха людей, поселилась в старом языческом мольбище и перестала показываться им на глаза. К этому-то месту и держала путь Таира.
Она очень торопилась. Когда на ее дороге оказывались широкие и глубокие реки, Таира, не задумываясь, переправлялась через них старинным кыпчакским способом, привязав к конскому хвосту камышовый плот с верхней одеждой и седлом и держась за конскую гриву. Просохнув у костра, Таира снова садилась на коня, который увязал чуть ли не по самое брюхо в весенней хляби, и продолжала путь.
Так она миновала город великого сеида Чаллы, обойдя реки Шумбут и Берсут с севера; не слезая с коня, перешла вброд речку Керменку выше крепостицы Умар и вплавь переправилась через широкую и спокойную реку Нукрат. Скоро на правом бережку одного из притоков Камы показался балик Алабуга. Здесь, на улугбековом дворе, дав, наконец, отдохнуть лошадям и людям, Таира провела длинную и бессонную ночь в молитвах к Всевышнему. Она просила у Единого лишь одного, чтобы тот даровал ее любимому здоровье. Десять тысяч раз она произнесла таглиль – возвеличение Аллаху. Нет Бога, кроме Аллаха! И все эти десять тысяч таглилей сопровождались мольбой о помощи Мохаммеду-Эмину. А поутру, как только запел в древнем запущенном саду сандугач [18]18
Здесь: соловей.
[Закрыть], Таира с джурами пошли к языческому храму. Каждый из джур нес по козе, купленной прошлым вечером по самой высокой цене, не торгуясь, на алабужском базаре. Дойдя до развалин храма и перерезав козам горло, джуры сложили их в самом центре развалин, на жертвенном месте, и ушли, надеясь, что Аждаха примет такую богатую жертву.
В полночь Таира ступила на каменный пол храма. Холодный лунный свет заливал развалины, трупы коз лежали так же, как их сложили джуры, и только несколько крыс разбежалось при ее появлении.
– Почему ты не приняла моего дара? – крикнула Таира, подняв голову к разбитому куполу храма, сквозь который виднелись неяркие в полнолуние звезды. – Хочешь, мы принесем тебе еще?
Ответом была тишина.
– Значит, он умрет? – с надрывом спросила Таира, и слезы хлынули из ее глаз. – Умрет, да?
Порыв ветра, пронесшийся вдруг над пробитым куполом храма, дохнул в лицо ханбике ледяной сыростью могильного склепа, и в его дуновении почудился ей легкий шорох больших крыльев.
– Да-а, – услышала она тихий и зловещий шепот.
– А ты можешь помочь мне? – в голос зарыдала Таира и протянула руки к темной парящей тени. – Молю тебя, помоги!
Дуновение ветра вновь окатило Таиру замогильным холодом, и тень больших крыльев пронеслась под разрушенным куполом.
– Жизнь за жизнь, – прошелестело в ночи.
– Возьми мою! – в отчаянии взмолилась Таира.
– Твоих детей, – змеиным шипением отозвалась пустота.
– Но у меня нет детей, – растерялась Таира. «А если умрет Мохаммед-Эмин, то и не будет, – подумалось ей. – Мне не пережить его потерю».
– Отдаеш-ш-шь?
– Да… – произнесла ханбике сведенными судорогой губами.
На сей раз обратная дорога не показалась короче, хотя Таира мчалась так, что джуры в тяжелых латах и шлемах безнадежно отставали. И когда она скакала, как вихрь, и когда поджидала отставших джур, в голове ее с каждым ударом сердца стучало, било, жалило до нестерпимой боли: «Он будет жить! Будет!»
16
Такое у нее случилось впервые. Мохаммед-Эмин, проникнув сзади, неистово ласкал ее грудь, а она почти ничего не чувствовала. Да ежели бы она была одета в рубаху, камзол и телогрею, и то бы, верно, ощутила на своей груди крепкую хватку мужа. А здесь совершенно нагая, а грудь будто тремя стегаными одеялами покрыта да еще и снежком припорошена – ничего не чувствует. И соски, к которым ранее чуть дотронься – наливаются и встают торчмя, как мужское естество перед вторжением, сегодня почему-то сморщенные и дряблые, как кончик лежалой морковки.
Потом мысли исчезли вместе со временем. Мохаммед-Эмин входил в нее быстрее и быстрее и вот-вот должен был извергнуться горячей струей. Как далекий ночной морок вспоминалась болезнь мужа, его страдания, ее отчаяние. Три года минуло с тех пор, и Таира старалась не думать о той поездке на древнее капище, запрятав мысли об этом в самый дальний уголок своей памяти.
Она протянула назад руку и стала легонько мять его яички и водить пальцем по шовчику, соединяющему мошонку с отверстием урины. Муж испустил стон, прижался грудью к ее спине и излился, содрогаясь и передавая дрожь ей. Она вскрикнула. Горячая волна прокатилась по ее телу, и она едва не рухнула на пол в сладостном изнеможении.
Мохаммед-Эмин тоже едва стоял на ногах, и колени его мелко дрожали.
– Опять, как впервые, – севшим голосом произнес он, восторженно глядя на Таиру.
Она улыбнулась, вытерла подрагивающую плоть мужа заранее припасенной тряпицей. Естество его теперь было похоже на усталого воина, только что вернувшегося из похода и согнувшегося под тяжелой ношей богатой добычи.
– У меня с тобой тоже каждый раз, как первый, – произнесла она и влюбленно посмотрела на мужа. – Если бы ты знал, как я благодарна Всевышнему, что Он ниспослал тебя мне.
– А я благодарен и Ему, и тебе, – с хрипотцой произнес Мохаммед-Эмин.
– А мне-то за что?
– За то, что ты любишь меня.
Она обняла его.
– Я готова так стоять целую вечность.
– Я тоже.
– Тебя ждет бакши [19]19
Здесь: советник хана по вопросам внешней политики; посол.
[Закрыть]Бозек.
– Подождет.
– Значит, мы будем так стоять?
– Будем.
– Целый день?
– Целый день.
– И целую неделю?
– И целую неделю.
– И не будем ни есть, ни пить?
– Мы будем сыты друг другом.
Таира потянулась и поцеловала его в щеку.
– Ступай, уже пора. У нас впереди еще целая ночь.
Когда он ушел, она вспомнила про грудь. Потрогала ее, и ничего не почувствовала, словно грудь была чужая.
Вечером у нее потянуло в пояснице. Потом заболел низ живота и крестец. Такое уже бывало дважды и закончилось выкидышем.
Затем ее стошнило, и начались схватки. Она велела позвать бабку знахарку, что жила при дворце. Та пришла через малое время, но Таира уже корчилась от страшной боли, и из вместилища обильно шла кровь.
– У меня никогда не будет детей, – прошептала Таира бабке, когда все кончилось.
– Да что ты, бике, – попробовала утешить ее знахарка. – Старше тебя рожают, и ничего…
– У меня детей не бу-удет, – горестно простонала Таира, и по ее комнате пронеслась быстрокрылая тень, обдав ханбике прохладным дуновением.
17
– Мир. Теперь мне нужен только мир, – повторил Мохаммед-Эмин, цепко глядя в глаза собеседнику. – Говори, что хочешь, кайся моим именем, кланяйся в ножки их самому захудалому хакиму, от коего зависит даже самая малая малость, но привези мне мир.
Бакши Бозек кивал головой, не смея возразить хану и мысленно готовясь к сырыми и холодным московским зинданам.
– Подкупи всех, кого возможно и невозможно, сули им все мыслимое, – продолжал Мохаммед-Эмин, – обещай великому князю от моего имени вернуть незамедлительно всех полоняников до единого без всякого выкупа, только привези мне мир. Привезешь – сделаю своим Карачи и арбабом аулов на Высокой Горе, не привезешь…
Мохаммед-Эмин выразительно посмотрел на бакши и замолчал.
– Я все понял, – поднялся Бозек и в почтительном поклоне попятился к дверям, которые открыли перед ним ханские джуры. – Да продлит Аллах твое дыхание, всемудрейший из мудрых и величайший из великих.
Тем же днем Бозек умчал на Москву, попрощавшись с семьей и на всякий случай отдав последние распоряжения. Потому как повеления хана надлежало исполнять незамедлительно. Это у урусов слова еще не действие. Вместо того чтобы исполнить полученное веление точно и в срок, долго будут тянуть вола за хвост, и покуда рак на горе не свистнет или жареный петух в задницу не клюнет – и не почешутся. Ну или ежель государь плахою не пригрозит. Только тогда и исполнят приказание. Да и то кое-как. Дескать, сойдет.
Вестей от Бозека не было долго. Спустя месяцев восемь прибыл от него ильча с грамоткой, в коей сообщал старый бакши, что полгода целых просидел он на посольском дворе безвыездно под запорами, и только после того разрешили ему свидеться с урусским улубием Басылом, который все время кричал и ругался, понося его, великого хана Мохаммеда-Эмина всякими непотребными и оскорбительными словами. Дескать, великий хан казанский есть отступник и словоблуд, законов писаных не блюдящий, слов отцу его, улубия Басыла, улубию Ибану даденных, не держащий и добра, ему во множестве содеянного, не помнящий. Однако писал Бозек, воевать Казань улубий Басыл в скором времени не сбирается, ибо все помысла его направлены против Артана [20]20
Литвы.
[Закрыть], что весьма обрадовало Мохаммеда-Эмина. В конце грамотки просил бакши Бозек, чтобы не оставил великий хан вниманием и расположением, в случае непредвиденного, его семью.
Худо-бедно, как говорят урусы, но это был все же мир. Зная по Москве князя Василия Ивановича, его характер и привычку никогда не забывать нанесенных ему обид, Мохаммед-Эмин обнес каждый из казанских посадов новым острогом в виде двойных срубов высотой в три сажени, меж толстыми стенами коего насыпал щебень и песок, так что получилась острожная стена от одного края до другого в десять локтей – попробуй возьми даже и пушками осадными. Таира же привела в порядок подзапущенный за последние год-два Райский сад против дворца, самолично проверяя, так ли все содеяно, как ею было велено. Дно и стены фонтана в саду она велела выложить плитками муравленными так, чтобы в щели меж ними нельзя было просунуть даже самое тонкое лезвие, что и было сделано специально выписанными в Казань румскими мастерами. Закончив с садом, она взялась за ханский дворец и не успокоилась до тех пор, пока он не стал таким, каким она хотела его видеть: трехэтажным, с галереями-гульбищами на втором и третьем этажах, с башенками и куполками на крыше.
Это было спокойное, прекрасное время для Таиры и Мохаммеда-Эмина. День за днем, год за годом они были вместе, не расставаясь ни на один день, и всякую ночь открывалась, знакомо скрипнув, потайная дверца, впускавшая в ее спальню Мохаммеда-Эмина. Не омрачил дни Таиры и приезд в Казань свекрови ханбике Нур-Салтан, ставшей все же женой крымского хана Менгли Гирея, с черноглазым вертлявым пасынком Сахиб Гиреем, который, кажется, недолюбливал мачеху и слегка побаивался. Обласкав и осыпав подарками другую сноху, дочь бека Мусы, крепко обделенную вниманием Мохаммеда-Эмина, Нур-Салтан за все десять месяцев пребывания в Казани всего-то и обмолвилась с Таирой несколькими фразами. Две волевые и решительные женщины, узнав каждая в другой себя, не нашли, как часто это бывает, взаимного понимания или, как сказывают урусы, нашла коса на камень. Таира старалась не попадаться на глаза свекрови, целые дни просиживала в своих покоях, однако была светла и покойна: знала, уверена была, что придет ночь, и снова знакомо скрипнет потайная дверца…