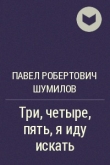Текст книги "Поиск седьмого авианосца"
Автор книги: Питер Альбано
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)
– Японец? – с нескрываемым отвращением спросил адмирал.
Пленный весь подобрался, как будто собираясь прыгнуть в ледяную воду.
– Я гражданин мира, борец за свободу всех народов, ответил он неожиданно сильным и звучным голосом.
– Это мы уже слыхали сегодня, – сказал Фудзита. – Фамилия? Воинское звание? Номер части? И по-английски, а не по-немецки.
– Женевская конвенция…
– Она вас не касается. Вы террорист, а не военнопленный. Отвечать на вопросы!
Конвоир открытой ладонью звонко ударил лейтенанта по лицу.
– Лейтенант Такаудзи Харима, – вскрикнув от боли и задыхаясь, ответил пленный. – Вторая эскадрилья Четвертого бомбардировочного полка. Летал вторым пилотом на DC—6. Выбросился с парашютом.
– Откуда взлетали?
– Из Триполи.
Фудзита издал удивленный смешок:
– Далеко, однако, забираются ваши «Дугласы». Откуда родом?
– Я родился в двадцать шестом году в Уцуноми, префектура Тотига.
– Участвовали в Большой Восточно-Азиатской войне?
– Так точно. Я честно сражался за Японию. Пошел добровольцем в шестнадцать лет, воевал в Маньчжурии с русскими и китайцами в составе Четвертой пехотной дивизии, а потом, когда мою роту уничтожили, в Седьмом отдельном саперном батальоне. Нас послали в самое пекло – на Гуадалканал, оттуда в сорок третьем нас сняли эсминцы. От батальона в живых осталось двадцать три человека. – Файт и Араи, встрепенувшись, недоверчиво переглянулись. – Потом бои в Новой Британии, Бугенвиле, на Окинаве…
– Сдался в плен?! – выкрикнул Фудзита.
– Да, господин адмирал, сдался в плен, когда понял, какой чепухой забивали нам головы с помощью этой вот книжки, – он показал подбородком на придавленную адмиральской ладонью «Хага-куре».
В кают-компании повисла напряженная тишина. «Смельчак, – думал Брент. – Ведь он японец, значит, знает, какое омерзение испытывают самураи к тем, кто сдается в плен, – знает это лучше Розенкранца, который подписал себе смертный приговор. Он тоже говорит как человек, смирившийся с неизбежной и близкой гибелью».
– Эта книга, – продолжал Харима, подтверждая мысли Брента, – учила нас «синигураи». – Он взглянул на Бернштейна, а потом на американцев, из которых только адмирал Аллен понимающе кивнул головой, и пояснил: – Презрению к смерти. – Он поднял глаза на портрет императора, висевший над головой адмирала. – Умению так закалить свой дух решимостью идти в бой, как будто тебя уже и нет на свете, а потому смерть тебе не страшна.
– Вижу, вы читали «Хага-куре», – сказал Фудзита. – И несмотря на это, решились предать ее, изменить своим предкам и потомкам.
– Господин адмирал, я жил по конфуцианским заветам: я был настоящим мужчиной, воином и ученым – и что же получил в награду? Отец, мать, сестра и брат погибли под американскими бомбами. Страна лежит в руинах. Император перестал быть богом. А правит нами новый властелин – Дуглас Макартур. Вас, – он обвел взглядом японских офицеров, – здесь не было в то время. По какому же праву…
– И вы стали террористом, превратились в убийцу беззащитных женщин и детей?!
– Нет! Я стал борцом против американского империализма.
– А русские, надо полагать, лучше?
– Русские помогают свергнуть иго…
– И весьма недурно при этом платят, не так ли? – Фудзита перевел взгляд на конвоиров. – Увести лейтенанта Хариму!
– Убейте меня! – рванулся тот к адмиралу.
– Я поступлю так, как сочту нужным. Вашу просьбу я выполню с большим удовольствием, но – в свое время.
– Отрубите мне голову! – Харима жадно уставился на висящий на переборке кривой самурайский меч.
– Ну, разумеется, только поставим вас лицом на северо-восток, – адмирал нетерпеливо кивнул конвоирам.
– Нет! Прошу вас!.. Злые духи… – но матросы уже вытаскивали его из кают-компании.
– Я думал, вы не верите в эту чепуху, – пробурчал ему вслед Фудзита.
Третий пленник носил мешковатый синий комбинезон и предстал перед адмиралом, дрожа от страха и низко опустив голову. Ростом этот смуглый молодой человек с бегающими темными глазами и подковообразными усами под крючковатым носом был не выше Харимы, но много шире его в плечах.
– Салим аль-Хосс, ваша милость, – еле слышно прошептал он.
– Громче! И милостей тут нет!
– Виноват, господин адмирал! Салим аль-Хосс, стрелок с четырехмоторного «Дугласа».
– Часть! База!
– Вторая эскадрилья Четвертого бомбардировочного полка. Мы летели из Сергеевки.
– Сколько там еще самолетов?
– Десять бомбардировщиков, кроме нашего, и две эскадрильи истребителей.
– Двадцать четыре истребителя?
– Да, господин адмирал, но целую авиачасть оттуда не так давно вывели.
– Когда это было?
– Месяца полтора назад… – Он осмелился поднять голову. – Господин адмирал… Меня… казнят?
– Вы входите в организацию «Саббах»?
Пленный оглянулся по сторонам, словно ища поддержки или сочувствия, и, не найдя ни того, ни другого, еле слышно прошептал:
– Да.
– Я слышал, что у вас считается честью умереть за полковника Каддафи.
– Я так не считаю…
– Почему вы воюете с нами?
– Все из-за них, – он показал на Бернштейна. – Они выгнали нас из дому.
– Чушь, – сердито ответил тот. – Живите себе на здоровье в Израиле, как сотни тысяч арабов, которые работают там и отлично устроены.
– Да? Быть рабом? Гражданином второго сорта? – вскипел Салим – Никогда!
– Просто лень работать.
Араб снова взглянул на адмирала.
– Меня убьют?
– Вы соблюдаете Пять Столпов Веры?
Араб широко открыл глаза, поражаясь глубине адмиральских познаний и неожиданности вопроса, а потом, явно обретая надежду, ответил:
– Конечно. Вера, молитва, пост, «хадж» и самопожертвование. Я соблюдаю все пять. И читаю Коран, обратясь в сторону Мекки, и пять раз в день совершаю намаз.
– Коран – это слово Аллаха, не так ли?
– Так, господин адмирал, истинно так! Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет пророк его.
– Значит, вы знаете, что каждому смертному придется в свой час предстать на Страшном Суде?
– И мой час настает? – надежда в его голосе уступила место отчаянию.
– Да.
Салим впервые за все время допроса выпрямился, а потом рухнул на колени, обхватил голову руками, как на молитве.
– Нет! Нет! Пощадите! Пощадите меня!
– Умереть, потеряв достоинство, – значит умереть как собака, – с негодованием сказал адмирал. – Убрать его!
Подхватив Салима под руки, матросы волоком потащили его к выходу, и Брент еще долго слышал его доносящиеся из коридора крики: «Аллах Акбар! Аллах Акбар! Смерть Израилю!»
Полковник Ирвинг Бернштейн, что было вовсе на него не похоже, закрыл лицо руками и опустил голову. Совсем недавно всем казалось, что этот человек склонен к сантиментам не больше чем нож из шеффилдской стали. Он не моргнув глазом убил нациста Вернера Шлибена, который как-то раз вздумал юмористически порассуждать об иудаизме, геноциде и отсутствии крайней плоти. Даже видавшие виды японцы содрогнулись от этого кровавого поединка, происходившего в судовом храме «Я сделаю тебе обрезание!» – мстительно воскликнул Бернштейн, снова и снова всаживая клинок вакидзаси в пах поверженного Шлибена. Но сегодня полковник был явно чем-то подавлен, и это не укрылось от проницательных глаз адмирала.
– Итак, для подготовки судна к операции у нас месяц с лишним, – сказал он. – Офицеры «Йонаги» первого призыва очень долго не сходили на берег, не были в отпуске. Для новых сражений нам нужны новые силы. Поэтому им разрешаются увольнительные. Не забудьте личное оружие.
– Господин адмирал, – вставая, сказал подполковник Мацухара. – У меня много новичков и…
– Я уверен в боевой выучке экипажа, – непререкаемым тоном сказал Фудзита. – Итак, офицеры «Йонаги» могут сойти на берег. Вас, адмирал Аллен, вас, полковник Бернштейн, вас, капитан третьего ранга Ацуми, и вас, лейтенант Росс, прошу установить очередность ваших выходов на берег с тем, чтобы вы и наши новые офицеры – он показал на Окуму и Сайки – совершенно освоились на корабле. Итак, день – вахта, день – отдых и развлечения.
Само звучание слова «берег» бросило Брента в жар, мгновенно вызвав воспоминание о Саре Арансон. У него, как и у всех, кто проводит долгие месяцы в море, была обостренная память, одновременно и мучившая, и дарившая отраду. Эту тридцатилетнюю женщину в звании капитана израильской военной разведки он встретил в токийском офисе Бернштейна незадолго до средиземноморской операции. У нее было волевое, привлекательное лицо с широко расставленными карими глазами, темные волосы и редкой красоты фигура, соблазнительное великолепие которой угадывалось даже под бесформенным хаки. Их сразу потянуло друг к другу, и через несколько недель Брент уже сжимал в своих объятиях ее бившееся в пароксизме страсти тело. А сейчас, когда ее стоны, ее гортанные дикие вскрики воскресли в памяти, он заерзал в кресле: воспоминания об их разрыве жгли, как раскаленное железо. Узнав, что Брент изъявил желание служить на «Йонаге», оставив теплое место на берегу, рядом с Сарой, она в гневе добилась перевода в Тель-Авив.
Голос адмирала вернул его к действительности:
– Завтра в восемь по нулям Гринвича состоится торжественная молитва в судовом храме. Господ офицеров прошу быть в «синем парадном». Естественно, белые перчатки и мечи. – Фудзита медленно, опираясь о стол, поднялся, повернулся к деревянной резной пагоде, вытянулся перед ней и замер. Следом поднялись и стали «смирно» все остальные. Японцы дважды хлопнули в ладоши. – Вспомним учение Будды и Дао о «Пути»: великого можно достичь через малое. А путь самурая – каждое утро и каждый вечер готовить свое сердце к испытаниям и жить так, словно тело его уже умерло. Так достигается свобода при жизни и райское блаженство после смерти. – Он перевел взгляд на своих офицеров. – Все свободны.
Когда они поочередно потянулись к двери, адмирал вдруг добавил:
– Вас, полковник Бернштейн, я попрошу задержаться еще на минуту.
Израильтянин вернулся к своему креслу.
За без малого год службы на «Йонаге» Ирвинг Бернштейн впервые оказался с адмиралом Хироси Фудзитой с глазу на глаз и сейчас с особенным вниманием всматривался в этого высохшего маленького старичка, сидевшего наподобие храмовой статуи в конце длинного дубового стола. Адмирал был непостижим и весь точно соткан из противоречий: мог быть учтивым и грубым, честным и вероломным, решительным и колеблющимся, милосердным и бессердечным. Однако Бернштейн знал, что «Путь» учит: чем больше противоречий, тем глубже человек. Фудзита был глубок безмерно. Как истый буддист, он верил в «Колесо Закона» – в движение вечной человеческой реки, текущей сама по себе и независимо от предначертаний неба. Отдельный человек вместе со всеми несется в этом бескрайнем потоке, не имеющем ни начала, ни конца, ни рождения, ни смерти. А сам Будда – всего лишь глядящий на солнце слепец. Прагматик до мозга костей, как все японцы, старый адмирал умел и бестрепетно глядеть в лицо смерти, и наслаждаться каждым мгновением жизни, ибо оно могло оказаться последним.
– Вы пережили Холокост, – ошеломил он Бернштейна, показав глазами на номер-татуировку у него на предплечье.
– Да. Я был в Освенциме. Мой номер – 400647.
– Пленные, которых мы допрашивали, разбередили вам раны?
– Эти раны никогда не затянутся, – не поднимая глаз, проговорил Бернштейн.
– Вы убили Шлибена.
– Только однажды, адмирал, а не шесть миллионов раз.
– Когда все это творилось, мы были заперты в Сано-ван.
– Я знаю.
– Но и мы несем за это ответственность.
Полковник удивленно поднял голову:
– Вы? Но почему? Только оттого, что входили в состав стран «оси»? Это лишено смысла.
– Очень логично, полковник. Ответственность разделяют все, кто когда-либо жил на свете, и те, кто когда-либо будет жить. Все, полковник, все без исключения.
Израильтянин понимающе кивнул.
– Восточная философия, адмирал… Мне трудно представить вас капелькой этой реки – кровавой реки.
– Тем не менее это так.
– Не стану спорить.
– Я кое-что читал об этом. Я ведь собрал небольшую библиотечку, вы знаете… – Бернштейн не удержался от улыбки: «небольшая библиотечка» представляла собой огромную, в несколько тысяч томов коллекцию, не умещавшуюся в двух пустовавших каютах и переползавшую в коридоры и даже в штурманскую. Старик читал почти беспрерывно и знал о Большой Восточно-Азиатской войне даже больше, чем адмирал Аллен, не говоря уже о всех прочих. – Но теперь я от вас хочу услышать о том, что это такое было.
Бернштейн потер лоб. Вздохнул.
– История невеселая, и забавного в ней будет мало.
– Если вам тяжко вспоминать, то…
– Разумеется, тяжко. Но, быть может, если я расскажу, мне станет легче. До сих пор я не говорил об этом ни одному человеку на свете.
– Скажите, полковник, это Гитлер виноват во всем, как по-вашему?
– Один человек? Так не бывает. Тут больше подходит ваша теория «реки человечества».
– Но Германия была готова к нему?
– Конечно. Гитлер дал немцам то, что помогло им выбраться из бездны, куда их столкнули разгром в первой мировой и великая депрессия, – надежду. Ну, а его взгляд на место евреев в истории всего лишь раздул тлеющий жар…
– И немцы готовы были отдать за него жизнь?
– Да. За него или за кого-нибудь другого, подобного ему. На его месте мог быть Геринг или Гесс…
– Рассказывайте, полковник, рассказывайте.
Бернштейн откинулся на спинку кресла, полузакрыл глаза. Все это было давно, очень давно, но сейчас же воскресло в его душе, потому что никогда и не умирало. Каждую ночь, стоило лишь ему смежить тяжелые веки, воспоминания начинали захлестывать его, как штормовая волна – невысокий мол. Тени обступали его со всех сторон – тени отца, матери, сестры, брата, львовского еврея Соломона Левина, Лии Гепнер, Каца, Шмидта… Он помнил каждый взгляд, каждый жест, каждый крик боли. Он помнил запах горящей плоти и запах мертвечины. Память была его проклятием.
– Это началось в Варшаве, – сказал он.
Ирвинг Бернштейн хорошо знал историю своего народа – разрушение Храма римлянами и вавилонское пленение, рассеяние на бесплодных землях, окружавших Палестину, гибель под мечами крестоносцев и перемещение в Европу: почти три миллиона евреев осело в Польше, четверть миллиона – на востоке Германии. В Варшаве, когда Европа стала выбираться из мглы средневековья, и осели предки Бернштейна.
Каждый день после обеда, пока мать хлопотала на кухне, доктор Давид Бернштейн читал своим детям – Исааку, Ирвингу и Рахили – Тору и Талмуд, рассказывал об истории «богоизбранного народа», объясняя, что для польских евреев средневековье не кончилось. Их обвиняли в ритуальных убийствах детей, в черной магии, для них придумывали особые законы и правила, с них взимали особые налоги и пошлины. Все было направлено на притеснение. По закону они не имели права владеть землей и входить в состав ремесленных цехов и должны были жить в отделенных от остальной части города кварталах – гетто, обнесенных стеной. Тем не менее там они рожали детей, изучали закон Моисея, и связывавшие их узы становились неразрывными.
Запертые в гетто люди были беспомощны, и на них удобно было свалить вину за любое несчастье, обрушивавшееся на Польшу, будь то наводнение, неурожай или военное поражение. Время от времени толпы громил врывались в гетто, грабя, насилуя и убивая. «Бить жидов» было общепринятым развлечением среди поляков. Своего пика погромы достигли в XVII веке, когда в ходе целой череды кровавых вакханалий погибло больше полумиллиона евреев – зарублено казацкими саблями, выброшено из окон, заживо сожжено вместе с домами и синагогами.
Рассказы отца, вызывавшие у Исаака ужас и исторгавшие слезы из глаз Рахили, в душе Ирвинга рождали только ненависть и гнев. Он восхищался отвагой своих соплеменников, в рядах польской армии сражавшихся против германских государств и России в войнах, которые чаще всего кончались поражениями.
К началу XX века многие ограничения были отменены, а гетто уничтожены. Давид Бернштейн смог окончить медицинский факультет Краковского университета в 1922 году – в год рождения Ирвинга. Теперь это был всеми уважаемый врач, лечивший и евреев, и христиан. Ему помогали жена, получившая свидетельство сестры милосердия, и Ирвинг, очень рано обнаруживший тягу и способности к медицине.
Он любил свой дом – двухэтажный кирпичный особняк на улице Налевского в фешенебельном варшавском квартале. На первом этаже помещались смотровой и хирургический кабинеты, а в задней части дома – кухня, столовая, гостиная. Второй этаж занимали четыре спальни и кабинет-библиотека. В этом доме Ирвинг появился на свет, там он рос и мужал в атмосфере семейной любви, познавая полное, ничем не омраченное счастье. Оно оборвалось в июле 1939 года, когда в преддверии неминуемой войны Исаака мобилизовали и зачислили в Третью кавалерийскую дивизию.
Ирвинг навсегда запомнил, как брат – рослый, широкоплечий, в длинной коричневой шинели и с нелепой саблей на боку – стоял в дверях, одной рукой прижимая к себе плачущую мать, а другой обнимая Рахиль. Потом он расцеловался с отцом, потрепал по плечу Ирвинга и сбежал вниз по лестнице. На мостовой стоял грузовик, из кузова которого выглядывали смеющиеся лица молодых парней в кавалерийской форме. Грузовик тронулся и исчез за углом улицы Заменгофа. Ирвинг видел тогда брата в последний раз.
Первого сентября 1939 года германская армия перешла границу Польши. В тот вечер доктор Бернштейн собрал своих домочадцев у себя в кабинете. Ирвинга поразило его осунувшееся и постаревшее лицо. Отец всегда был сухощавым, но теперь казался совсем изможденным – заметнее посверкивали серебряные нити седины в редеющих черных волосах, круче казался изгиб горбатого крупного носа, глубже стали проложенные усталостью морщины на высоком залысом лбу и горькие складки в углах рта.
– Скоро придут немцы, – сказал он. – Нам понадобятся все наши силы.
– Но как же… – изменившимся голосом спросила мать. – Как же наша армия, наш Исаак? Они ведь остановят немцев?
Но тридцать пехотных и двадцать кавалерийских дивизий не смогли преградить путь вермахту. Всего за месяц боев, больше напоминавших тактические учения германских войск, польская кавалерия, вооруженная пиками и саблями, была рассеяна, плохо обученная и обмундированная пехота окружена и взята в плен, а допотопные аэропланы польских ВВС – уничтожены. И над страной опустилась ночь нацизма.
Когда пала Варшава, доктор Бернштейн успокаивал жену и детей, уверяя их, что в их жизни ничего не изменится – только власть будет другая.
Однако многие евреи опасались иного поворота событий.
– Посмотрите, как они расправились с нашими соплеменниками в Германии, – говорили они. – Неужели же они нас пощадят?
Одни уповали на то, что будут в безопасности, перебравшись в восточную половину страны, занятую Красной Армией, другие пытались организовать тайное бегство в Палестину, а большая часть оставалась на месте, с укоренившимся за века гонений фатализмом ожидая, когда на них обрушатся новые гонения и муки. Долго ждать им не пришлось.
Генерал-губернатором Польши был назначен печально известный своей ненавистью к евреям Ганс Франк, выбравший под резиденцию краковский замок Вавель. Он начинал еще в отрядах штурмовиков, был убежденнейшим нацистом и некогда оказал Гитлеру важные услуги. Вскоре из Вавеля хлынул поток унизительных приказов: евреям запрещалось появляться в общественных местах, к которым были причислены и школы, запрещалось занимать официальные и выборные должности, запрещалось передвигаться по стране» и покидать ее, запрещалось заниматься благотворительностью и служить в армии.
Вслед за этим началась компания по «просвещению» поляков. Им неустанно вдалбливалось, что войну с целью собственного обогащения начали еврейские банкиры, а вторжение вермахта было необходимо для спасения страны от еврейско-большевистского засилья. Вся Варшава – включая и квартал, где жили Бернштейны, – была обклеена плакатами, на которых карикатурные крючконосые евреи с крысиными телами и в ермолках на головах мучили и терзали детей, стариков и монахинь. Очень скоро к помощи доктора Бернштейна католики прибегать перестали.
Начались облавы. Евреев со всех хуторов и деревень Польши в товарных вагонах везли в Варшаву и другие крупные города. Кое-кто пытался укрыться в домах поляков, но те не желали рисковать жизнью ради евреев и, предварительно вытянув у несчастных последние деньги, выдавали их германским властям. Потом было издано новое постановление – евреям вменялось в обязанность носить желтые звезды на одежде или на белой нарукавной повязке. Вернулись времена гетто.
Ранним февральским утром 1940 года в дверь дома Бернштейнов ударили прикладом. На пороге с кавалерийскими карабинами за спиной стояли четыре полицейских, которых по цвету их шинелей называли «синие». «Juden,[8]8
евреи (нем.)
[Закрыть] собирайтесь!» – крикнул толстый вахмистр.
В отличие от всех других, кому разрешили взять с собой только самое необходимое, за медицинским инструментарием доктора Бернштейна прислали машину, и, покуда сам доктор с помощью жены, дочери и Ирвинга грузил в кузов оборудование своего хирургического кабинета, «синие» покуривали в сторонке, отпуская шуточки, касавшиеся главным образом семнадцатилетней Рахили. Она была в самом расцвете своей красоты – длинные черные волосы, густые темные брови, белоснежное лицо и голубые глаза фарфоровой куклы, осиная талия, крутые бедра и высокая упругая грудь.
Вахмистр наконец не выдержал: под хохот своих товарищей он облапил перепуганную девушку и прижал ее к себе, крича: «Ты еще девственница? Это хорошо! У меня еще не было еврейской девственницы. Я припас для тебя гостинец, он придется тебе по вкусу, будешь рыдать от восторга». – И он похлопал себя по сильно оттопыривающейся ширинке брюк.
Ослепительная вспышка сверкнула в голове Ирвинга, и бешеная ярость обуяла его, прогнав страх, нерешительность и вообще способность думать и рассуждать. Под испуганные крики родителей он рванулся к вахмистру и ударил его в челюсть и в обширное тугое брюхо. Полицейский отпустил девушку и, согнувшись вдвое, отлетел в сторону, задыхаясь, как от удушья, и сплевывая кровь из разбитой толстой губы. Ирвинг ухватил его за волосы и несколько раз ударил коленом в лицо, услышав сочный хруст – словно рядом кто-то откусил неспелое яблоко.
Потом он услышал отчаянный вскрик матери и почувствовал, как жгучая боль пронизала все тело от макушки до пяток – это окованный железом приклад карабина опустился на его затылок, – он замер, как будто с разбегу налетел на каменную стену. В глазах у него потемнело, ноги стали ватными. Следующий удар опрокинул его навзничь, и больше он уже ничего не видел.
Очнулся Ирвинг в старой синагоге, находившейся в северном конце гетто – огороженного колючей проволокой участка две с половиной мили длиной и милю шириной, – где разместили отца и трех других врачей с семьями. Раньше в этом районе проживало 150.000 человек, а сейчас сгрудилось не меньше полумиллиона.
Врачам отвели по комнате, а в подвале устроили нечто вроде лазарета. Рахиль в тот злосчастный день избежала насилия, но в глазах у нее навсегда застыло выражение затравленности и ужаса. Жизнь в гетто, обнесенном трехметровой стеной, по верху которой была натянута колючая проволока, была чудовищна. Двадцать выходов постоянно охранялись польскими и литовскими полицаями, выпускавшими за ворота лишь тех, у кого было разрешение на работу в городе. Еда была более чем скудной, и в гетто почти сразу же начался голод. Врачей кормили лучше, но они столкнулись с неразрешимой проблемой – как лечить истощенных и обессиленных людей без лекарств и самых необходимых материалов?
Однако и в этой непроглядной тьме вспыхивали иногда светлые лучи: вероучители толковали детям Талмуд, ставились спектакли и давались прекрасные симфонические концерты. Умельцы собирали детекторные приемники, выходила газета и даже – в глубочайшей тайне – устраивалось богослужение. Семья Бернштейнов отмечала с соблюдением обрядов все еврейские праздники – Йом-Кипур, Симхас Тора, Рош Хашана.
Однако пайки урезались все больше, и к концу 41-го года люди умирали тысячами: особые «похоронные команды» каждое утро подбирали и сжигали трупы, лежавшие «на мостовых и тротуарах.
Доктор Бернштейн от непосильной работы старел на глазах, у его жены прибавилось морщин, и каштановые волосы стали уже не полуседыми, а совсем белыми. В эти дни судьба свела Ирвинга с Соломоном Левиным.
Этот двадцатилетний парень уже успел повоевать и попал в гетто после того, как немцы разбили на подступах к Варшаве его дивизию. Его отец, полковник польской армии, попал в плен к русским под Белостоком и сгинул в Катынском лесу, где, по слухам, большевики расстреляли несколько тысяч офицеров, учителей и других представителей польской интеллигенции. Мать простудилась, когда ее с другими шестьюдесятью женщинами везли на открытой платформе из Белостока в Варшаву, заболела воспалением легких и умерла.
Соломон был высок ростом и очень силен физически: его светлые волосы вились крупными кольцами, черты лица были хотя и грубоваты, но правильны и даже красивы. Когда Рахиль смотрела на него, с лица ее исчезало затравленное выражение и глаза сияли тем мягким светом, которого так давно – целый год – не видел Ирвинг.
– Нас планомерно истребляют и убьют всех до одного, – хрипловато и тихо произнес однажды Соломон, сидя в маленькой комнатке Бернштейнов.
– Ну, зачем уж так, – возразил доктор. – Да, мы живем впроголодь, но все-таки живем. Кто тебе сказал, что нас собираются истребить?
– Вы не слышали о Треблинке?
– Конечно, слышал. Это не так далеко от Варшавы, на берегу Буга. Там трудовой лагерь, и очень многие по доброй воле уехали туда.
– Уехали многие, а не вернулся никто, – прервал его Соломон. – Говорю вам, это – массовое истребление нашего народа. Евреев убивают газом, а потом сжигают в печах. Немцы называют это «окончательным решением еврейского вопроса».
Женщины в страхе вскрикнули.
– Этого не может быть! – воскликнул Давид.
– Окись углерода, доктор.
– Но она действует медленно…
– Вот именно, – кивнул Соломон, – и потому они ищут что-нибудь более эффективное. Говорят, что будет применяться новое средство – «Циклон-Б». Уже строится большой лагерь в местечке Освенцим – по-немецки Аушвиц.
– Я слышал про него. Там узловая станция.
– Потому его и выбрали: им для их дьявольского дела нужна железная дорога.
– Да откуда ты все это знаешь?
Сол оглянулся по сторонам и еще больше понизил голос:
– Вы слышали про Боевую еврейскую группу?..
– Слышал. БЕГ. Ты тоже входишь в нее, Сол?
– Это и в самом деле боевая группа. Наши разведчики уходят за ограду и приносят нам сведения.
– И ты бываешь в городе?
– Да. Через канализацию. И я отвечаю за каждое свое слово.
– Не верю, не хочу в это верить! – воскликнула мать.
– Вы должны поверить! Нам нужен Ирвинг. Его место – у нас.
– Нет! Одного сына я уже отдала… Ирвинг – мой единственный.
– Прости, мама, – сказал он. – Сол прав. Они хотят поголовно истребить нас. Мы должны сопротивляться. Выбора нет. – Он повернулся к Левину. – Я готов.
Штаб БЕГа разместился в подвале одного из доходных домов на улице Грибовского. В тусклом свете одной-единственной свечи вокруг стола на ящиках сидело несколько юношей, не сводивших глаз со своего командира.
– У нас пополнение, – сказал Левин. – Это Ирвинг, сын доктора Бернштейна. А это – Иона Кац из Львова, – он показал на худенького паренька с запавшими щеками и широко открытыми карими глазами, ярко сверкавшими даже в полутьме.
Десятеро у стола кивнули.
– Иона, – понизив голос, обратился к нему Левин. – Расскажи нам про Einzatzgruppen,[9]9
Отряды специального назначения, выполнявшие карательные функции.
[Закрыть] если можешь, конечно, говорить об этом.
Кац, покачав головой, медленно, как семидесятилетний ревматик, поднялся. Он казался ожившим покойником.
– Могу. Господь дал мне силу. – Его большие немигающие глаза прошлись по лицам сидевших и остановились на лице Ирвинга. Громким шепотом, похожим на шелест палой листвы под осенним ветром, он начал: – Я был одним из львовских евреев. Теперь я и вправду один. Во Львове евреев нет. Немцы организовали специальные группы, предназначенные для уничтожения евреев. – Медленно подняв руку, он восстановил нарушенную гневными и горестными возгласами тишину. – Нас всех: моих отца, мать, сестер – по улице Яновского, – может, вы ее знаете? – вывели за город. – Кац опустил лихорадочно горящие глаза, голос его дрогнул. – Заставили выкопать яму, выстроили в ряд нас всех – всех: стариков, женщин, детей, юных красивых девушек – и расстреляли из пулеметов.
– Но ты ведь уцелел? – спросил кто-то, невидимый в темноте.
– Да. Я уцелел. Отец и мать упали на меня и столкнули в этот ров, оказавшись сверху. А потом стали с криками и стонами валиться расстрелянные. Потом эсэсовцы достреливали тех, кто еще шевелился, били их в затылок… Я весь был забрызган мозгом матери.
Он осекся. Ирвинг, вскочив, успел подхватить пошатнувшегося юношу, усадил его на ящик, поразившись его худобе – Кац весил никак не больше сорока килограммов. Но-тот, как испорченный граммофон, продолжал свой рассказ, словно выполняя какое-то взятое на себя обязательство и одновременно убеждая себя, что все это не привиделось ему в кошмарном сне, а было на самом деле.
– Я пролежал в этой яме до ночи, заваленный окоченевшими трупами, а около полуночи, думаю, выбрался… И убежал в лес… – Он судорожно перевел дыхание.
– Ну, хватит, хватит, Иона, – мягко прервал его Левин. – Не мучь себя. – Он обвел взглядом сидящих. – Надо драться. Уже есть Треблинка, скоро будут другие лагеря, и среди них – Освенцим. Скоро Einzatzgruppen начнут хватать нас на улицах Варшавы.
– Нет! Нет! – в один голос воскликнули все, кроме Каца, вскакивая на ноги. – Драться!
Ирвинг Бернштейн, чувствуя, что спазм ярости перехватывает горло, молча вскинул кулак.
Боевая группа, назвав себя в честь иудейского вождя Маккавея, боровшегося против римского владычества, взялась за дело – стали собирать деньги и драгоценности, и теперь разведчики, через коллекторы канализации проникавшие в город, приносили в гетто не только еду, но и оружие. Выбрали из многих добровольцев шестерых юношей, непохожих на евреев – светловолосых и светлоглазых. Кроме самого Левина, в группу вошли Ирвинг Бернштейн и еще четверо – Рафаил Адар, Матеуш Кос, Генрик Шмидт и Зигмунт Штерн. По горло в вонючей жиже они выбирались в город.
От польского подполья помощи ждать не приходилось, но вскоре они вышли на одного старика, называвшего себя Подвинским. За драгоценности и тысячи злотых он начал снабжать евреев оружием – винтовками и пистолетами, а в начале июля 1942 года, когда отмечается день разрушения Храма Иерусалимского, у «Маккавеев» появился первый пулемет. Той же трудной дорогой в гетто попало еще несколько десятков стволов.