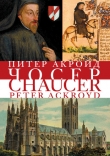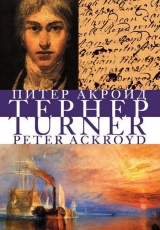
Текст книги "Тёрнер"
Автор книги: Питер Акройд
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
В Королевской академии в тот год он выставил три картины с видами загородных резиденций своих патронов: два вида замка Лаутер-касл в Уэстморленде, дома графа Лонсдейла, и – “Петуорт, Сассекс, поместье графа Эгремонта: Утренняя роса”, в которой сделал попытку передать свежесть и блеск утренней росы, прибегнув к новым приемам масляной живописи.
Покрыл полотно белым подмалевком, добавляя этим яркости и прозрачности краскам, которые клал поверх. Именно этого эффекта он добивался в акварели, используя белую писчую бумагу, которая будто светилась сквозь слои жидкой краски. Вот и в “Петуорте… Утренняя роса” просторы воды и неба испускают чудесное сияние.
А в картинах, выставленных в том году в галерее на Харли-стрит, он вернулся к некоторым из любимых своих сюжетов: озеро, мост, старинный дворец, руины замка, камнепад и рыбный рынок на берегу. Случись Тёрнеру написать сводное сюрреалистичное полотно, в нем сошлись бы все эти элементы. Про “Рыбный рынок”, кстати, сохранилась историйка, которая добавляет красок в легенды о скопидомстве художника. Он якобы доставил картину покупателю, привез в наемном экипаже, получил расписку, что торг состоялся, и уехал, но несколько минут спустя вернулся и потребовал возместить расходы, три шиллинга за извозчика.
На следующий год выставки на Харли-стрит не было. Тёрнер решил перестроить свою галерею, сделать новый вход, за углом на Куин-Энн-стрит, и в результате оказался “окружен мусором и банками с краской”. Но работать не перестал, представив на академическую выставку два классических сюжета: “Аполлон и Питон” и “Меркурий и Герса”. Последний, вдохновленный Веронезе, решением своим обязан Лоррену. Прохлада и прозрачность этой работы, тончайшие переходы тона и цвета, уравновешенная ее композиция – всё говорит о том, к кому лежит сердце художника. Картина была принята очень тепло, и принц-регент, выступая на академическом банкете, упомянул “пейзажи, которые восхитили бы самого Клода”. Газеты, также не скупясь на похвалы, назвали “Меркурия и Герсу” шедевром, а особо восторженный критик “Сан” написал, что художник “превзошел все, что мы или самые преданные его почитатели могли ожидать от его таланта”. Этот отзыв так польстил Тёрнеру, что тот переписал его в свой блокнот и отправил редактору благодарственное письмо. Из чего вытекает, что, несмотря на видимое свое пренебрежение к мнению газетных писак, он не был так уж глух к критике. Скорее всего, показное равнодушие служило ему щитом от разочарования и обиды.
Глава пятая 1811
В январе 1811 года Тёрнер вернулся в Королевскую академию уже в новом качестве – именно тогда он приступил к своим обязанностям “профессора перспективы”. Пост этот он получил еще четыре года назад, но то ли нервозность, то ли неторопливость удерживали его от кафедры. Беспокоился, сумеет ли донести свою мысль до слушателей, готовился загодя, делал выписки из книг по ораторскому мастерству и чистоте речи. Но нет, по-настоящему успешным преподавателем так и не стал; занимая эту должность в течение тридцати лет, умудрился прочесть всего двенадцать лекционных курсов. В тот, самый первый, раз курс состоял из шести лекций, которые он читал шесть понедельников подряд, по вечерам, сосредоточившись на таких темах, как “угловая перспектива” и “воздушная перспектива”. Более всего его заботили свойства тени и природа отражения. Сохранился рисунок двух шаров, наполненных водой, который он сделал специально для лекции, дабы проиллюстрировать свои выводы.

Рефлексы и отражения в двух прозрачных сферах, одна из которых наполовину заполнена водой. Этим рисунком Тёрнер иллюстрировал эффекты света на искривленных поверхностях
В последнем своем выступлении, однако, он отказался от разговора о перспективе, чтобы рассказать о ландшафтной живописи и архитектурном пейзаже, а завершил речь одой национальной гордости. Нация ждет от них, сказал он собравшимся, “дальнейшего развития избранной ими профессии… с надеждой уповая на то, что совместные усилия созвучных дарований в конечном счете направятся на достижение того, что с достохвальной окончательностью закрепит всеобщий Стандарт Искусств Британской империи”. Все эти многосложные слова, конечно, труднопроизносимы, но патриотический их посыл сомнений не оставляет.
Преподавание перспективы – дисциплины во многих отношениях трудной, суховатой и технически требовательной – осложнялось тем, что лектор из Тёрнера получился неважный. Речь его была сбивчива, что, впрочем, несколько восполнялось рисунками, которыми он сопровождал свои тезисы. Один из слушателей вспоминал, что “половина каждой лекции адресовалась служителю, который находился у него за спиной, постоянно занятый тем, что выбирал, согласно указаниям вполголоса, из огромной папки с рисунками и диаграммами, иллюстрацию к уроку; многие из них были воистину превосходны и доводили до глаз то, что речь не доносила до уха”.
Библиотекарь Королевской академии живописи, который неизменно при этом присутствовал, заметил, что “на лекциях Тёрнера есть на что посмотреть, – и я в восторге смотрю, пусть и не могу его слышать”.
Художник Уильям Фритт [31]31
Фритт Уильям Пауэлл (1819–1909) – английский портретист и, по мнению современников, “величайший бытописатель со времен Хогарта”.
[Закрыть], правда, оставил нам описание того, как Тёрнер говорил: “запинки, долгие паузы, озадаченный вид – все шло в ход при нужде сформулировать мысль, подходящую к случаю”. Он, мало того, еще и записал подлинную речь Тёрнера: “Джентльмены, я вижу тут… (пауза и очередной взгляд по сторонам) новые лица за этим столом… итак… вы… кто-нибудь из вас тут… я имею в виду… римскую историю… (пауза). Несомненно… по крайней мере, я надеюсь, что это так, вам знакома… нет, незнакома… то есть… конечно, почему ж нет?..”
У него был низкий голос и неистребимый выговор кокни – лондонского простонародья, хорошим тоном считавшего порой проглатывать “h”. Один из журналистов сетовал на “вульгарность его произношения”, ссылаясь, например, на то, что он говорил “митематика” вместо “математика”. А Рёскин приводит разговор с Тёрнером, в котором тот обронил фразу “Ain’t they worth more?”. Эта, в общем, стандартная лондонская манера вряд ли тянула на изречения диккенсовского Сэма Уэллера [32]32
Сэм Уэллер – герой романа Ч. Диккенса “Посмертные записки Пиквикского клуба”, слуга мистера Пиквика.
[Закрыть], однако же основания для снисходительного похлопывания по плечу давала. Для тех, кто сам не гений, было довольно того, что Тёрнер “не джентльмен”.
Суть дела тут, разумеется, в том, что, подобно Уильяму Блейку и Уильяму Хогарту – двум художникам, которых он своей жизненной позицией и поведением так сильно напоминает, – Тёрнер был гений по преимуществу лондонский, “визионер-кокни”. Никогда он не мог покинуть надолго свой, как сам его называл, “магнитный Лондон”, имея в виду серый камень, магнитный железняк, из которого строили лондонские дома и который буквально притягивал его к себе. Тёрнер любил толпу, дым и огни, копоть, пыль и навозные кучи. Время от времени прорывающаяся театральность его искусства также выдает его лондонское происхождение. В работе его интересовали не столько отдельные личности – поговаривали, что многие персонажи, населяющие его полотна, более всего похожи на персонажей ярмарочного балагана, Панча и Джуди, – сколько в них движение масс света и цвета.
Современники часто критиковали “грубую” театральность его картин, тем самым, по существу, всего лишь отмечая его любовь к трансцендентной, превышающей человеческое понимание зрелищности. Тут уже говорилось о том, что в начале своей карьеры он писал декорации для театра “Пантеон”, и, подобно многим лондонским художникам, питал страсть к эффектным состояниям природы, которые на сцене весьма уместны. Один из современников, увидев его картину “Дидона при основании Карфагена, или Расцвет Карфагенской империи”, заметил, что чувствует себя так, словно стоит перед великолепным театральным занавесом, который в конце действия опускается на сцену. Тёрнер и впрямь имел склонность к пожарам и кораблекрушениям, а в девятнадцатом веке подобные сюжеты были шаблонным материалом для балетов и мелодрам. Огонь он любил во всех его настроениях и состояниях. Тёрнер напоминает, вообще говоря, того “огнепоклонника” из диккенсовской “Лавки древностей”, который любил сидеть перед топкой на фабрике и всё шептал: “Это моя память, этот огонь, он показывает мне всю мою жизнь”.
В самом деле, давно отмечено, что живопись Тёрнера преобразила театральные декорации викторианского времени. “Декорация нынче становится достопримечательностью, поводом пойти в театр… – писал один критик в 1848 году. – Этой переменой мы обязаны Тёрнеру”. И нет никаких причин полагать, что художник отрекся бы от этой чести. Он сам как-то заявил, что поводом для его знаменитого полотна “Улисс насмехается над Полифемом” послужил вовсе не Гомер, а песенка в пантомиме под названием “Мелодрама Мэд”:
Пою я про пещеру Полифема.
Бедняге выпал в жизни трудный час:
Улисс сначала съел его барашка,
А после палкой выбил ему глаз.
Кто знает, возможно, Тёрнер шутил, однако эта его отсылка на песенку с балаганных подмостков говорит сама за себя.
Как истый лондонец, по духу он был бунтарь и раскольник. В воздухе витал эгалитаризм, горожане ратовали за равноправие, это не могло его не коснуться; хотя многие покровители Тёрнера были аристократы, он сохранял стойкую независимость взглядов и поведения. Круг его общения – печатники и граверы, народ просвещенный и известный в Лондоне своим радикальным настроем. Особое почтение испытывал Тёрнер к Джону Уиклифу [33]33
УиклиФ Джон (1320–1384) – английский богослов, реформатор и предшественник протестантизма. Первый переводчик Библии на среднеанглийский язык.
[Закрыть]и Джорджу Фоксу [34]34
Фокс Джордж (1624–1691) – английский ремесленник из Северной Англии, основатель Религиозного общества друзей (квакеров).
[Закрыть], которые, один в четырнадцатом, другой в семнадцатом веке, бросили вызов устоявшимся обрядам государственной церкви. Есть некоторые основания полагать, что позже он сочувствовал грекам и венграм, сражавшимся за национальную независимость. Его близкий друг Уолтер Фокс, член парламента, твердо придерживался мнения, что необходимо “защитить народ от деспотизма королевской власти и угнетения со стороны аристократии”. Следовательно, мы имеем основания заключить, что Тёрнер был сторонником реформ.
Но здесь все-таки более важно то, что у него было свое, символическое видение мира, и мир этот полнился перекличками мифологем и духовными ассоциациями, сближениями идей. В современной ему культуре, где все больше преобладали факт и статистика, Тёрнера волновали эмблемы и аллегории. Если о религиозности говорить в том обыденном смысле, как она трактовалась в его время, человек он был абсолютно нерелигиозный, пренебрегал обрядами и церковными церемониями, однако вера у него была – совершенно иного рода. Сохранился апокриф, что на смертном одре он пробормотал: “Солнце – вот Бог”. Что ж, если это легенда, то весьма уместная и убедительная. Он обожествлял свет как силу, пронизывающую все вещи и наполняющую мир священным восторгом. У него было почти первобытное представление о небесах, которые при солнечном свете или при свете луны нависают над землей. Он склонялся перед божествами космического порядка.
В своем письменном наследии он тоже сугубый лондонец. В семейной переписке скачет с темы на тему, выказывая свойственную горожанам непоседливость и синтаксическую разнузданность. Поразительно эклектичный ум: подхватывает слова и образы, тут же соединяя их в новые и неожиданные комбинации. Вынашивает несколько идей одновременно и порой забывает расставить их по местам, отделить одну от другой. Это относилось и к его лекциям тоже, в которых блестящие прозрения блуждали в непроходимой чащобе слов. Как сам он писал по другому случаю, “озеро лепечет не меньше, и ветер бормочет нет, также и рыбки скачут от радости, что их мучителя нет”.
Такой странный, вывихнутый стиль характерен и для его стихов, которыми он дополнял подписи к своим картинам. Подобно Блейку, в чьих пророческих книгах слова и образы существуют в экзальтированной связи, Тёрнер хотел выразить свою идею как можно полней. Подобно Блейку, в поэте он видел пророка. Его голос был глас вопиющего в пустыне, и, пусть втайне, у него было высокое представление о своем месте и призвании. Также подобно Блейку, он часто производил на людей впечатление безумца. И пусть поэтического гения Блейка он был лишен – это возмещается тем, что, по общему признанию, он великий художник.
Стихи он как начал писать в 1793 году, так никогда и не переставал. Сочинял очень быстро, где угодно и постоянно, записывая на полях книг и на обрывках бумаги; был у него также особый блокнот, выделенный для этой цели. Поэзия Тёрнера, когда она используется как дополнение к живописи, – сочна и шумна. Сохранившиеся стихи обладают определенной грубой магией и обнаруживают сферу интересов поэта. При этом ясно, что уж слишком они идут от ума и что за образец взяты дидактические и пасторальные вирши восемнадцатого века.
Особенно нравились ему “Времена года” Джеймса Томсона [35]35
Томсон Джеймс (1700–1748) – шотландский поэт и драматург, известный в первую очередь именно “Временами года”, а также тем, что является автором слов патриотической песни “Правь, Британия, морями”.
[Закрыть], цикл поэм, исполненных искренней любви к природе, но, увы, не выдержавший испытания тем, что Тёрнер назвал бы “косой времени”. Любопытно в любом случае, что избранный им образец для подражания, его главная литературная модель принадлежит жанру пейзажной лирики восемнадцатого века. То есть в живописи он рвался вперед, а в поэзии оглядывался назад. И все-таки стихи художника не вполне лишены достоинств:
… подзарядясь
Гневливым паром от секретных лежбищ,
Где спят веками руды и сырье,
Отколь азот, мышьяк и тлеющая пена
От сальной нефти, рвущейся на свет,
Изодранным в клоки покровом дыма
Марает небо.
Ему нравилось живописать битвы и катаклизмы, хаос и беспорядок. Эпическая поэма, которую он надеялся завершить, “Заблуждения Надежды”, также позволяет заглянуть во внутреннюю жизнь Тёрнера; само заглавие говорит об одиночестве и тревоге, и даже не без примеси отчаяния. Есть огромная разница, однако, между его поэзией и его живописью. Когда он писал пером, он думал; когда он писал кистью, думать нужды не было, или, верней, задействован был иной способ мышления – естественный, как дыхание самого его существа. Некоторые критики в оценке его литературного дарования были жестоки и нелицеприятны, однако нашелся друг, который смотрел на вещи благожелательней. “Мысли Тёрнера, – писал он, – были глубже тех, в которые способен проникнуть человек заурядный, и к тому ж значительно глубже, чем он сам способен был выразить”. Подобно тому как овеяны глубокой тайной его полотна, есть покров тайны – мы могли бы назвать ее смятением – и на его текстах.
Глава шестая 1811-1813
В 1811 году он энергично занимался продажей своих гравюр, “Liber Studiorum”, в собственной галерее. Рассорился с гравером, который их печатал, Чарльзом Тёрнером, и с типической для него экспансивностью решился печатать сам. Но потом летом вздумал расширить круг своей деятельности, а именно отправиться на запад Англии, написать там серию акварелей, перевести их в гравюры и издать книгу под названием “Живописные виды южного берега Англии”. Ему требовалось это состояние постоянной занятости, словно в непрестанной активности он находил разрядку и облегчение. К путешествию подготовился, как всегда, с присущей ему методичностью, вплоть до того, что переписал номера и даты выпуска тех банкнот, что взял с собой в путь. А по пути делал перечень всех мест, которые посетил, в том числе самых красивых уголков Дорсета, Девона, Корнуолла и Сомерсета. Путешествие охватило замки Корф-Касл и Лалворт, городок Лайм-Реджис и местечко Лэндс-Энд (“край земли” на юго-западе Англии), замок Тинтагель и залив Кловелли.
Оказавшись в окрестностях городка Барн-стейпл, он воспользовался случаем познакомиться со своей родней по отцу. Они, художник и западные Тёрнеры, наверное, поглядывали друг на друга, мало что имея сказать. Однако он, похоже, почувствовал некую родственную к ним близость, поскольку не раз впоследствии возвращался в Девон и даже однажды заметил другу: “Я, знаешь ли, девонский, из Барнстейпла”. Конечно, он родился не там, да и замечание его попросту могло быть неверно понято. Но кровные узы – великое дело. В Девоне, в котором, метафорически говоря, самое гулкое эхо в Англии, он мог, прислушавшись, услышать голоса предков, ощутить свою к ним причастность. Все путешествие длилось около двух месяцев, с результатом в две сотни карандашных набросков.
Так много времени он провел в западных графствах потому, что разлюбил Хаммерсмит. Водопроводная компания Миддлсекса воздвигла позади его дома трубу в сто двадцать футов высотой, так что шум работ и общая суета были нестерпимы. Конечно, Тёрнера завораживала трудовая, промышленная жизнь реки, но кому понравится, когда эта жизнь бушует у самой твоей двери. Вот он и затеял построить себе дом в местечке поспокойней, выше по течению Темзы, в Туикнеме. Кто знает, может, предвидел свой переезд туда еще в 1808 году, когда показал публике свой пейзаж “Вилла Поупа в Туикнеме” – виллу снесли за год до того, и Тёрнер таким образом косвенно выразил по этому поводу сожаление. Так что для него Туикнем был освящен тенью поэта.
Землю там он приобрел еще четыре года назад, но только теперь взялся чертить планы и набрасывать эскизы для своего нового дома. Сказывалась юношеская выучка тех лет, когда работал на знаменитого архитектора, так что схем и планов получилось в изобилии: там и рисунки комнат, и такие детали, как карнизы и каминные доски. Говорил же он когда-то, что хотел бы стать архитектором, вот, пожалуйста, чем не случай. Не счел за труд самолично нанимать строителей и рабочих, пометив, сколько потратил на благоустройство участка: “100 – растения. 20 – сад. 40 – пруд”.
В это же время Тёрнер занемог. Свою хворь называл “мальтийской чумой”, перечисляя такие симптомы, как “тошнота, бессилие, озноб, жар, жажда, головная боль. Бред, черные точки перед глазами, язва”. Непонятно, какую комбинацию этих неприятных явлений он испытал, однако известно, что, дабы избавиться от удушья, пришлось даже прибегнуть к курению наркотических трав. Ему было уже тридцать семь – не исключено, что болезнь он отнес на счет приближающейся старости.
В течение 1812 года дом был выстроен; нечто вроде виллы, это было скромное сооружение в два этажа, с небольшим буфетом и кухней в подвале. По центру, между столовой и библиотекой, разместилась залитая светом мастерская художника. Винтовая лестница вела на второй этаж, где было две спальни. В саду устроили пруд с лилиями, и Тёрнер высадил рядок ив, на которые любил смотреть. Помещения дома он украсил моделями кораблей в стеклянных витринах, задники которых сам расписал морскими пейзажами. Во многих отношениях это было идеальное место, где можно спрятаться от мира и всласть поработать.

Сэндикомб-лодж. Эту маленькую виллу Тёрнер спроектировал и обставил сам, выстроив ее на земельном участке, который приобрел в Туикнеме
Поначалу Тёрнер назвал свой дом “Солус-лодж”, “Одинокий приют”, возможно не без намека на окончательный разрыв с Сарой Денби. Но имя не прижилось, и дом переименовали в Сэндикомб-лодж. Как бы то ни было, Тёрнер принимал там гостей. Приезжали собратья-художники и собратья-академики, их угощали сыром с портером или печеньем с вином. Сэндикомб-лодж называли “кукольным домиком”, опрятным и без претензий; опрятность эта и простота характеризуют натуру Тёрнера. Один из его юных знакомцев вспоминал свой визит в Туикнем, где “всё было донельзя скромное, без притязаний… Скатерть едва покрывала стол, посуда простая и только из необходимого.
Помню, как Тёрнер однажды спросил: ”Папаша (так он называл отца), разве у тебя нету вина?” На что Тёрнер-старший принес бутылку смородиновой. Тёрнер же, понюхав ее, спросил: “Слушай, и о чем это ты думал?” Похоже, отец добавил туда многовато джину.
“Папаша” жизнью в Сэндикомб-лодж был доволен, причем с особым удовольствием ухаживал за садом. По вторникам он ходил на рынок в Брентфорд, откуда возвращался с недельным запасом провизии в синем платке, завязанном в узел. Весной и летом присматривал за галереей на Харли-стрит в Лондоне, когда там выставлялись картины, и зачастую добирался туда из Туикнема на своих двоих. Когда Констебль и Фарингтон заглянули однажды в галерею, старик рассказал им, что “этим утром пришел пешком из Туикнема, это одиннадцать миль; лет же ему 68. А на прошлой неделе за два дня сделал целых пятьдесят миль!”. Он мог бы воспользоваться пони своего сына, которого звали Кроп-Иа, “Рваное Ухо”, но по какой-то причине не делал этого. Может, потому, что животное считалось единоличным владением Тёрнера; верхом на Кроп-Иа он совершал выезды на этюды, и утверждал, что “тот карабкается по кручам, словно кот, и не знает устали”.
Когда животное сдохло, задохнувшись на собственной привязи, Тёрнер похоронил его в саду.
Папаша между тем нашел себе иной транспорт. “Оглядясь, – рассказывал он приятелю, – я наконец-то сыскал дешевый способ, как доехать из Туикнема, чтобы открыть галерею моего сына. Я нашел постоялый двор, где огородники, которые везут овощи на рынок, кормят своих лошадей, подружился с одним из них и теперь, за стакан джина в день, он усаживает меня в свою тележку поверх овощей”.
В благополучно перестроенной галерее на Харли-стрит Тёрнер выставил в 1812 году несколько картин по впечатлениям от поездки по западным графствам. Но это отнюдь не прямые изображения какого-то определенного места. Это изображения сияния и прозрачного пространства. На одной из картин, “Тинмут”, юная девушка пасет двух коров на морском берегу; она вскинула руки над головой, то ли указывая на что-то, то ли кого-то приветствуя, а над ней сияют необъятные небеса.
Однако главный труд этого года предназначался для академической выставки. “Снежная буря: переход Ганнибала через Альпы” отчасти, наверное, имеет источником книги по классической истории, которые читал Тёрнер, но, если смотреть шире, это сцена, имевшая огромное значение для явления, которое мы называем теперь романтическими фантазиями.

Любимый “папаша” Тёрнера. После того как его мать умерла в сумасшедшем доме, Тёрнер позвал отца разделить с ним кров. И до конца своих дней старик жил с сыном, служа ему экономом, садовником и подмастерьем. Этот набросок сделан во время лекции по перспективе, которую Тёрнер-сын прочёл 27 января 1812 года. Ниже – глаза Тёрнера
К примеру, оно было описано миссис Радклиф [36]36
Радклиф Анна (1764–1823) – английская писательница, одна из основательниц готического романа.
[Закрыть]в ее романе “Удольфские тайны”. Картина получила высокую оценку профессионального сообщества, критиков и художников, назвавших ее шедевром. Крэбб Робинсон [37]37
Робинсон Генри Крэбб (1775–1867) – английский юрист, оставшийся в истории именно своими дневниками, в которых запечатлена ежедневная жизнь Лондона.
[Закрыть]записал в своем дневнике, что “это самый изумительный пейзаж из всех, что я когда-либо видел… Я никогда этого не забуду”. Известный художник Джон Флаксмен [38]38
Флаксмен Джон (1755–1826) – английский художник, мастер графических иллюстраций, один из лидеров национального классицизма.
[Закрыть]проявил несколько меньше энтузиазма, назвав картину “лучшей работой на выставке”. Картина исполнена поразительной силы и энергии, мощный вал проносится через полотно, как будто краска одухотворенна, взволнованна и сама по себе лихорадочно распространяется по холсту. В этой оде величию природы атмосферные явления по своей мощи далеко превосходят динамику людей.