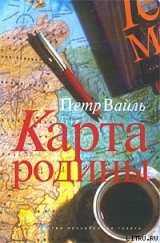
Текст книги "Карта родины"
Автор книги: Петр Вайль
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Вновь – параллель с 60-ми. Шестидесятники разрушили единомыслие, внеся в общество идею альтернативы, из которой выросли все перемены и все последующие поколения. Но при этом они сужали себя ради малых дел, полностью искажая иерархию культурных ценностей. Стоит перелистать новомировский дневник Лакшина, чтобы убедиться: Набоков ниже Яшина – потому что Яшин был рычагом в борьбе. Твардовский восхищается Кафкой и готов поставить его рядом с «Теркиным на том свете». И уж конечно Дюрренматт и Сартр «нич-ч-чего не понимают».
Мирового контекста нет. Все важное на земле происходит в пределах Садового кольца, разомкнуть которое – предать себя, разменять свою сбереженную в этом кольце духовность на некий приземленный прагматизм. Это напоминает эмигрантский комплекс: само пересечение границы возвышает. Тут – обратное: «За границу охотно едет тот, у кого здесь в душе пусто» (Твардовский).
Драма шестидесятников не в компромиссах, даже не в наивном, детском позитивизме, а в самоограничении, обернувшемся ограниченностью следующих поколений – изживать которую еще долго.
Все переменилось, открылись границы, перед Пушкиным встал «Макдональдс», выросло поколение прагматиков. Но как раз обратный ход маятника – изменение отношения России к Западу – показал, что глубинный принцип остался неколебим. «-Вот ответьте мне, Ольга: будете ли вы счастливее оттого, что завтра отремонтируют вашу квартиру? Ольга ответила честно: Нет. – Ну вот вам и решение всех вопросов, потому что голландец – будет» (В. Пьецух)
Декларативный патриотизм – всегда заклинание, незрелость, невзрослость. Комплекс исключительности, питаемый комплексом неполноценности, объясним, но исторически нелеп. Россия не центр мирового культурного пейзажа, а лишь его подробность. Подробность важная – и тем более важная, что в этой картине единого центра нет и быть не может. Доедаем любимые пирожные Людовика XIV. Сергей достает еще одну тетрадку. Змей-искуситель, он принес тогда в кузбасскую школу ослепительно яркую, производства «Скира», репродукцию Босха – левую часть райского триптиха из Прадо.
Сад
Однажды летом на зеленой поляне пасутся олени, свиньи в жаркую солнечную погоду. Им так было всем весело вместе. И все остальные животные. В самом низу находится не большой пруд-пролубь. В этой пролубе не сильно глубокой находятся рыбки. На зеленом лугу находятся дети в солнечную погоду. Адам и Ева ходят по миру зеленому босиком, фонтан состоит из пластмассового дерева. Он не сильно высокий. Фонтан стоит в центре зеленого луга на черном угле. Там в домике расположено не сильно большое дерево. И неподалеко от дерева все укрыто зеленью. В жаркую солнечную погоду на чисто голубом небе видны маленькие звездочки.
На поляне пасутся свиньи, слоны, жирафы и всякие звери. Посередь озера стоит фонтан. Вокруг фонтана плавают дикие утки. В центре рощи находится Господь Бог. Возле него находятся Адам и Ева. А возле них находится пролубь, там находятся летающие рыбы. Живут.
Это сочинение Сергей читает сам, вслух, хотя буквы крупные, ровные, красивые. Голос дрожит. У любого дрожал бы.
ЖИВОПИСЬ ЮГРЫ
– Вон там, видите, сигарообразный полосатый буй. Там самая точка. Ну да, Обь сливается с Иртышом. Где сигарообразный полосатый буй. Приготовили шампанское. По счету «три» открываем все разом у сигарообразного полосатого буя!
От ощущения простора цепенеешь. Смотреть особенно некуда, поблизости ни Нижнего Новгорода, ни Сент-Луиса, пусто и пусто, взгляд привольно блуждает по тихой светлой воде, по низкому левому берегу, чуть цепляясь за лесистые обрывы правого, но смотришь и смотришь – и наглядеться нельзя. Эта живопись поражает не яркостью, а неприглядностью. Внезапно становится понятно, почему охватывает такой тревожный восторг: здесь беспокойство удваивается. На перекрестке великих рек – морской масштаб, но все же – течение, берега, русло.
Море волнует непостижимостью, река – непредсказуемостью. Два главных вопроса: «Зачем?» и «Куда?»
Таинственно само существование моря – огромной массы бесполезного вещества, чьи пределы видны только на придуманной карте, чьи законы познаваемы лишь в заносчивом воображении, чье предназначение неведомо. Не для стихов же, не для Айвазовского, не для буйабесса, хотя я знаю местечко в Ницце, подальше от той площади популярных ресторанов, в стороне, у автовокзала – ничего вкуснее из морской рыбы не придумано, чем этот суп. Но для строчек, мазков, глотков с лихвой хватило бы прибрежной полоски, какой-нибудь трехмильной зоны. На кой они, белые-черные, красные-желтые, баренцевы-беринговы, норвежские-японские, великие-тихие, в таком количестве, таких объемов? Нет ответа на вопрос – зачем?
В реке – не столько тайна, сколько загадка. Разгадка доступна хотя бы теоретически, потому что река имеет начало и конец и можно пройти ее по всей длине, даже если это пять с половиной тысяч километров Оби с Иртышом, дело времени и охоты отправиться в путь. Река – дорога, архетип дороги, первая на земле дорога вообще. В том, что она идет очень редко напролом и почти всегда в обход, сказывается большой жизненный опыт. Здесь нет и быть не может больной темы «дорог, которые мы выбираем», здесь убедительный урок: не мы выбираем дороги, а дороги выбирают нас. Мы движемся не своей волей, а по их своевольному течению. Река постижима, но прихотлива и непредсказуема. Вопрос, хоть и имеющий ответ, неизменно тревожит – куда?
«Куда? – окликает старпом, – По палубе еще успеете погулять. Спускаемся в салон, все накрыто». Как же спокойно на душе: куда? – вниз по трапу; зачем? – спрашивать нелепо при виде стола, который хочется забрать в раму и держать перед собой. Но и съесть тоже – немедленно. Свежекопченая иртышская стерлядь с задранными птичьими носами, патанка – строганина из той же стерляди, малосольная нельма, строганина из муксуна, который представлен еще и в начинке круглого пирога полуметрового диаметра. Правильная уха, в которой осетровое благородство не затеняется ничем, лишь для легкой сладости и неброской красоты – чуть моркови, для крепости рыбы – чуть водки. Снова муксун – в виде шашлыка. Официант Фердинанд, как значится на его малиновой жилетке, объявляет: «Мясо Аннунсианто!» – и это звучит кощунственно на Иртыше. Уноси Аннунсианто, Фердинанд, небось не Австрия. Верно понимали без всякого Дарвина древние ханты и манси, что человек произошел от рыбы, есть наглядное доказательство: ногти – остатки чешуи. В их мифологии вообще много мудрости: у мужчины – пять душ, у женщины – четыре. Есть варианты: например, семь и шесть, но у женщины неизменно на одну душу меньше, вот знание жизни! И не у них ли подглядел своего медведя-молотобойца Платонов? Медведь – ханты-мансийский Прометей, культурный герой, давший народу огонь, оружие, ремесла. Чтобы медведь вернулся на небо, откуда был спущен на землю, его останки кладут на специальный помост – после того как убьют, освежуют и съедят. (Христианский аналог – жареный ангел?)
Помост показывают в музее под открытым небом на высокой горе в центре Ханты-Мансийска, вместе с домами, амбарами, избушкой-роддомом, в которую уходили рожать женщины ханты. Предлагают поделки с орнаментами поэтических названий: «заячьи уши», «оленьи рога», «ветви березы», «щучьи зубы», «след соболя» – поэзия превалирует, как в меню московских ресторанов: прочесть достаточно. А какая дорога ведет к чуму? Посетительница из числа участников какой-то конференции волнуется: где чум? Экскурсовод неохотно отвечает: «Чум на складе». Зря ехали за столько тыщ километров. Женщина расстраивается: «Думала, чум увижу. Меня начальник еле отпустил, говорит, куда ты едешь, где этот Ханты-Мансийск, кто эту дыру знает?» На груди женщины, как у всех из ее группы, табличка с именем: «Екатерина Поволяева, Кумертау». Экскурсовод тоже огорчен: «Правда-правда, сейчас на складе, вот чумработница подтвердит». Крохотная, с седыми косичками, чумработница подтверждает. Пока теплоход проходит полтора десятка километров до города, наступают сумерки, незнакомые, иной живописности: лиловое небо, розоватая тайга, белая вода. Из коридора слышен разговор официантов: «Год выдается мошковитый, я уж чувствую. – А ты местный? – Местный. – Пожизненно местный? – Ага».
Блаженство от вида, рыбы, пива «Сибирская корона». Улум ис – сонная душа – отделяется от тела и парит над рекой в виде глухарки. Приглушенно доносится: «А я в Ханты год как приехал, никак не привыкну, все-таки из Сургута. – Ну да, после Сургута в Хантах трудно».
В Ханты-Мансийске заработки чуть не самые высокие в стране, но за покупками и развлечениями едут в признанные центры – Сургут, Тюмень, Нефтеюганск. Вдоль идущей от телеграфа к речному порту главной улицы Гагарина – по-московски роскошные здания нефтяных и газовых фирм, Центр для одаренных детей Севера с галереями, мастерскими и зимним садом, суперсовременная телекомпания «Югра», направо по Спортивной – биатлонный центр международного класса. Все – вперемешку с избами и бараками. Первосортные дороги приподняты при переделке, так что окрестные дома в паводок заливает не по колено, как раньше, а по уши. Парк Победы изысканной монохромной живописи – сплошь березы. Рядом здание окружкома с розовым фасадом, перед ним – монументальный мраморный фонтан с глобусом. Удручающие деревенские развалюхи у речного порта в Самарове, откуда начинался город.
У церкви Покрова под 80-метровой Самаровской горой – обелиск в память кратковременного пребывания здесь светлейшего князя Меншикова в 1728 году: «В год 360-летия г. Ханты-Мансийска благодарные потомки. 1997». Тут все странно: город выходит на три столетия старше, чем на самом деле, и за что, спрашивается, благодарят светлейшего, которого Суриков придавил избяным потолком в полтысяче верст отсюда по прямой. Березово – тоже Югра: таково историческое имя ханты-мансийских земель. Уг – вода, Ра – народ, ханты и манси – обские угры, финно-угорские народы, по прежним именам – остяки и вогулы. Здесь много городов, заложенных при Петре и раньше, но Ханты-Мансийск, в ту пору Остяко-Вогульск, основали «посреди нигде» в 1931-м, а статус города он получил только в 50-м, несмотря на то, что уже был столицей территории размером с Францию. Да что толку, что Франция, если почти половина площади – болота. Когда подлетаешь на рассвете, в темноте только это и светится – пятачки болот и огоньки газовых факелов.
Другая половина Югры – леса. Та Сибирь, в которую едут. За которой едут. Которая встает в воображении и наяву и не уходит. Может быть, тайга и есть верный портрет страны. Кедр, сосна, ель, пихта, лиственница: лесные великаны-людоеды – менквы из ханты-мансийских легенд. Тайга и реки – все высокое, длинное, широкое, непроходимое, необъяснимое, неодолимое, родное. Многосерийное «Сказание о земле Сибирской». Большой стиль.
В толпе пришедших на нью-йоркскую выставку «Сталинский выбор» можно было безошибочно различить американцев и своих по выражению лица. У выходцев из России были лица людей, принявших вторую рюмку за обильно накрытым столом в хорошей компании.
Компания собралась недурная. Первоначальная идея выставки, принадлежащая Виталию Комару и Александру Меламиду, выглядела несколько скромнее: показать в Америке те картины, которые получали Сталинские премии. Потом замысел разросся, подключилась Третьяковская галерея, другие музеи, и десяток премиальных полотен превратился в сотню с лишним картин 1932 – 1956 годов. Лучшие имена: Герасимов, Бродский, Дейнека, Ефанов, Сварог, Шурпин, Решетников, Налбандян, Иогансон. Прославленные шедевры: «Сталин в ссылке, читающий письмо Ленина», «Утро нашей родины», «Ленин в Смольном», «За великий русский народ!», «Прибытие Сталина в Первую конную», «Ходоки у Ленина». Возникало диссидентское чувство прикосновения к запретному и долго недоступному, только вместо «Архипелаг; ГУЛАГ» – «Ворошилов и Горький в тире ЦДКА», не Иосиф Бродский – а Бродский Исаак. При настоящей свободе наряду с «Черным квадратом» доступно полотно «И. В. Сталин делает доклад по проекту Конституции на XIII внеочередном съезде Советов».
На этой картине, где Ворошилов, Молотов, Орджоникидзе, сидя за спиной выступающего Сталина, обмениваются добрыми радостными улыбками, заметно то же выражение лиц, что и у публики, пришедшей на выставку. Погружение в тепло и спокойствие. Конечно, это детство: уют, уверенность, красота.
Свое прошлое, наше прошлое. Никому больше не понятное, не нужное, не приобретенное ни одним музеем мира. Но в том зале, где были собраны работы художников мировых, оставаться не хотелось. Раздражал холст Кончаловского «Купание красных конников», в смелой постимпрессионистской манере, выдающей не просто большого мастера, но и культурного профессионала, знакомого с достижениями своей эпохи. Зачем эти грубые мазки после комфортабельной гладкописи всей экспозиции? Как же терпим был Хрущев, который на выставке в Манеже в 1963 году всего только накричал на Эрнста Неизвестного и его коллег. А ведь мог и бритвой по глазам. Каково было тем, кто вырос на одних передвижниках! Рассказывают, когда Хрущев увидел картину Фалька с зеленой женщиной, то возмутился: зачем натурщицу вымазали зеленой краской. Его простодушное воображение не проникало в те порочные закоулки сознания, где могла родиться мысль изобразить зеленым цветом обыкновенную розовую женщину.
На выставке «Сталинский выбор» даже розовых женщин не было. Соцреализм той поры не жаловал обнаженной натуры, словно опираясь на целомудренную чеховскую формулу «в человеке все должно быть прекрасно», где о теле ни слова, а одежда учтена. Одежда, компенсируя свое небогатое разнообразие, выписана тщательно и любовно. Живописные мундиры вождей можно было бы выставлять отдельно, но и женские платья хороши простонародной пестротой – как на моей любимой картине Ефанова и Савицкого «Конный переход жен начсостава».
Атмосферу непреходящего и неизбывного праздника создает эта суггестивная красота. При коллективистской установке на многофигурность на выставке в ста картинах представлены тысячи полторы лиц. И лишь одно из них – неприятное: на холсте Антонова «Разоблачение вредителя на заводе». Да и там отвратительная вредительская личина почти заслонена светлыми возмущенными лицами рабочих.
Так же трактовали врагов культовые фильмы эпохи. В «Светлом пути» сцена с вредителями проходит по касательной, так что ее почти не замечаешь – остается лишь факт доблести героя. В «Девушке с характером» работница дальневосточного зверосовхоза в исполнении красавицы Валентины Серовой ловит диверсанта походя, после чистки зубов и перед выходом на работу. Все так обыденно, что поимка и конвоирование кажутся завязкой какого-то комического эпизода, пока не появляются пограничники и не срывают с диверсанта зачем-то (из-за границы же пришел!) приклеенную бороду. На выставке «Сталинский выбор» понимаешь: слишком много чести врагам, чтобы уделять им время, место и душевные силы. Враг существует умозрительно, как постоянное напоминание, вторгаясь в любую, хоть бы и лирическую песню, и конечно, мы его ждем и превентивно «сурово брови мы насупим», но разглядывать его слишком пристально – чересчур. Это потом, на распаде цельного мировоззрения, возникли подробные и неоднозначные вражеские портреты, начали вышибать слезу белые офицеры и запутавшиеся резиденты. Но пока броня была крепка, враг оставался незаметен, как вошь на мундире.
Строился рай на земле, где должны помешаться архангелы, ангелы и праведники. Для других и места были другие. Та же Сибирь, невероятным своим объемом поглощающая и скрывающая все.
Обстановка красоты и праздника на выставке возникала не только от обилия парадных полотен. Они были лишь частью экспозиции, условно разделенной на несколько разделов.
Первый – официоз: портреты вроде канонического герасимовского «Ленина на трибуне», чуть приспущенных на землю «Сталина и Молотова в Кремле» Ефанова или пламенного «Кирова» работы Бродского.
Второй раздел – полуофициоз: вожди в быту. «Ленин и Горький на рыбалке на Капри», «Ленин на автопрогулке с детьми», «Сталин, Молотов и Ворошилов у постели больного Горького», или та же тройка, представляющая культурную мощь государства, слушает того же Горького, читающего свое сочинение «Девушка и смерть» (уникальная в мировой литературе вещь, которую никто не читал, но всем достоверно известно, что она посильнее «Фауста» Гете). Эта часть по исполнению наиболее официальная: видно, как художники опасливо приближались к самой идее расстегнуть верхнюю пуговку на рубахе вождя. Показательно нелепы Ленин с Горьким, забравшиеся в лодку итальянских рыбаков в жилетах и галстуках. Третий раздел малоинтересен – труд. Здесь соцреалисты предстают бледными тенями своих конструктивистских предшественников: машины у них неживые, а люди сливаются с машинами.
Самая увлекательная часть выставки – жанровые картины. Подлинные шедевры: «Колхозники приветствуют танк», «Репетиция оркестра», «Прибыл на каникулы», «Обсуждение двойки».
Комсомольский секретарь с молодым негодованием смотрит на двоечника, соученики – с болью и готовностью помочь, спокоен и уверен директор, мудро и добро усмехается старая учительница, на стене юный Ильич в Казанском университете.
Просветительский пафос – научим, наладим, заставим – в этих драматических полотнах. Конечно, соцреализм – лишь метод, а дарования индивидуальны, и Герасимова не спутаешь с Иогансоном. Парадные полотна восходят к имперскому классицизму наполеоновской эпохи, в конном портрете Жукова угадывается Веласкес, в «Красных командирах» Яковлева – Караваджо, жанр продолжает традиции отечественных передвижников. Но при всем многообразии картины писались одной рукой – рукой, не ведающей колебаний.
В чувстве несомненной правоты – неодолимая привлекательность. Соцреализм – не стиль, но – Большой стиль. И чем дискретнее мир, чем туманнее будущее, чем невнятнее прошлое, чем неопределеннее настоящее, чем безлюднее окружение, тем понятнее ностальгия по Большому стилю, в котором – прикосновение к материнской груди, тепло и забота, незамутненный душевный окоем, незагаженная перспектива жизни. Так и входишь на выставку «Сталинский выбор» в Нью-Йорке: из бесстилья и эклектики – туда, где Магнитка и война, метро и ВДНХ, балет и «Цирк», Бобров и Джульбарс, «Школьный вальс» и «Обсуждение двойки». Тайга и Сибирь.
Десятки лет не воевавшие британцы к концу XIX века произвели на свет целый выводок бескровных единоборств, личных и командных – бокс, теннис, футбол, регби; их заокеанские родственники – хоккей, баскетбол. Советская Россия сублимировалась в покорении пространств: Комсомольск, целина, Братск, БАМ. Военная лексика, справедливо и повсеместно любимая спортивными комментаторами, торжествовала в строительстве и сельском хозяйстве.
Поскольку на запад в мирное время идти было некуда, первенство держала Сибирь. Продолжались традиции новгородских путешествий в Югорскую землю (о чем упоминается в «Повести временных лет»), морского пути за мехами в Обскую губу и Мангазею, возведения острогов и городов, похода нанятого Строгановыми Ермака, наконец. Где-то неподалеку отсюда на диком бреге Иртыша сидел Ермак, объятый думой об оккупации. Меньше трех лет длилось его господство над Кучумом, от победы на иртышском мысе Подчуваш до того августовского дня 1585 года, когда Кучум взял реванш и раненый Ермак утонул в Вагае, как Чапаев, но дело было сделано. Потом-то оккупация шла относительно мирно, поскольку аборигены и поселенцы вели хозяйство по-разному, сферы не пересекались, конкуренции не было. Идеологических конкурентов легко подавили в советские 30-е, истребив шаманов, сказителей, музыкантов. Прошли мятежи, немного, самый крупный – Казымское восстание в 33-м, обошлось. Югра к тому времени давно была русской, не говоря про наши дни, когда хантов и манси насчитывается всего тысяч тридцать, вместе взятых.
Четыре столетия понадобилось, чтобы догадаться оставить их в покое, принять закон о родовых угодьях для охоты и рыбалки. Если там находят нефть, то покупают по бартеру: вариант индейского обмена – стройматериалы, снегоходы, лодки, снасти, телевизоры, видеомагнитофоны. У кого чум на складе, у кого – чум, нарты, сушеная рыба юрок, медвежья пляска мойлыр як, небесный старик Нуми-Торум, удобный, потому что он всё: холм, медведь, береза, христианский Бог, белый цвет. Белый свет. Под юрок, строганину и подвяленный над огнем позём из муксуна идет русская водка – неотъемлемая часть жизненного комплекта. Цивилизаторская миссия России без этой части была бы невозможна. На Кавказе водка натолкнулась на местное вино, но Средняя и особенно Северная Азия были покорены безусловно. По сути бутылка оказалась единственной точкой схода ни в чем не схожих укладов. Либералов конца XIX века как-то особенно огорчало, что аборигенов спаивали дрянью. Газета «Сибирский листок» рассказывала в 1893 году, как для угощения водка «припасается самого лучшего достоинства в том прямом и вполне верном расчете, что дикие гости по своей первобытной наивности склонны будут думать, что и продаваемая им водка будет такого же высокого качества». Жаль, конечно, остяков и вогулов, но себя жальче: «Солнцедара» не вынес бы никакой самоед. И ничего, вот даже грамоте не разучились. А. Дунин-Горкавич в книге «Тобольский Север» сообщает: «За маленького оленя дают две-три бутылки, за среднего – пять, а за большого – восемь бутылок». То есть всегда под рукой было чем заплатить за выпивку – опять-таки жалеть надо себя: где могли мы взять среднего оленя на той же примерно широте, но в сорока пяти градусах к западу?
Сибирские народы научились пить по-русски – что немало, не всем дано, это тоже Большой стиль. Водочные объемы вписались в таежные массивы, протекли иртышами по истории освоения Сибири. «По счету „три“ выпиваем все разом у сигарообразного полосатого буя!» Пьем на палубе купеческое шампанское у слияния Оби с Иртышом, старпом зовет вниз, к водке и стерляди, уходить не хочется, потому что не оторвать глаз от картин К.)1 ры Тайга громоздится готическими шпилями, как крыша Миланского собора. При чем тут Милан, какими тысячами измерить количество Миланов, которые может вместить Югра? Да никогда и не захочет вмещаться сюда Милан, разве что по этапу под конвоем Стиль и Большой стиль – две вещи несовместные.
Не снисходя к человеку, империя взмывает к человечеству. С птичьего (орлино-двуглавого, сталинско-соколиного, снова орлиного) полета не разглядеть на немереных просторах людскую мошкару, едва заметить затерянные под стрельчатыми сводами елей ниточки великих рек, текущих неведомо куда и зачем. Восторженный ужас, который внушает чужим и своим эта земля, так остро ощущается при виде того самого зеленого моря тайги, из песни. «Под крылом самолета о чем-то поет…». О чем бы?








