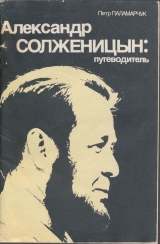
Текст книги "Александр Солженицын: Путеводитель"
Автор книги: Пётр Паламарчук
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
XI‑XII. УЗЕЛ I. АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО
(10–21 августа ст. ст.)
Первые главы «Августа», в том числе описание приезда полковника из Ставки в штаб Самсонова, были написаны ещё в 1937 году в Ростове–на–Дону. «В той первой стадии работы много глав отводилось Саше Ленартовичу (мобилизованный интеллигент, уходящий затем в революцию. – П. П.),но эти главы с годами отпали. Были также главы об экономии Щербаков (дед автора по матери), где уже тогда задевался вопрос о деятельности Столыпина и значении убийства его. Затем в работе над романом наступил перерыв до 1963 года (все заготовки сохранились через годы войны и тюрьмы), когда автор снова стал усиленно собирать материалы. В 1965 году определяется название «Красное Колесо», с 1967 года – принцип узлов… С марта 1969 года начинается непрерывная работа над «Красным Колесом»; сперва главы поздних узлов (1919–1920 годы, особенно тамбовские и ленинские главы)» (XII, 545).
Оконченная в полтора года (к октябрю 1970) первая редакция была впервые опубликована в 1971 году в Париже и затем переведена на основные мировые языки. Однако тем, кто именно её принимает за подлинный «Август», следует учитывать, что она представляет собою чуть более половины окончательного текста. «После высылки писателя в изгнание он углубил написанные ещё в СССР ленинские главы, в том числе и 22–ю из «Августа», намеренно не опубликованную при первом издании… Весной 1976 года писатель собрал в Гуверовском институте в Калифорнии обширные материалы об истории убийства Столыпина. Летом – осенью 1976 года в Вермонте были написаны все относящиеся к этому циклу главы (ныне 8–я и 60–73). В начале 1977 года написана глава «Этюд о монархе» (ныне 74–я…) – после чего узел первый окончательно стал двухтомным». Последняя его редакция «сделана уже в процессе набора, в 1981 году в Вермонте. Все заметные исторические лица, все крупные военачальники, упоминаемые революционеры, как и весь материал обзорных и царских глав, вся история убийства Столыпина Богровым, все детали военных действий, до судьбы каждого полка и многих батальонов, – подлинные. Отец автора выведен почти под собственным именем Исаакий Лаженицын. – П. П.),и семья матери доподлинно» (XII, 545–546).
Начало эпопеи, приходящееся на первые дни ещё «нераскачавшейся» войны, протяженно–медленное – сделано это, по позднейшему признанию автора, намеренно, ибо никогда уже более в XX столетии не досталось России такого покоя. Любопытен метод создания, а точнее воссоздания, применённый в этом первом в солженицынском творчестве произведении, время действия и события которого не имеют с авторской судьбой прямого пересечения. «Когда я начал над «Августом» работать, после всего, что я писал о лагерях, о современной советской жизни, о «раковом корпусе», об Архипелаге [6]6
Редакция фразы изменена по сравнению с текстом Собрания сочинений согласно поправкам автора, присланным составителю «Путеводителя»,
[Закрыть], – что увидеть гораздо легче, боевой опыт помог. А тут, действительно [7]7
Редакция фразы изменена по сравнению с текстом Собрания сочинений согласно поправкам автора, присланным составителю «Путеводителя»,
[Закрыть], разглядеть очень тяжело) робость брала много раз. Вот такое впечатление – как будто бы темно, и ты всматриваешься, вот всматриваешься… всматриваешься… вдруг рука становится видна, плечо, голова, – так постепенно–постепенно проступает что‑то из тумана. Большое напряжение зрения художественного, вначале очень тяжело, просто руки опускаются, ну невозможно, кажется, взять эту задачу. А потом постепенно как‑то привык и стало легче, легче, легче, – и я их увидел! Да в общем, в русской эмигрантской печати много обсуждался мой «Август», и в основном военные люди, которые должны верней всего судить, – потому что большинство глав военные, – говорят: «схвачено верно, было так». Но задача, конечно, очень трудная, и она будет все время трудна. Когда пишется исторический роман через 50 лет спокойной жизни (как, например, «Война и мир» писался), то многое–многое в быту осталось – людские обычаи, представления, среда… Но когда пишется роман через 50 лет советской жизни, когда сотряслось все, перевернулась Россия, новая вселенная создалась, как в Советском Союзе, – очень тяжело. Ну не так трудно, как о Карфагене, но, в общем, это задача очень тяжёлая» (X, 491).
В зачинных главах эпопеи Саня Лаженицын, студент, прежде бывший толстовцем и даже ездивший на поклон в Ясную Поляну, где имел беседу с гуляющим «великим старцем» (подлинное происшествие из жизни отца писателя), принимает необычное для тогдашней левонастроенной молодёжи решение идти добровольцем на фронт. Прощаясь с Москвою, он вдвоём с приятелем встречает на улице знакомого книгочея из Румянцевской библиотеки Варсонофьева, которого зовёт про себя Звездочётом, – и между ними происходит историософическая беседа, во многом задающая тон всей книге. Саня признается, что от толстовства оттолкнула его… телега: «Это, знаете, какой‑то грамотный крестьянин послал Толстому письмо. Что, мол, государство наше – перекувырнутая телега, а такую телегу очень трудно, неудобно тянуть, так – доколе рабочему народу её тянуть? не пора ли её на колеса поставить? И Толстой отве–тил: на колеса поставите – и сразу в неё переворачиватели же и налезут, и заставят себя везти, и легче вам не станет. Ну, что ж тогда делать?.. А вот, мол, что: бросайте вы к шутам эту телегу, не заботьтесь о ней вовсе! А – распрягайтесь и идите каждый сам по себе, свободно. И будет всем легко… – И вот этого толстовского совета я, как тоже крестьянин, принять решительно не могу. В хозяйстве моего отца самую последнюю телегу я б ни за что так не бросил, непременно б её на колеса поставил. И вытянул бы хоть без волов, без лошадей, на себе… А если телега эта означает русское государство – как же такую телегу можно бросить перепрокинутой? Получается: спасай каждый сам себя? Уйти – легче всего. Гораздо трудней– поставить на колеса. И покатить. И сброду пришатному – не дать налезть в кузов. Толстовское решение—не ответственно. И даже, боюсь, по–моему… не честно» (XI, 403).
Вместо этого Саня приходит к неопределённому «народничеству», полагая, что, жертвуя собой «для народа», можно верней всего и свою душу спасти. – «А вдруг эта жертва – не та? – пытает его Звездочёт. – А скажите – у народа обязанности есть? Или только одни права? Сидит и ждёт, пока мы ему подадим счастье, потом вечные интересы? А что если он сам‑то не готов? Тогда ни сытость, ни просвещение, ни смена учреждений– не помогут?..
– Не готов – в отношении чего же? Нравственной высоты? Но тогда – кто ж?..
– А вот – кто ж?.. Это, может, до монголов было – нравственная высота, а мы как зачли, так и храним. А как стали народ чёртовой мешалкой мешать – хоть с Грозного считайте, хоть с Петра, хоть с Пугачёва – но до наших кабатчиков непременно, и Пятый год не упустите, – так что теперь на лике его незримом? что там в сокрытом сердце? Вот кельнер наш – довольно неприятная физиономия. А над нами – «Унион», кино, этот антихрист искусства, там тапёр играет в темноте – а что у него в душе? какая ещё харя высунется из этого «Униона»? И почему же надо все время для них жертвовать собой?
– Тапёр и кельнер… это не строго народ.
– А где же?.. До каких же пор непременно обязательно один мужик? Уж миллионы из него утекли – и где ж они?.. И нельзя ж интеллигенцию отдельно от народа считать.
– И интеллигенцию определить!
– И этого тоже никто не умеет. Например, духовные лица у нас никак не интеллигенция, да?.. И всякий, кто имеет ретроградныевзгляды, – тоже у нас не интеллигент, хоть будь он первый философ. Но уж студенты – непременно интеллигенты, даже двоечники, второгодники и по шпаргалкам кто…»
И Варсонофьев даёт молодёжи совет: «Вот почему, молясь на народ и для блага народа всем жертвуя, ах, не затопчите собственную душу: а вдруг из вас кому‑то и суждено что‑то расслышать в сокровенном порядке мира?» Дальше он заводит речь о смысле истории: «История растёт как дерево живое. И разум для неё топор, разумом вы её не вырастите. Или, если хотите, история – река, у неё свои законы течений, поворотов, завихрений. Но приходят умники и говорят, что она – загнивающий пруд и надо перепустить её в другую, лучшую яму, только правильно выбрать место, где канаву прокопать. Но реку, но струю прервать нельзя, её только на вершок разорви – уже нет струи. А нам предлагают рвать её на тысячу саженей. Связь поколений, учреждений, традиций, обычаев – это и есть связь струи…
– А где же законы струи искать?
– Законы лучшего человеческого строя могут лежать только в порядке мировых вещей. В замысле мироздания. И в назначении человека… Слово «строй» имеет применение ещё лучшее и первое – строй души. И для человека нет нич–чего дороже строя его души, даже благо через–будущих поколений…
– А на войну идти – правильно?..
– Должен сказать, что – да!.. Доказать не могу. Но чувствую. Когда трубит труба – мужчина должен быть мужчиной. Хотя бы – для самого себя. Это тоже неисповедимо. Зачем‑то надо, чтобы России не перешибли хребет. И для этого молодые люди должны идти на войну» (гл. 42).
Две основные темы собственно «Августа» – катастрофа в Восточной Пруссии и судьба Столыпина. Военные главы являют собою как бы продолжение толстовской традиции, только отображают они далеко от времён девятнадцатого столетия ушедшую «предельную» действительность века двадцатого. Например, вот такая жуткая параллель сцене купания «пушечного мяса» в «Войне и мире» – измученные переходом русские войска входят в оставленный противником, но не мирными жителями немецкий городок, и тут парикмахеры врага «запросто принимаются их брить и стричь, принимая в оплату царские деньги по курсу». Давно ли ловили цивильных сигнальщиков, военизированных велосипедистов, – а вот немецкая бритва мягко ходила по шее русского офицера. И кончилось двоение, как поворотом бинокленного винта приходя в свой правильный объём и вид: воюют мундиры, но было бы за пределом человечности воевать всем против всех. На большом доме была вывешена простыня с надписью по–русски: «Дом умалишённых. Просят не входить и не беспокоить больных», – не входили и не беспокоили. Немецкий военный санитар в форме отдавал честь русским офицерам. А заметив в проходящем офицере знание немецкого языка, останавливали его женщины и спорили: «На что вы надеетесь? Разве можете вы победить культурный народ?» Но приглашали выпить кофе с бутербродами» (X!, 286). Подобный же проблеск нравственной истины среди военного безумия – ставшая уже почти классической сцена встречи по воле случая русского полковника Воротынцева и немецкого генерала Франсуа, которые, любезно побеседовав, не нашли возможным стрелять друг другу ни в спину, ни в лицо (гл. 37).
Русская армия показана во всех своих ипостасях. Среди её генералов деятельный Нечволодов, совмещавший военную службу с работой историка, оказывается, к сожалению, скорее исключением; а вот бездеятельный Благовещенский, «проверяющий» на себе толстовскую теорию о том, что война идёт сама собой, – куда более часто попадающийся образ. Есть офицеры кадровые, прирождённые вояки – и сомневающиеся в «оправданности» защиты родины призванные студенты. Ближе всего крестьянскому сердцу Солженицына солдаты, и среди них замечательно выписан случайный ординарец Воротынцева Арсений Благодарев, которому, судя по всему, суждено пройти до конца эпопеи: в «Октябре» есть главы о его поездке домой в тамбовскую деревню и общении с будущими руководителями «антоновского» восстания 1921 года.
Вершина трагедии – поражение армии генерала Самсонова и его самоубийство; в том искренне потерявшемся русском человеке Солженицын неожиданно увидал подобие «генерала от литературы» своего времени. Вспоминая уход главного редактора из «Нового мира», он записывает: «Мне рассказали об этой сцене в тех днях, когда я готовился описывать прощание Самсонова с войсками – и сходство этих сцен, а сразу и сильное сходство характеров открылось мне! —тот же психологический и национальный тип, те же внутреннее величие, крупность, чистота – и практическая беспомощность, и непоспеванье за веком. Ещё и – аристократичность, естественная в Самсонове, противоречивая в Твардовском. Стал я себе объяснять Самсонова через Твардовского и наоборот – и лучше понял каждого из них» (Т, 303).
Главы о Столыпине имеют подзаголовок «Из узлов предыдущих», которые тут же и перечислены в виде лесенки, опускающейся из верхнего левого угла страницы в правый нижний, как бы отступая в даль времени: «Сентябрь 1911, Июнь 1907, Июль 1906, Октябрь 1905, Январь 1905, Осень 1904, Лето 1903, 1901, 1899». История государственной деятельности знаменитого председателя правительства переплетена здесь с дотошнейшим образом восстановленной и несмотря на обилие фактов запоем читающейся хроникой его убийства, впервые по подлинным документам изложенной писателем. Показывая метания сына киевского адвоката М. Богрова, осуществившего этот «теракт», Солженицын описывает и его пребывание среди революционеров, и работу одновременно тайным осведомителем охранки; эта двуликость проявилась и в резкой перемене дававшихся им на следствии показаний, так что сам автор не удерживается от восклицания: «Достоевский много душевных пропастей излазил, много фантазий выклубил, – а не все» (XII, 320).
В итоге своего расследования писатель приходит к выводу, что Богров не был участником заговора и действовал он единолично во имя своей идеи, которую мыслил примерно так: «Столыпин ничего не сделал прямо против евреев и даже провёл некоторые помягчения, но все это – не от сердца. Врага евреев надо уметь рассмотреть глубже, чем на поверхности. Он слишком назойливо, открыто, вызывающе выставляет русскиенациональные интересы, русскоепредставительство в Думе, русскоегосударство. Он строит не всеобще–свободную страну, но – национальную монархию. Так еврейское будущее в России зависит не от дружественной воли, столыпинское развитие не обещает расцвета евреям» (XII, 126).
Это соображение и подвигнуло Богрова на убийство; он сам признался – подлинный факт – перед казнью допущенному к нему раввину: «Передайте евреям, что я не желал причинить им зла. Наоборот, я боролся за благо и счастье еврейского народа». И это было – единственное несмененное изо всех его показаний» (XII, 320).
Последствия ранней гибели премьера кратко определены словами: «Всего два года прошло от смерти Столыпина, – почти вся российская публичность и печатность открыто насмехалась над его памятью и его нелепой затеей русского национального строительства. Выстрел Богрова оказался – бронебойный и навылет» (XII, 344).
Искреннее сочувствие столыпинскому делу, на наш взгляд, исказило обычно выверенную объективность писателя–историка в первой главе о Николае II (74–й, названной при первой отдельной публикации в «Вестнике РХД» № 124, 1978 – «Этюд о монархе»), Обстоятельное изложение и спокойная оценка расхождений, которые имел Столыпин не только с «левыми», но и с царём – сам признавая в конце жизни и собственную долю ошибок, – даны в 15–й главе замечательной, но, к сожалению, ещё малоизвестной исторической монографии С. С. Ольденбурга «Царствование императора Николая II» (Мюнхен, 1949 переизд.: Вашингтон, 1981).
«Царские» главы, в особенности начальные, у многих читателей «Красного Колеса» вызвали огорчение и несогласие. Пользуясь своим методом «вживания изнутри» в героя, писатель как бы не сделал различия и для лица, которое испокон века почиталось народным сознанием как воплощение души и воли нации. Если душа замутилась, а воля поражена – то это не вина, а беда олицетворяющего верховную власть человека. И единственное, что для него тогда остаётся, – это жертвенная гибель, которую он в конце концов и избрал сознательно, отказавшись за себя и семью покинуть Родину. С какой бы точки зрения ни смотреть на трагедию царской семьи – событие это все‑таки остаётся трагедией, далеко для соотечественников не безразличной. И глядя в её свете на 74–ю главу «Августа», нельзя не признать – вслед за автором, кстати, – что это не лишённое лихости и лёгкости творение есть действительно лишь «этюд».
Последний русский царь был человек чрезвычайно воспитанный, в чем ему не могли отказать даже такие заклятые враги, как С. Ю. Витте. Между тем писатель не избег соблазна иронически преподнести домашний дневник и переписку царя, чтобы читатель удивился, как тот в самые крайние государственные мгновения находит время для описания скромных семейных событий. Но крайне щепетильный к своему долгу Николай II никогда бы и не позволил себе поверять бумаге важные вопросы и тем более тайны управления. Ещё более горько читать в «Октябре» главы об Александре Федоровне, как‑никак в отличие от всех ненавидевших её «либеральных деятелей» положившей на алтарь своего второго отечества себя самое и пятерых любимых детей.
Однако здесь поправку вносит сам «материал повествования», что особенно заметно уже в «Марте Семнадцатого». На фоне преступно–праздной болтовни быстро лопающихся «освободительных вождей» стояние не за себя, а за страну царя превращает и ревниво–взыскательное отношение писателя к одному из своих главных героев в отношение уже ревниво–сочувственное. Тут чрезвычайно показательны главы, где с двух сторон увиден акт отречения Николая II, вырванный у него приехавшими из Петербурга Гучковым и Шульгиным при помощи заговорщика – командующего Западным фронтом генерала Рузского.
После долгой внутренней борьбы царь вручает им вместо составленного чужим умом текста свой собственный манифест об отречении; а перед тем Гучков, глядя на его спокойное лицо, глумливо–снисходительно советовал своему государю помолиться.
Затем Гучков присутствует на скромной пирушке у Рузского по поводу вырванной «победы» – и негодует в беседе с соратниками: «Одно, чем Александр Иванович не мог не поделиться, что уж слишком было въявь: «Но какой деревянный человек, господа! Такой акт! такой шаг! – видели вы в нем серьёзное волнение? Мне кажется, он даже не сознавал. Какое‑то роковое скольжение по поверхности всю жизнь. Отчего и все наши беды».
А оставленный всеми монарх, теперь уже бывший, один размышляет под иконой Спасителя, что «пошёл на все отказы, только не внести бы рознь в страну. Лишь спасена была бы Россия…» И, вспомнив поведение Гучкова, думает: «А ведь – подлый человек. Сегодня – ждал признаков унижения царя и хотел ими насладиться. И как дёрнул его наставнический снисходительный тон: помолитесь! От человека, который сам забыл, как молиться. А ещё – старообрядец… А император, все годы, сколько случаев имел ему отомстить – ведь не мстил же». И заносит в тот самый дневник, над которым долгие годы было принято трунить, вещее: «Кругом измена и трусость… и обман!» (XVI, 741–749).
…Сам же «Август» оканчивается заседанием в Ставке, где верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич отказывается согласиться с чрезвычайно резкой оценкой причин самсоновской катастрофы, данной лично Воротынцевым, и в итоге даже выставляет его вон – чтобы лучше восхититься приятным известием о взятии Львова. Последние же слова книги– произносимая «народным дедом» пословица: «НЕ НАМИ НЕПРАВДА СТАЛАСЬ, НЕ НАМИ И КОНЧИТСЯ».
XIII‑XIV. УЗЕЛ II. ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО (14 октября – 4 ноября)
«Временной отрезок «Октября Шестнадцатого», от середины октября до 4 ноября, беден историческими событиями (волнения на Выборгской стороне 17 октября, заседания Государственной думы с 1 ноября с известной речью Милюкова («Глупость или измена?», голословно обвинявшей правительство в сепаратных переговорах с Германией. – П.77.), ещё несколько эпизодов). Но он избран автором в качестве последнего перед революцией узла, как сгусток тяжёлой и малоподвижной атмосферы тех месяцев. Автор долго колебался, строить ли между «Августом Четырнадцатого» и «Октябрём Шестнадцатого» ещё один, промежуточный по войне, узел «Август Пятнадцатого», богатый событиями. От этого замысла он отказался, остатки же вошли в нынешний второй узел: обзорной по 1915 году главой 19' и другими ретроспективами двух лет войны, которые все теперь нашли место в «Октябре Шестнадцатого», как и ретроспективы всего кадетского движения (глава 7')».Узел начат в 1971 году, причём архивная работа по нему была необычайно тщательной: достаточно сказать, что Гренадерская бригада описана по сохранившейся в Центральном государственном военно–историческом архиве боевой и административной документации, полевым книжкам офицеров, приказам, спискам личного и даже конного состава; материалы по Каменской волости Тамбовского уезда и другим местам Тамбовской губернии собраны в тайных поездках туда 1965 и 1972 годов летом, и т. п. В 1975 году в Цюрихе перепроверены и расширены ленинские главы. Впоследствии велись доработка и уточнения, написаны три главы (64, 69 и 72) о царской семье. Узел получил окончательный вид при наборе в 1982–1983 годах (XIV, 589).
Он снабжён особым «Замечанием», в частности сообщающим: «Близкая история нашей страны так неизвестна или так искажённо учена, что ради молодых моих соотечественников я вынужден был во втором узле превзойти ожидаемую для литературного произведения долю исторического материала. Но передавая подлинные стенограммы заседаний, речи, письма, я решался обременить свою книгу и читателя тем многословием, даже пустословием, повторами, побочностями, рыхлостями, невыразительностями, которыми многие из тех речей изобилуют. Поэтому я разрешил себе выиграть действенность через сжатие всего текста, иногда и отдельных фраз, – без малейшего, однако, искажения их смысла. Все цитаты истинны, но не все дословны, концентрация действия есть требование искусства.
…Почти все исторические лица я вывожу под их собственными именами и со всеми точными подробностями их биографий. Это относится и к малоизвестным, но реальным лицам того времени – как легендарный возглавитель самоуправления восставших тамбовских крестьян Г. Н. Плужников…
Для фрагментарной главы «Из записных книжек Федора Ковынева» использованы спрессованные отрывки из опубликованных рассказов Ф. Крюкова и личный архив – его неопубликованные письма, дневники и письма к нему его бывшей орловской гимназистки Зинаиды Румницкой…
Но есть три лица – писатель Федор Дмитриевич Крюков (которого Солженицын вслед за своим знакомым, ныне покойным советским литературоведом, взявшим себе псевдоним «Д» в книге «Стремя Тихого Дона», считает наиболее вероятным автором протографа этого романа. – П. П.),инженер Пётр Акимович Пальчинский, генерал Александр Андреевич Свечин (первый погиб в гражданскую войну, последние два расстреляны…), при описании которых я нуждался в большей свободе угадываемых, предполагаемых личных деталей, некотором их (небольшом) перемещении, либо собранный материал не давал достаточно данных на последующие узлы, – и чтоб открыть себе нужный простор, я изменил двум из них фамилии, а последнему имя. Тем не менее большинство подробностей с ними исторично» (XIV, 587–588).
Наиболее захватывающи в «Октябре», как это ни странно, не «сочинённые», а обзорные главы, для отличия которых от прочих после порядкового номера ставится апостроф: 7’ «Кадетские истоки» с интереснейшей биографией полузабытого деятеля Дмитрия Шипова, 19' «Обш. ество, правительство и царь», 41' «Александр Гучков», 62' «Прогрессивный блок», 65' и 71' – «Государственная дума» 1 и 3–4 ноября. Здесь умение Солженицына делать суконный документ произведением искусства посредством смыслозого сжатия доходит до виртуозности, так что люди словно сами секут себя собственными словами. В особенности это касается обозрения громозвучной и пустозвонной работы Думы, историю которой писатель проследит в «Марте» до последнего заседания, подведя в конце такой итог: «Страшно не то, что на трибуну Думы во всякое время может вырваться любой демагог и лопотать любую чушь. Страшно то, что ни выкрика возмущения, ни ропота ниоткуда в думском зале – так ушиблены все и робеют перед левой стороной. Страшно то, что таким ничтожным лопотаньем заканчиваются 11 лет четырёх Государственных дум.
Это все – почти сплошь выписано мною из думских стенограмм последних недель русской монархии. Это все до такой степени лежит на поверхности, что одному удивляюсь: почему никто не показал прежде меня?
Эта Дума никогда более не соберётся.
И я сегодня, прочтя её стенограммы с ноября 1916 насквозь, а ранее многие, многие, так ощущаю: и не жаль» (XV, 157).
Столь же язвительно–разоблачающа и глава о «ресторанном перевороте» А. Гучкова (40–я). Здесь ещё вот что следует отметить: Гучков в «Октябре» (как впоследствии в «Марте» Милюков) заводят среди прочего речь о масонстве, истинная роль коего в революции ещё только начинает выплывать наружу. Милюков в нем действительно не участвовал, но отрекающийся в «Октябре» Гучков лжёт: не так давно уже упоминавшаяся выше Н. Н. Берберова по масонским архивам доказала его прямое участие в масонстве и направленном на свержение царя сговоре с командующими фронтами (не всеми – Цит. соч., с. 198–208).
Второй узел включает также очень насыщенные главы о вожаках петроградских рабочих – главе Рабочей группы при Военно–промышленном комитете Кузьме Гвоздеве (31–я) и руководителе большевиков в России Александре Шляпникове (63–я). Шляпников стал главным деятелем, когда партийные теоретики почти что все оказались в эмиграции, отрезанные войной от связей с Россией. После революции, «в двадцать первом году он возглавил рабочую оппозицию, которая доказывала, что коммунистическая верхушка изменила, предала рабочие интересы, попирает пролетариат, угнетает пролетариат и переродилась в бюрократию. Шляпников исчез и канул. Он был арестован потом, позже, а так как он держался стойко – расстрелян в тюрьме, и имя его может быть многим сегодня… даже неизвестно» (IX, 207). А меж тем «образ Ленина был бы больше понят, если бы показать Шляпникова по контрасту. Потому что Шляпников – это тот коммунист, который был истинный рабочий, всегда старался им быть, истинно связан с подпольем и рабочим классом, истинный деятель истории… Такое благоприятное обстоятельство. Он, будучи профессиональным революционером, сам не переставал быть прекрасным токарем и великолепным рабочим. Он гордился тем, что все время работал, как никто из вождей…» (X, 534–535).
В «Октябре» во всю силу появляется и сам Ленин, представленный в «Августе» одной лишь главой. Здесь ленинских глав целых семь: 37, 43, 44 и 47–50. Солженицын не раз утверждал: «Ленин – одна из центральных фигур моей эпопеи и центральная фигура нашей истории. О Ленине я думал просто с того момента, как задумал эпопею, вот уже 40 лет, я собирал о нем по кусочкам, по крохоткам все, решительно все (вспомним, что разговор о «принципе узлов» в «Круге» два заключённых вели именно с целью уразумения жизни Ленина. – П. П.).В ходе лет я постепенно его понимал, я составлял даже каталоги отдельных случаев его жизни по тому, какие черты характера из того вытекали. Все, что я о нем узнавал, читал в его книгах, в воспоминаниях. Я ещё специально каталогизировал, что вот эти события дают такую черту характера, те события – другую черту характера. Я не использую этого непосредственно в момент работы, но это все систематизируется в голове и складывается. Теперь, когда я счёл, что я уже созрел для того, чтобы Ленина писать, я пишу его конкретные годы, цюрихские, естественно ретроспективно туда же помещаются происшествия его партийной и личной жизни. Я не имею задачи никакой другой, кроме создать живого Ленина, какой он был, отказываясь от всех казённых ореолов и казённых легенд» (X, 521–522).
Писатель даже вступил со своим героем в определённый род отношений. Он вспоминает, что впервые решил приступить к ленинским главам в Рязани в 1969 году: «И ведь так сложилось – целый 69–й год меня в Рязани не было, а тут я как раз приехал: слякотный месяцок дома поработать, с помощью читальни– над острейшим персонажем моего романа. Как раз и портрет Персонажа утвердили (навеки) – на улице, прямо перед моим окном. И хорошо пошло! так хорошо; в ночь под 4 ноября проснулся, а мысли сами текут, скорей записывай, утром их не поймаешь. С утра навалился работать – с наслаждением, и чувствую: получается!! Наконец‑то! – ведь 33 года замыслу, треть столетия – и вот лишь когда… Но Персонаж мой драться умеет, никогда не дремал», – ибо в это самое утро Солженицына вызвали «исключать из Союза писателей», и затем сразу закрутились такие заботы, что работа застряла на годы.
На следующее утро: «Рассвело, раздернул занавеси – и с уличного щита мой затаённый Персонаж бойко, бодро глянул на меня из‑под кепочки. Да не писалось мне больше о нем, и в том была главная боль – от таких оторвали страниц! (С тех пор полтора года прошло – а все не вернусь. Персонаж мой за себя постоять сумел)» (Т, 279, 286).
Но на Западе Солженицын первым делом попадает именно в Цюрих, где протекла почти вся ленинская эмигрантская жизнь во время мировой войны. Дом Ленина на Шпигельгассе в Цюрихе писатель посетил на следующий же день по приезде. Написанные ранее главы подверглись «на натуре» коренной переработке.
Итог ей подвёл в нарочно об этих главах написанной критической статье Н. А. Струве: «Рассказ ведётся почти сплошь как бы от самого Ленина в виде внутреннего монолога, иногда переходящего в диалог через призму воспоминания… Авторская речь почти не слышна: она сливается с речью Ленина, воспроизводит её интонацию, особенности, характерные словечки… Автор выступает лишь на краткие мгновенья, чтобы не создавалось иллюзии полной субъективности, перебивает ленинский монолог несколькими объективными штрихами, фиксирующими наружность или обстановку. Благодаря этой единой тяге, единой тональности – накал языка достигает предела, ещё не виданного в книгах Солженицына. Такой стремительности, сжатости, выразительности, пожалуй, Солженицын ещё не достигал» (Струве Н. А. Солженицын о Ленине. ВРХД, 1975, № 116, с. 1).
В ленинском окружении Солженицын ещё выделяет феерическую фигуру, в своё время крайне широко известную в международной социал–демократии, но со сталинских лет почти что вычеркнутую из анналов резолюции. Это беседующий с Лениным в главах 47–50 Израиль Лазаревич Гельфанд, одесский уроженец, социалист и миллионер – второе потому, что, по меткому определению, даваемому в «Октябре» Лениным, у него «порывы гешефта» были «не планомерным программным, а почти биологическим действием» (XIV, с. 188). Он является подлинным создателем теории перманентной революции, лишь позаимствованной затем «приятельски» Троцким; с Троцким же Гельфанд, взявший партийный псевдоним «Парвус» (то есть по–латыни «малый» – под этим именем он выпустил множество различных брошюр) руководил за спиной взятого для представительности Носаря первым Петроградским Советом в 1905 году и написал известный его «Финансовый манифест». Разойдясь впоследствии с учеником, Парвус не порвал окончательно с Лениным – когда‑то они вместе основывали ещё «Искру». И вот он приезжает в Цюрих со сногсшибательным «Планом»…








