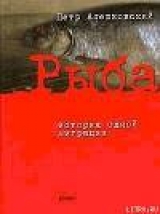
Текст книги "Рыба. История одной миграции"
Автор книги: Петр Алешковский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Петр Алешковский
Рыба. История одной миграции
Роман
Пришли воры, хозяев украли, а дом в окошки ушел.
Русская загадка
Часть первая
1
Папа с мамой мои были геологи. Их долго носило по стране, пока не
‹закинуло в Таджикистан, в город Пенджикент. Мы жили на русско-татарской улице имени Зои Космодемьянской. Улицу таджики не любили, и, как я теперь понимаю, правильно. Здесь пили запрещенный
Кораном портвейн, не копили денег, напрягая все жилы на громкоголосый туй-писар, праздник из главных – обрезание мальчика, когда кормили пловом несколько сотен обязательных по такому случаю гостей.
За три дня туй-писара сжигалось накопленное именно для этого праздника богатство. Так горит легкий хворост в печи. Пых-пых-пых, отшумел огонь под казанами, женщины утерли пот и принялись отмывать котлы от застывшего жира, впившегося в темный чугун, как весенний лед в скалы. Я видела такой лед на перевале Даштиурдакон, когда мы ходили в поход с пионервожатой.
Мама нанималась убираться на такие праздники: после гибели папы в горах нам всегда не хватало денег. За подработку на праздниках давали “приклад” – остатки пиршества. Мы с мамой ели плов целую неделю. Разжаренный на хлопковом масле рис я до сих пор не люблю: только подумаю, ощущаю изжогу. Таджики смотрели на советский геологический сброд нашей улицы, как на наметенный ветром песок, как на готовые сорваться в любую сторону клубки перекати-поля. Они терпели нас, как терпят ненастье. Русские платили таджикам ответной нелюбовью. Таджики казались нашим богачами и баями – у них была своя земля.
Сейчас я понимаю: никакого богатства не было. Богатые туй-писары, что справляли начальники, мы видеть не могли: за заборами-дувалами в старых кварталах текла жизнь совсем иного покроя. Часть ее выставлялась напоказ – пузатые мужики просиживали свой век в чайхане, налитые кайфом, как мускатные виноградины на солнце.
Таинственное пряталось в масляных глазах – суженные зрачки, как галька в текущем с ледника Зеравшане, держали холод, а чисто промытая кожа лица источала страшное сияние. Я, девочка, боялась этих лиц больше, чем висящих у пояса острых ножей-пичаков, которыми, рассказывали, чуть поправив лезвие на ремне, легко было брить головы, как завещал им их Мухаммед.
Мы, космодемьянские, всегда двигались, всегда размахивали руками, всегда что-то рьяно доказывали и, не стесняясь, прилюдно ругались.
Наши девчонки заплетали две косы, их – много-много. Мы играли в лапту, в волейбол, в штандер-стоп, а не в “ошички” бараньими косточками и не кричали, взвизгивая от восторга на весь школьный двор: “Конь!”, “Бык!” – в зависимости от того, на какую грань упал маленький отполированный астрагал. Мы были ласточки у обрыва реки, они – даже не орлы в небе, а те еле видные тени нагретого воздуха, дрожащие и полные тугой силы, что поддерживают орлиные крылья на высоте.
Космодемьянские потребляли любой алкоголь, но покуривали и план, от которого гоготали, и хихикали, и ползали на карачках, “козлили”, – словом, вели себя непристойно, выставляли напоказ срам, выгоняли наружу демонов души, кобенились и юродствовали. “Я! Я! Я!” толпы, запертое до поры, вываливалось на улицу, как требуха из вспоротого брюха, и корчилось, вытянув шею и расправив плечи, давило гопака, суматошно лупило ладонями по ляжкам, как лупит крыльями гусак, стремящийся обратить на себя внимание стаи. Плаксивые страдания гармони и низкие куплеты частушек – все свивалось в жгут, всегда в одном котле, одной артелью. Кончалось это безобразие безрассудной дракой, утверждающей поганое “я” или бросающей его на поругание, – получить по роже, дать в рожу казалось едино, синяк сиял потом медалью, выбитый зуб тянул на орден, пробитая голова лечилась портвейном и зарастала, как прививка на яблоне, припухлым и заскорузлым шрамом.
Толстые таджики, узбеки в шахристанских тюбетейках и приезжающие на базар памирцы – жилистые, нищие и гордые, даже дикие туркмены, прячущие своих красавиц-дочерей под паранджой, – никогда не дрались, не пили дурманящего вина, не раздирали время локтями, но исключали его. Они клали за щеку горстку насвая и преображались в груду спрессованной, высушенной солнцем пахсы – по-особому замешанной с кизяком земли, из которой строили себе дома, сараи, мечети, заборы-дувалы, стены и башни древнего Пенджикента. Пахса со временем рассыпалась в пыль, чтобы снова стать сырьем для нового замеса или уйти под землю, нарастить неприметный глазу культурный слой.
На древнем городище – главной достопримечательности нашего райцентра
– давно не жили, там работали археологи. Глубина их раскопов превышала иногда пять – шесть метров: большие сухие колодцы, уходящие в глубь земли, отрытые кетменем, тешой и мотыгой напластования ушедших в нее жизней, потомков которых я девочкой так пугалась, проходя мимо чайханы на улице Абулькасима Лахути за лепешкой или холодным молоком из магазина.
Позже, когда развалилась геологическая партия, когда запил и глупо погиб в глубоком шурфе отец, а мама перешла работать санитаркой в городской роддом, я узнала и полюбила тетю Гульсухор и тетю Лейлу, тетю Фатиму и дядю Даврона – нашего молодого доктора, дарившего мне домашние сладости. Я поняла, дурочка, что они – трудяги, и даже те, что сидят, как истуканы, в чайхане, тоже где-то и как-то зарабатывают на такую свою жизнь. Я, девочка с двумя тонкими косичками, русская с улицы Зои Космодемьянской, для них была пыль – и потому, что девочка, и потому, что с поганой улицы, где вечно дежурила по ночам милицейская машина. В ней сидели дядя Саид – за рулем, а Коля Первухин – сержант – рядом, на рации. Коля всегда курил папиросу и смотрел на плохо освещенную ночную улицу, как пес из конуры, готовый рвануть с пистолетом в руке на первую опасную тень, лишь бы успеть, настигнуть, повалить то зло, что мешает спать залетным, набившимся в двухэтажные бараки по обе стороны дороги, – так мухи набиваются под обои, чтобы переспать холода.
Я уже давно не живу на улице Зои Космодемьянской в Пенджикенте.
Двадцать семь лет не просыпаюсь от крика петуха и блеянья черной соседской козы, не наблюдаю в окно за сбившейся под фонарем страшной ночной собачьей стаей. Все реже и реже вспоминаю зелено-синий в предрассветной мгле Зеравшанский хребет и темную нитку реки под ним.
Горы уже к одиннадцати дня истаивают в жаркой жирной дымке, и остаются только тени – очертания, намек. Они проступят, мрачные и фиолетовые перед закатом, когда спадет дневная жара. Тогда мама придет домой со смены и достанет из хауса – неглубокого пруда в саду
– наш арбуз. Мы сядем ужинать, и я буду вгрызаться в холодную сахарную мякоть, а потом считать черные семечки на тарелке и хлопать себя от восторга по набитому пузу липкой от арбузного сока рукой.
Все это – и еще многое другое – я вспоминаю редко, но то и дело, кода я засыпаю, передо мною проходят чередой лица стариков и мужчин в чайхане, повернутые в сторону испарившихся гор, углубленные во что-то, что мне, девочке, ни понять, ни почувствовать было не дано,
– лица стоящих в канале рыбин, тяжелых серебряных толстолобиков: скулы сведены, губы чуть-чуть шевелятся, словно лениво повторяют молитву, а маленькие глаза, не мигая, глядят сквозь тебя – страшные и холодные, как уснувшая вода.
Наверное, это потому, что я теперь часто гляжу в лицо старушки
Лисичанской, с которой живу и за которой ухаживаю уже два с половиной года. У нее работает одна рука – левая, почти отсутствует речь, и узнает она только меня, но назвать по имени – Вера – не может. Она научилась повторять за мной. И то слава богу.
Утром я вхожу в комнату, смотрю на обращенное ко мне сухое лицо.
Если глаза блестят, говорю: “Доброе утро!” Рот открывается, по лицу пробегает тень – она морщит лоб, словно спешит задержать долетевшее до нее слово. Тоненьким детским голоском повторяет: “Утро”. Два слова выговорить ей сложно, но иногда она посылает вдогон повтор, получается: “Утро. Утро”. Это значит, и правда, выдалось доброе утро. Мы приступаем к процедурам. Она у меня совсем невесомая, как девочка, справляться с ней легко.
Если же взгляд остановившийся, как замороженный, и глаза мутные и пустые – здороваться бесполезно. Я сразу подхожу к кровати и начинаю менять ей памперс, мыть тело губкой, мазать пролежни облепиховым маслом, массировать спину, ноги, чтобы в них вернулись кровь и тепло.
Если глаза закрыты и рука лежит поверх одеяла, как плеть, это очень плохо – мы опять умираем. Давление у нее бывает и девяносто на шестьдесят, и двести двадцать на сто сорок, сосуды головы изношены до предела. Понятно, что ни о какой кормежке речь идти не может, в такие дни я пою ее, как младенца, из соски. Она рефлекторно шамкает губами, я и рада, что хоть сок выпила, а пробовала давать так кашу, смыкает губы – и ни в какую, что двери в метро, – до следующей остановки не откроются.
Даю ей из подушки кислород, и, если она начинает потеть, обмываю теплой губкой почти бездыханное тело – бабушка моя там, далеко, – остается только ждать и молиться. Так как молиться я по-правильному не умею, говорю скороговоркой: “Отче-Бог, помоги сегодня бабушке
Лисичанской, а мне как хочешь, – всегда после этих слов крещу свой лоб и добавляю, как однажды услышала: – Аминь Святого Духа!” Затем я кладу руку на ее лоб, горячую руку на ее холодную косточку, и держу, не отрывая. Мрамор статуи, наверное, и тот теплее. Очень по-разному, иногда только через полчаса я начинаю, наконец, ловить слабую пульсацию. Сжившись с ее ритмом, уже начинаю различать отчаяние, смертельную усталость, досаду, жалость, боль. С врачебной точки зрения там нечему болеть, но иногда боль забивает все остальное, и я слышу только ее – так стрекот цикад забивает шорохи ночи. Я давно не ищу объяснений, просто держу руку, наливающуюся свинцом, и, чтобы отвлечься, беру книгу и читаю про себя. Я научилась перелистывать страницы одной рукой. В такие минуты она все равно не слышит.
Бабушка упелената своими переживаниями, как капуста листьями. Они покрывают ее сердцевину, и, чтобы пробиться к ней, нужно освободить ее от всего наносного. Одна моя рука машинально перелистывает страницы книги, другая как бы освобождает, очищает что-то глубоко запрятанное. На поверхности, здесь, в комнате, ничего не происходит
– немая старушка, немая рука. Я читаю книгу. Но мы трудимся, идем навстречу друг другу – моя цель избавить ее, ее – избавиться.
Бывает, она лежит так несколько часов, а когда заснет – бог весть.
Постепенно уходят адская боль, немощь, обида, зло, недоверие, отчаяние, досада, страх, стеснительность, подозрительность, бесконечная печаль, и в какой-то момент меня вдруг пронизывает заряд, как от удара током, – и я отдергиваю руку. Рука теряет чувствительность, становится холодной, как лед. Бабушкин лоб потеплел, значит, все правильно. Бабушка заснула. Я иду в ванную и держу руку под струей горячей воды, рука постепенно отходит.
2
Спим мы ночью плохо. Если в неделю две или три ночи прошли спокойно
– это подарок. Время от бабушки отлетело и спуталось, как надранная клоками и неразобранная шерсть, еще не превратившаяся в войлок.
Ночью она смотрит в точку на потолке. Марк Григорьевич, ее сын, прислал хороший итальянский ночничок, свет от него теплый, апельсиновый. Он теряется вверху у потолка и в углах, но согревает кровать и мое кресло рядом и доходит до двери – на ней висит картинка с японской лошадью. Я люблю на нее смотреть – то ли скачет, то ли встала на дыбы. Она нарисована кистью снизу вверх. Местами тушь совсем черная, а по краям линии сереют, получается, что шерсть у животного легкая, гладко расчесанная, блестящая – видно, лошадку хорошо кормили. У нас в Пенджикенте были разные лошади и, конечно, много ишаков, но такую ухоженную и резвую лошадку я видела только один раз. На свою беду и видела. Лошадей, не в пример ишакам, я почему-то любила совершенно особой любовью, жалости и восхищения в ней было поровну. В груди расцветало теплое чувство, а глаза будто распахивались шире и тянулись к лошади. Даже еле бредущих с помойной бочкой кляч я провожала взглядом и не могла от них оторваться. С моей подругой Нинкой Сурковой в первом или во втором классе мы поспорили, что я не побоюсь и поцелую в лоб любую первую встреченную нами лошадь.
Спорили мы на шоколадку “Аленка”. Клялась я, по настоянию Нинки, жестоко, с поворотом на пятке вокруг себя, с прикладом руки ко лбу и сердцу и обещанием смерти своим близким, если клятву нарушу. Никогда больше так страшно я не клялась, и выходило, что целовать непременно придется, – денег на шоколадку у меня не было. Я не боялась, знала, что поцелую любую, а что порой они кусаются, старалась не думать.
Нинка, видно, знала, на что спорила. Она повела меня известным ей маршрутом, сделала так, будто играем и убегаем от кого-то задворками, через чужие сады, но нам доставался только лай сторожевых псов. Мы низко пригибались к мокрой утренней траве, обтирали телом стволы фруктовых деревьев, и слива и персик осыпали нас белыми и розовыми лепестками, а дикий терн царапал своими длинными, крепкими иглами. Стоял апрель, когда у нас все цветет и благоухает. Помню, в хаус соскользнула змея, наверное, полоз, но
Нинка завопила: “Гюрза!” – и мы, заразившись друг от друга безумием, припустили бегом. Склоненные к земле ветки сухих колючих кустов рассекали со свистом воздух за спиной, но, как ни странно, почти не царапали. Мы перелезали через оплывшие глиняные стены, как партизаны, чуть ли не ползком, преодолевали чужие участки и скоро оказались в старом городе, в таджикской его части.
В углу, у дувала, среди ветвистой алычи стоял сарай с дырявой крышей. Соломы на крыше почти не осталось, тонкие стропила торчали, как ребра у спаленного солнцем коровьего скелета. Нинка нырнула в осыпавшийся проем: когда-то там, наверное, была калитка. Я нырнула за ней в вонючий полумрак. Где-то недалеко сильно залаяла собака, но мы не обратили на нее внимания. В самом темном углу, на останках истлевшей соломы, стоял конь. В своем детстве он был красно-коричневой масти. Теперь он весь поседел, хвост свалялся и был утыкан репьями. Когда мы вошли, конь вздрогнул, посек воздух хвостом, прошелся им по задним ногам и замер. Хвост снова повис, только уши поднялись торчком и нацелились в нашу сторону, но конь не повернул головы. Было тихо, зло жужжали навозные мухи.
– Целуй! – приказала Нинка.
Я обошла коня слева, положила ладонь на худющую спину, провела по ней рукой. На шерсти проявилась дорожка. Конь был грязный, на руку налипли мелкие волоски и пыль. Вздрогнула шейная жила, в судороге дернулась левая задняя нога, глухо стукнуло о землю копыто. Я не отскочила, наоборот, похлопывая рукой по костлявой спине, продвинулась к шее, сильно, как скребком, несколько раз “почистила” шею ладонью. Так делали мужчины, успокаивающие своих лошадей.
Конь был взнуздан и привязан к яслям. Наконец повернулась голова.
Большой утомленный глаз смотрел на меня, чуть подрагивало веко. Из угла глаза по переносице тек гнойный ручей, из другого глаза сочился ручеек поменьше. Мухи, облепившие голову, поднялись злым роем, несколько навозниц запутались в моих волосах. Я не отдернула руки, не вскрикнула, но все мое тело вмиг застыло. Мне показалось, что на щеках проступил иней. Я взяла руками безвольную голову, притянула к себе и поцеловала, даже не зажмурив глаза. Затем вышла из сарая, подобрала какую-то консервную банку, зачерпнула из арыка воду. Нашла в арыке дырявую тряпку и, как могла, промыла коню морду. Он стоял весь деревянный, только слегка расходящиеся ноздри показывали, что он жив. Я терла и терла, стараясь не думать о запахе и липком гное.
Глядела только на темно-красную шерсть, преобразившуюся, заблестевшую под мокрой тряпкой. Наверное, я что-то скомандовала, потому что Нинка дважды бегала менять в банке воду, не помню.
Помню только, что вдруг в проеме сарая возникло пятно, заслонившее свет. Там стоял хозяин с тешой в руке – вооружился против конокрадов. Он что-то закричал по-таджикски. Я продолжала делать свое дело. Хозяин вдруг успокоился, присел на корточки. Закончив, я еще раз поцеловала равнодушного коня прямо в сухую ноздрю. Хозяин встал, подошел ко мне, обнял по-отечески и залопотал: “Спасиб, спасиб, хороший девочка, конь-пенсионер, Нурэддин давно пенсионер, жалко”.
Он повел нас к дому, на открытую терассу-айван, угостил чаем с айвовым вареньем и вкусной лепешкой. Старик жил один, жена у него умерла. Пиалушки были грязные, с отбитыми краями. Он цыкнул на собаку, проводил нас до калитки и долго махал рукой. Он сиял, как лампочка в темном чулане. Я шла по улице и не слышала, что говорит мне Нинка. Я украдкой щупала щеки – иней стаял, но во мне самой еще был холод, и было приятно, потому что стылая усталость проходила, а ее место заполнялось чем-то, что я и сегодня не могу описать словами.
Потом, работая в Душанбинской ЦКБ, я видела и обрабатывала много гнойных ран. Я делала свое дело, как делаю его и теперь у бабушки
Лисичанской. Два с половиной года назад, когда у нее случился инсульт, говорили, что жить ей неделю, от силы – две. Но бабуля оказалась сильной. Ей восемьдесят девять. В сорок четвертом тридцати лет от роду она вывезла двоих детей из блокадного Ленинграда, где начинала учиться в аспирантуре и, оказавшись защелкнутой в капкан, продержалась и выжила все девятьсот дней, а потом на перекладных добралась до Москвы. Дождалась мужа с фронта, пережила его арест и десятилетний лагерный срок. Писала Сталину с просьбой защитить от незаконных притязаний на жилплощадь алчного энкаведэшника, положившего глаз на третью комнату, отстояла квартиру, дождалась мужа из Воркуты. Она пестовала его еще десять лет – диабетика с ампутированной ногой. Дала детям высшее образование. Благословила
Марка Григорьевича – любимого старшего сына – на отъезд в Италию, куда он, выдающийся пианист, получил приглашение от друга-импрессарио. Сама осталась здесь, в окружении привычных книг, главой разросшегося семейного клана, которым властно руководила, пока хватало сил. Всю жизнь она отклоняла помощь. И теперь, в бессознательном состоянии, находясь между небом и землей, помутившись разумом, признавала из всех, кого любила и поставила на ноги, только меня – незнакомую и чужую.
Так рассказывал мне Марк Григорьевич. Из всей родни он один настоял на уходе за матерью, взял на себя все расходы. Он постоянно звонит и справляется о ее самочувствии, по первому требованию шлет деньги, не забывая приговаривать: “Верочка, только жене – ни слова”. Конечно, я молчу, как рыба.
Когда бабушка не умирает и не спит ночью, я сажусь в кресло и читаю вслух. Мне кажется, что она слушает с интересом. Мы уже прочитали
“Мертвые души”, Диккенса, Марка Твена, Жюля Верна, “Тысячу и одну ночь”, теперь я читаю ей “Смока Беллью” Джека Лондона. Мой Павлик любил эту книгу. Я ее тоже люблю, у нас когда-то все эти книги были
– я покупала для детей. А вот Валерка читать не любил – он, кажется, мастерил от рождения. Он и сейчас по этой части: чинит машины.
Умение его и кормит – его, его жену Светлану и девочку, мою внучку, что появилась на свет два месяца назад. Тогда я стала бабушкой.
Моя же бабушка слушает, иногда поднимает руку, сжимает и разжимает длинные, сухие пальцы – это значит, что ей хорошо. Потихоньку она засыпает. Тогда и я иду спать. Когда-то давно она была неплохой пианисткой.
3
Слушать музыку в детстве мне не доводилось – только то, что звучало на уроках пения или из радиоточки. Иногда на праздниках в ДК играл оркестр народных инструментов. Поначалу бывало приятно слушать, как в ночном воздухе возникает приторно-сладкий голос. Он словно и плачет и смеется одновременно, с силой выделяя непонятные слова, плетет вокруг тебя мелодию, как лоза винограда обвивает столб беседки. На лицах моих соучениц таджичек появлялось сомнамбулическое выражение, как у сусликов, замерших на солнцепеке столбиком у своей норки. Не стоит спрашивать, о чем песня, – ответ всегда будет один: на секунду вырванная из сладкого транса глупым вопросом подружка отмахнется и бросит тебе в лицо, презрительно скривив губы: “Ты все равно не поймешь, о любви поет!” Произнесенное слово магическим образом возвращает девушку в страну грез, на лице ее расплывается улыбка, которую у поэтов Востока принято сравнивать с цветущей розой. А голос все поет о не переводимой на русский язык любви, о розах и обязательной луне, которая здесь не как в северных широтах, где небом правят облака, висит в бездонном звездном океане и то ли смеется, то ли плачет над словами певца, превратившимися уже в монотонный речитатив. Слушать его внезапно становится невыносимо.
Речитатив липнет к телу, как сок перезрелого персика, хочется немедленно смыть его, промыть лицо и уши, прогнать надоедливого плаксу, попрошайничающего с эстрады, – правая рука на сердце, левая тянется вперед, словно ждет, что в нее насыпят гривенников и пятиалтынных.
Сейчас, начиная гладить, я иногда включаю телевизор, но слова несущихся оттуда песен словно переведены с таджикского. Я плюю на утюг, он фыркает, выражая наше с ним общее возмущение от замусоленных рифм и бездарной музыки. Я переключаю канал или глажу в полной тишине, что тоже замечательно: тяжесть утюга, теплый запах чистого пара, прямая, как стрела, линия складки и истаивающие морщины на простыне успокаивают меня.
Пресытившись восточным пением, я убегала подальше от ДК, забиралась на глиняную стену дувала напротив нашего дома и смотрела на Млечный путь, на мириады звезд, на застывшую луну, которой доверяла разные глупости.
Недалеко от нашей улицы, на окраине города, на Самаркандской дороге, в зелени большого сада, стоял музей. В нем хранились вещи, добытые археологами на раскопках: огромные глиняные бочки – хумы, медные котлы, на ручках которых, как на вершине скалы, стояли медные круторогие козлы, закопченные горшки и толстостенные глиняные сковороды, позеленевшие бронзовые украшения и такие же, лягушачьего цвета, копья и ножи, топоры, и долота, и глиняные формы, в которых их отливали.
Тем летом мы проходили археологическую практику. Наша школа так хорошо поработала, что специальным решением горкома партии в сентябре нас не послали на хлопок, а оставили помогать археологам.
Это было вдвойне хорошо, экспедиция платила какие-то деньги, и для нас с мамой они были подспорьем. Я очень гордилась, что в свои четырнадцать уже приношу в дом заработанную копейку. Но главное – там было интересно.
Начальник экспедиции Борис Донатович – ако Боря, как почтительно, на таджикский лад, его называли, – толстенький низенький человек, всегда ходил в старом залатанном ватнике и старой-престарой солдатской панаме (говорили, что она – его талисман). У него были маленькие глазки и странная привычка все время жевать щеки. Ако Боря собирал нас после работы на айване – открытой терассе главного дома экспедиции, поил чаем и рассказывал истории.
Он рассказывал про пророка Мухаммеда, как тот убегал от соплеменников в горы, впадал в транс, и в поэтическом припадке ему являлись суры Корана. Мухаммед был слаб телом, как сам Борис
Донатович, но силен духом и обладал даром слова, которое, считают мусульмане, может сдвигать горы.
Когда Борис Донатович говорил, он становился другим – мягким или твердым, сообразно тому, чего требовал от него рассказ. Энергия и сила исходили от него такие, что мороз по коже продирал, – становилось и радостно и неуютно одновременно. В наэлектризованной тишине был слышен его уверенный голос, точные слова ложились одно к одному, вызывая немое преклонение. Нарушить колдовскую музыку его слов было нельзя, даже сбегать пописать было стыдно.
Сказки “Тысячи и одной ночи” в Пенджикенте всегда любили. Мы даже разыгрывали некоторые сценки в школьном театре, заламывали руки, бросались на колени перед мальчиком, играющим падишаха, умоляли его сложно и красиво, такими словами никто из нас в жизни не говорил. Но только здесь раскрылась мне настоящая красота этих сказок. Борис
Донатович начинал рассказ, и под звездным небом на айване являлся нам отвратительный карлик-горбун. Он сидел на плечах
Синдбада-морехода, ехидничал, приказывал, помыкал им. Я вдруг начинала чувствовать его на своих плечах: вот он, давит на плечи, сжимает горло, и кажется, что выхода нет и таскать эту гадкую образину до скончания собственного века, как тяжелую болезнь, от которой не придумали вакцины. Или возникал перед глазами богатый восточный базар. По нему, не разбирая дороги, ехал на горячем иноходце Али – ближайший родственник пророка, щеголь и богач, заказавший у кузнеца не нужный для схватки, но красивый и загадочный на вид двулезвийный меч Зульфикар. После смерти Али молва приписала безделице, выкованной для городского кутилы, магические свойства.
Или появлялся на айване молодой и прекрасный Искандер Двурогий -
Александр Македонский и его полководцы. Воины от рождения, они прошагали полсвета непобедимой фалангой, но, столкнувшись с восточной негой и роскошью, быстро утратили боевой задор; околдованные магией золота и доступностью луноликих танцовщиц, они растратили чудесную силу, что была поначалу у нищих и алчных до богатства, никому до той поры неведомых македонцев.
Он рассказывал про Одиссея и про его странствия, про осаду Трои и про археологов, что через многие века после битвы раскопали ушедший в землю город. Он пересказывал сказки, изображенные на стенах домов древнего Пенджикента. Когда-то город стоял на Великом шелковом пути, сюда стекались товары и сказки со всего образованного мира, их приносили люди, говорившие на разных языках. Великая торговая артерия связывала мир, не было в нем четких границ, таможня не лютовала, а приветствовала путешествующих купцов, земля была плоской и бесконечной. Знания и прекрасные истории ценились на вес золота, путешествующие ценили жизнь, понимали, что любовь, свобода, удаль и предательство одинаковы во всех уголках Земли, как одинаковы стужа и жара, солнце, загадочная луна, песок и глина. Небесные светила под другим углом восходили на небосводе в разных краях вселенной, песок обладал иным окрасом, глина была более жирной или более сухой. В разных странах эти первородные элементы назывались своими словами, но сути это не меняло – из глины и песка строили дома, из глины и песка в начале мира Бог сотворил человека, вдохнул в него частицу себя самого, научил любить, страдать и ненавидеть, радоваться солнцу и воспевать луну. Люди были обречены на вечные скитания.
Передвижения были незаметны, когда миграции совершались тихо-мирно.
Когда с места снимались толпы, прокладывающие себе дорогу мечом и устилая путь трупами побежденных, эти события попадали в древние хроники. Мирная и спокойная жизнь в лучшем случае перерождается в сказки, историческая память фиксирует беды, лихолетья, ненастья, даты рождений – смертей правителей, под неусыпным приглядом которых тает и рассыпается в прах бесхитростная и счастливая жизнь. В уютно устроившемся между горами Пенджикенте население перемешивалось, как глина в чане у гончара, торговцы и жиревшие от их податей правители предпочитали покой, культуру и порядок. Теплое солнце дарило богатые урожаи, располагало к созерцанию, Путь приносил мировые новости и сказки, жизнь, если отрешиться от ежедневной рутины и невзгод, казалась рассказанной мечтой о жизни. В богатых домах, в прохладных комнатах, где хозяева обедали, стены расписывали поучительными историями, чтобы не скучно было есть, приблизительно так, как это делали в советских ресторанах.
Потом, когда я читала книги, вспоминала рассказы на айване, прохладный вечер, горячий чай со вкусной лепешкой и абрикосовым повидлом. Лейла и Меджнун, Ромео и Джульетта – все были против их любви, а они любили так сильно, что умерли друг за друга и их похоронили в одном склепе. У нас в экспедиции тоже были свои Лейла и
Меджнун, Ромео и Джульетта – все знали и делали вид, что ничего не замечают: шофер экспедиции ако Ахрор и Лидия Григорьевна – реставратор из Ленинграда.
Ако Ахрора я знала давно, он вез на кладбище гроб с телом моего отца. Мама потом позвала его на поминки, но он вежливо отказался.
Ахрор не пил водку, брил голову и держал рузу – длинный пост, когда нельзя вкушать пищу с раннего утра до появления первой звезды. В самые жаркие дни Ахрор, как настоящий рузадор, только ополаскивал рот и выплевывал воду, внутрь не должно было попасть ни капли.
У него была машина – грузовичок-полуторка, которую он холил и лелеял. Древняя машина, на капоте надпись: “Завод имени Молотова”, я слышала, как изумлялись мужчины, что грузовичок еще на ходу. Ахрор всегда отвечал, что другого у него в жизни не будет. Он постоянно проверял что-то в моторе, полировал тряпкой зеленое железо, потускневшее от времени, как топоры в музее, но еще крепкое, словно закаленное жить полную жизнь с его владельцем.
Ахрор был женат. Жену и его детей никто никогда не видел, они жили на другой стороне города. В экспедиции знали, что Мухиба, жена шофера, давно больна и с трудом передвигается по дому. Дети ей помогали, а отец зарабатывал – сезон проводил с археологами, а когда те уезжали, подряжался возить на базаре легкие грузы. Машину он никогда не насиловал.
Так же – бережно и навсегда – он полюбил и Лидию Григорьевну. Она работала в камералке, на базе. Изредка, когда нужно было закрепить или снять со стенки очередную фреску, она выезжала на раскоп. Иногда фрески находили осыпавшимися, и Лидия Григорьевна выкладывала кусочки на большие картонные лотки. Она чистила их от пыли обыкновенной клизмой, протирала какими-то растворами так, что к краскам возвращался цвет. Потом собирала композицию, как теперь дети собирают пазл, только картинки перед ее глазами не было, ей самой нужно было угадать, где должен лежать кусочек, чтобы потом, по прошествии месяцев, на лотке собрался склеенный и закрепленный древний рисунок.
Помню, как долго Лидия Григорьевна возилась с большой рыбиной, собирала ее словно по чешуйке. Ако Ахрор как всегда сидел чуть в стороне у окошка на своем табурете и молча, с умилением смотрел на ее длинные пальцы, перебирающие кусочки с красочным слоем. Я забегала в камералку поглядеть, как продвигается дело, тоже стояла молча, следила за работой. Однажды я смотрела на рисунок, наполовину собранный, – на столе уже лежали три плавника, два спинных и один поджаберный, и волны вокруг – такие смешные червячки, как рисуют дети. Я перевела взгляд на выложенные, но не подобранные кусочки и вдруг четко разглядела рыбий глаз и изгиб, похожий на изгиб жабры.








