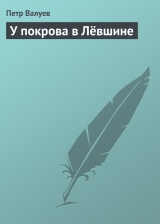
Текст книги "У покрова в Лёвшине"
Автор книги: Пётр Валуев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
– Я в вас никогда не сомневалась, – сказала Клотильда Петровна.
– Я на то и полагался, – продолжал Леонин, – и думаю, что вы понимали, почему я откладывал всякое до времени не необходимое объяснение. Я надеялся, что отец возвратится сюда на зиму, и тогда думал сказать ему о моих намерениях. Я надеялся на успех предпринимаемого им лечения и ласкал себя мыслью, что моя поездка с ним могла быть новым поводом к его расположению и снисхождению ко мне и облегчит окончательное с ним объяснение. С другой стороны, признаюсь, мне тяжело было решиться преждевременно услышать все то, что мне непременно придется услышать при таком объяснении. Болезненное состояние моего отца и неизбежная при таком состоянии раздражительность вообще затрудняют мне всякую, лично для меня относящуюся просьбу. Еще гораздо затруднительнее такое объяснение или такая просьба, которые для него совершенно неожиданны и должны произвести сильное, и притом, без сомнения, неприятное впечатление. Если бы до меня одного относилось то, что отразится в этом впечатлении и под его влиянием выскажется, то мне было бы относительно легко все выслушать. Но подумайте о том, что будет говориться о Вере! Против нее будут направлены и сомнения, и возражения, и отрицания, которые, собственно, должны были бы направиться против меня. Неизбежные оскорбительные отзывы о ее общественном положении и о ней самой – оскорбительные без намерения, быть может, даже весьма естественно вызываемые данными обстоятельствами, – но для меня, тем не менее, глубоко прискорбные и оскорбительные. Пренебрежение к среде и обстановке неизбежно отразится и в отзывах о лице. Мне это будет невыразимо тягостно. Я буду защищать Веру, буду говорить о ней правду; но разве моим словам, по крайней мере на первый раз, может быть придано значение правды? Вот что меня тяготило прежде и тяготит теперь. Но делать нечего. Высказаться нужно. Нужно даже по отношению к Вере и к ее отцу. С тех пор как решен вопрос о нашем отъезде, а время возвращения осталось неопределенным, – во всяком случае представляется далеким, – я был так взволнован, могу сказать, так терзаем печалью, что долго ни на что не решался и только думал о Вере и о том, как ее успокоить и уверить в неизменности моих чувств и непреклонности моих намерений. Вы это, конечно, заметили. Но решительная минута настала. Мы уезжаем в воскресенье вечером в деревню, а оттуда вернемся уже только для того, чтобы с одной железной дороги передвинуться на другую. Завтра я переговорю с отцом. Вечером буду у вас. Надеюсь застать у вас Веру. А там я уже попрошу вас переговорить с ее отцом. Мне с ним лично объясняться пока не приходится; но вы все можете высказать и все объяснить. Исполните ли вы это?
– Охотно и от всего сердца исполню, – сказала с чувством Клотильда Петровна, у которой раза два выступили на глазах слезы, пока она слушала Леонина. – Вы добрый, милый, благородный человек – извините, что я вам говорю это. Но вы знаете нашу немецкую пословицу: «Избыток сердца просится на уста». Вы по-русски говорите то же самое, но как-то иначе. Вы знаете, что в нас обоих вы имеете верных, преданных друзей; друзей, которые вас ценят, уважают, любят и вашу Веру любят как дочь. Всегда и во всем вы можете на нас рассчитывать и нами располагать.
– Благодарю вас, добрая Клотильда Петровна, – сказал Леонин, вставая. – Вполне надеюсь на вас. Если я уезжаю, и могу уехать наполовину успокоенным, скажу даже, полуутешенным, то потому только, что знаю, что вы будете Вере и помощью, и защитой. Ее отец к этому не в силах. Он себя ей приносит в жертву насколько может; я это знаю и уже успел своими глазами увидеть, но я знаю и то, что без вас он почти напрасно жертвовал бы своими трудами и домашним покоем. В вас и в вашем муже та семья Веры, которая ей служит прочной опорой. Вы увидите Веру прежде меня. Передайте ей то, что я вам говорил сегодня, и скажите, что завтра я сам ее увижу у вас.
– Я тотчас же пойду к ней, – отвечала Клотильда Петровна. – До свидания, Анатолий Васильевич. С вами и с нами Бог.
Леонин вышел. Клотильда Петровна проводила его до выхода на крыльцо и возвратясь в комнату, где из окна могла еще увидеть его удалявшиеся дрожки, уже застала в ней своего мужа.
– Что же? – спросил Карл Иванович. – Говорила ли ты с ним?
– Мне говорить было не нужно, – отвечала Клотильда Петровна. – Он сам обо всем заговорил и со мной объяснился. Он для того приехал. Он прекрасный, благороднейший молодой человек. Он завтра переговорит со своим отцом и завтра вечером будет у нас.
– Слава Богу! – сказал Карл Иванович. – У меня камень с сердца скатился. Но что же именно сказал он тебе?
– Все, что следовало, все, чего я могла ожидать. Но теперь некогда мне тебе это рассказывать. Позже расскажу подробно. Теперь мне нужно сейчас идти к Вере. – И Клотильда Петровна торопливо вышла из комнаты.
V
Василий Михайлович Леонин сидел за письменным столом, покрытым разного рода бумагами, письмами, счетами, памятными и записными книжками – одним словом, всем тем, что неизбежно загромождает письменные столы при сборах к отъезду вдаль и на долгое время. Василий Михайлович распределял в известном порядке одни бумаги, рвал и бросал другие, уничтожал почти все письма, но не уничтожал счетов, а делил их на две неравные кучки и складывал кучки рядом, на краю стола. Он несколько раз перебирал эти кучки, призадумывался, перекладывал счета из одной кучки в другую, изменял соответственно тому прежде сведенные на листе бумаги итоги; наконец, вынул из стола пачки денег, отсчитал сумму, которую положил на одну из кучек, а другую кучку с оставшимися деньгами положил в стол и запер. Потом он позвонил и спросил вошедшего камердинера, дома ли Анатолий Васильевич.
– Дома, – отвечал камердинер. – Они сегодня не выходили и не выезжали и только что присылали спросить, одни ли вы.
– Проси ко мне, – сказал Василий Михайлович, принимаясь за разбор оставшихся на столе немногих еще нераспределенных бумаг.
– Вы обо мне спрашивали, папа́? – сказал вскоре вошедший Анатолий Леонин.
– Да, мой друг, я кончил разбор моих бумаг. Вот несколько счетов, по которым прошу тебя распорядиться платежами. Кроме того, сделай одолжение, вложи в отдельные конверты рассортированные мною письма и бумаги, напиши на конвертах обозначенные мною карандашом надписи и все уложи в то большое бюро. Таким образом все здесь будет приведено в порядок, и мне останется только заняться последними приготовлениями к отъезду.
– Угодно ли вам, чтобы я этим сейчас занялся? – спросил Анатолий.
– Да, если тебе досужно.
Анатолий молча принялся за исполнение данного ему поручения.
Прошло несколько минут. Василий Михайлович покончил со своим разбором и взглянул на сына.
– Здоров ли ты, Анатолий? – спросил Василий Михайлович. – Твое лицо мне сегодня что-то не нравится. Семен сказал мне, что ты осведомлялся, один ли я. Ты, следовательно, хотел о чем-нибудь переговорить со мной.
Молодой Леонин, в свою очередь, внимательно посмотрел на отца. Потом он отложил в сторону бумаги, которые пересматривал, и тихим, но твердым голосом сказал:
– Да, папа́, мне нужно переговорить с вами, и на этот раз о самом себе.
Этот ответ и еще более выражение лица Анатолия и неподвижность взгляда, устремленного на Василия Михайловича, его видимо встревожили.
– О самом тебе? – повторил он. – Что же такое? Уж не затрудняешься ли ты ехать со мною?
– Нет, папа́. Я, конечно, поеду, и вы знаете, что мне для этого дан отпуск. Но до отъезда я обязан вам высказать то, о чем до сих пор мог умалчивать.
– Анатолий! – сказал Василий Михайлович с возрастающим беспокойством. – Что скрывал ты от меня? Что случилось?
– Ничего не случилось еще; но должно случиться. Я еду с вами; но мне тяжело уезжать, потому что я оставляю за собой все, чем, кроме вас, для меня дорога жизнь и что теперь составляет цель моей жизни.
Василий Михайлович побледнел, встал и, опираясь одной рукой на стол, другой на ручку кресел, прерывающимся голосом спросил:
– Неужели ты без моего ведома, без моего согласия наложил на себя узы, которых расторгнуть не можешь? Неужели я должен услышать что-нибудь о заключенном тобою тайном союзе?
Анатолий также встал в сильном волнении.
– Нет, папа́, – сказал он, – без вашего ведома и благословения я не мог заключить союза, о котором вы думаете; но я буду просить вашего благословения.
– Ты уже дал слово?
– Только самому себе; но я должен сдержать его.
– И ты не мог предупредить меня, не мог со мной объясниться ранее? Кажется, я имел право на твое доверие и даже заслужил его.
– Я молчал не по недостатку доверия. Прошу вас, папа́, выслушайте меня терпеливо и снисходительно. Вы тогда сами в этом убедитесь.
Василий Михайлович опустился в кресло и сдержанным голосом сказал:
– Говори, я слушаю.
Анатолий сел по другую сторону письменного стола, против Василия Михайловича.
– Вспомните, папа́, – сказал Анатолий, – наш разговор после заутрени на Пасху, когда вы упомянули о Веневских и меня удостоили такой дорогой для меня отцовской похвалы. Вы даже находили, что князь и княгиня могли бы вам позавидовать, а я отвечал, извиняя их сына, что обстоятельства часто могут и предохранить от ошибок и вовлекать в ошибки. Меня, быть может, предохранили от ошибок те именно обстоятельства, которые теперь привели к объяснению с вами. Когда я, по вашему желанию, оставил дипломатическую службу и переселился в Москву, я здесь почти никого не знал. Вам известно, что я вообще знакомлюсь не легко и еще менее легко подчиняюсь требовательным условиям так называемой светской жизни. Вы сами иногда критиковали, иногда хвалили, но более хвалили, чем критиковали, то, что вы называли моим домоседством и опережающими мой возраст привычками и наклонностями. Я, однако, не был затворником; я только предпочитал общение с людьми по доброй воле общению по принуждению. Случай привел меня к встрече, почти на другой день по приезде сюда, с тем университетским товарищем и другом, доктором Крафтом, с которым вы мне позволили вас познакомить и которому вы сами оказали благосклонное расположение. Вы знаете, что он также меня познакомил со своим почтенным семейством, что его отец и мать оказали мне с первого дня самое чистосердечное расположение и радушное доверие и что с тех пор я у них бывал и бываю так часто, что сам почти стал членом этого семейства. Там я встретился с молодой девушкой, на которой мое внимание сначала не останавливалось, но остановилось впоследствии, когда я заметил, что по образованию, складу ума, уровню понятий и мыслей и даже по приемам и привычкам она была выше той среды, к которой она, собственно, принадлежит…
– Кто она? – спросил Василий Михайлович.
– Дочь скромного, но почтенного чиновника Снегина, вам, кажется, несколько известного, – Вера Снегина. Она в доме Крафтов своя, потому что ее покойная мать была очень дружна с г-жою Крафт. Она даже многим обязана Крафтам, по части своего образования. Случайное обстоятельство и здесь имело особое влияние. Я заметил, что молодая девушка вполне обладала немецким языком, но менее владела французским, и как-то вызвался быть ее практическим наставником или репетитором по этой части. Мы стали вдвоем всегда говорить на французском языке. Это как-то сближало нас. Мы привыкали друг к другу; но я сам долго не давал себе отчета в свойстве и последствиях этих сближения и привычки. Только в прошлую весну, когда мы уезжали в деревню, для меня выяснилось, до какой степени нам обоим стало трудно расставаться. Когда мы к осени возвратились в город, я убедился, что взял себе ее сердце, – и когда я в этом убедился, то окончательно отдал и мое, в обмен.
– Можешь ли быть уверенным в том, что отдал окончательно и бесповоротно?
– Я успел в этом увериться, папа́, потому что с той поры началась во мне внутренняя борьба между ею и вами, то есть боязнью вас огорчить. Я медлил с признанием вам, потому что сам себя вопрошал и испытывал, зная, что признание должно было произвести на вас тяжелое впечатление. Я думал, что во всяком случае время мне поможет и что, продолжая исполнять мой долг перед вами, я между тем успею несколько более заслужить ваше снисхождение. Быть может, я и теперь медлил бы, если бы вы не решились на продолжительную заграничную поездку. Я вам сказал, что мне уезжать трудно; но мне было бы еще труднее уехать, если бы я не высказался и на все время нашего отсутствия оставил у себя на сердце тайну, которая была бы постоянной рознью между вами и мной…
Лицо Василия Михайловича становилось более и более мрачным; но оно выражало огорчение и озабоченность, а не гнев. Василий Михайлович опустил глаза и неподвижно слушал сына. Молодой Леонин, напротив того, не сводил глаз с отца, внимательно следил за отражавшимися в его чертах впечатлениями и по мере продолжения своей исповеди говорил с возраставшим оживлением. Когда он упомянул о нежелании оставить у себя на сердце рознь между ним и отцом, Василий Михайлович взглянул на него и отрывисто сказал:
– Ты хорошо сделал.
– Благодарю вас, папа́, за ободрительное слово, – продолжал Анатолий. – Оно мне было нужно. Верьте, что все, что вы мне могли бы сказать против моих намерений, мною самим было сто раз себе говорено. Ваше неудовольствие, разрушение ожиданий и желаний, которые вы могли иметь, обманчивость веры в прочность моих чувств, возможность их перемены, возможность поздних и тщетных сожалений, неравенство общественного положения, бремя родни – хотя, к счастью, в данном случае такой родни почти нет – все это мною постоянно сознавалось. Я даже не забывал и неудобства бедности моей будущей невесты; но ведь у нас есть достаток…
– Что же будет, – вдруг сказал Василий Михайлович, взглянув сыну прямо в глаза, – если ты узнаешь, что у нас нет достатка?
Сосредоточенное волнение виделось на лице Василия Михайловича; дрожь была заметна в устах; судорожное движение правой руки надломило карандаш, который он в ней держал. Молодой Леонин побледнел и с изумлением смотрел на отца. Несколько мгновений оба молчали.
– Признание за признание, Анатолий, исповедь за исповедь, – сказал Василий Михайлович глухим голосом. – Если ты не без вины передо мною, то и я перед тобою виноват. Я разорил себя и тебя. Я расточил имение твоей матери, которое был обязан для тебя сохранить. Я слыву, быть может, богатым. На деле другое… Ты знаешь, я прежде играл… Позже я старался поправить состояние, освободиться от обременявших меня долгов. Я входил в спекуляции; но мне не повезло… Впрочем, как и что – для тебя безразлично. Небезразлично только то, что теперь на одной нитке висит вопрос: иметь ли нам достаток или нет? Если нитка оборвется, у нас ничего не останется, кроме нашей, или, собственно, твоей подмосковной, потому что она твоей матерью тебе завещана…
Василий Михайлович отпер ящик, куда он положил другую кучку разобранных им счетов, взял эти счета, бросил их на стол и продолжал:
– Я тебе передал эти счета для расплаты. Вот другие, на сумму вдвое большую, по которым я заплатить не могу. Я вынужден уехать с неопределенными обещаниями вместо платежей. Этого достаточно, чтобы тебе обрисовать мое положение. Нитка, о которой я упомянул, в руках Златицкого. Тебе известно, что он когда-то у меня много выиграл, но выиграл правильно, благодаря моему упорству, и всегда мне оставался приятелем. Теперь я у него в крупной доле по постройке Синегородской железной дороги. Если дело удастся, мы совершенно поправимся. Если нет – то мы с тобой бедняки…
Молодой Леонин встал, подошел к отцу, поцеловал у него руку, обнял его и сказал:
– Вы теперь меня охотнее можете извинить, папа́. Вы сами хранили на сердце тайну, сами медлили признанием, но не по недостатку доверия ко мне, а потому, что берегли меня. Благодарю за то, что теперь высказались. Но вы заранее были убеждены в том, что в моих намерениях перемены произойти не может. Чтобы ни случилось, мы все-таки будем достаточнее бедных Снегиных. Вы почетный опекун и им останетесь. Я вам в большую тягость не буду. Если Снегин мог жить, то и я в наше время найду к тому средства. Я лучше его вооружен для того, чтобы их находить. Во всяком случае, я исполню долг чести и долг моего сердца. От моей доброй Веры я не отшатнусь. Я должен быть ей опорой в жизни и защитой против недостойного брака, который ей начинают навязывать. Я не обману ее доверия и ее привязанности ко мне. Я не только люблю ее, но могу сказать, что отчасти я сам обеспечил себе прочность этой любви. Она привыкала ко мне, пока я привыкал к ней. Ей было с небольшим семнадцать лет, когда мы в первый раз с ней свиделись. Податливость молодости мне далась под руку. В два года я, быть может, несколько довоспитал ее на свой лад. Она умственно объединилась со мной. Мои взгляды, наклонности, понятия ей усвоились. Если вы иногда меня одобряли и даже хвалили, то она еще более, по природным свойствам, достойна вашего расположения, а по придаточным способна его не утратить. Все это, папа́, ни от каких перемен в вашем имуществе не зависит. Притом я теперь еще ничего не прошу у вас; я только предупреждаю вас, что буду просить, и уверен, что в дозволении принести просьбу, в свое время, вы мне не откажете.
Василий Михайлович встал и, ничего не отвечая, стал ходить по кабинету, останавливаясь по временам, как будто желая что-нибудь высказать, потом снова начиная ходить в молчаливом раздумьи. Молодой Леонин также молчал и стоял неподвижно у письменного стола, следя беспокойным взглядом за лицом и движениями отца.
Прошло несколько минут. Наконец Василий Михайлович подошел к сыну и твердым голосом сказал:
– Анатолий! Ты меня знаешь. Я умею взрослого сына считать взрослым; я не охотник до праздных сетований или нравоучений. Кроме того, я считаю себя способным понимать и ценить благородные чувства. Следовательно, я ничего не скажу вразрез твоим чувствам. Но я ничего не скажу и в ответ на то, что ты назвал предупреждением. Дело слишком важно для нас обоих. Мне лично – прости откровенность – оно не в радость. Ты видишь, что я хожу взад и вперед без трости, не хромая. Я не ощущаю никакой боли. Я физически совершенно здоров. Так всегда бывает, когда другая боль заноет глубже. Ты в ней не виновен. Я тебя понимаю; но ты пойми и меня. Ни слова согласия или одобрения сказать не могу. Мы пока с тобой уезжаем. Что будет, когда мы вернемся, Бог весть. Не требую от тебя никаких обещаний, не ставлю никаких условий… Ты меня понимаешь. Ты сам рассудишь, что тебе можно там сказать перед отъездом. Я совершенно свободен – а ты себе хозяин. Теперь обними меня и оставь одного. За бумагами, счетами и деньгами ты зайдешь перед обедом.
Василий Михайлович обнял сына и потом протянул ему руку на прощанье. Анатолий поцеловал и сильно пожал эту руку. Ни тот, ни другой, расставаясь, не говорили. Анатолий вышел. Василий Михайлович долго смотрел вслед ему, потом принялся снова ходить взад и вперед по своему кабинету.
В субботу вечером, накануне дня предназначенного отъезда, Анатолий Леонин получил следующую записку от г-жи Крафт.
«После ваших объяснений с Верой у нас, в среду и четверг, она вчера решилась объясниться с отцом, а я и мой муж переговорили с ним сегодня. Бедный Снегин был страшно взволнован и плакал у нас, как ребенок. Он ни дочери, ни нам не делал никаких упреков, говоря, что видит и понимает, что никто из нас не виноват перед ним и что судьба так вела дело изо дня в день, что сначала нельзя было предвидеть, а потом нельзя было предупредить того, что теперь сбылось и выяснилось. Но он боится за будущность Веры – не потому, чтобы он теперь вам или в вас не верил, а потому, что никто на будущее и в будущем за самого себя поручиться не может. Он смущен и неравенством общественного положения, и всеми толками, которые будут впоследствии возбуждены вашими намерениями, и окончательным взглядом на дело вашего отца, и прочая и прочая. Но все это, естественно, иначе быть не могло, тем более, что об отказе вашего отца изъявить какое бы то ни было согласие в настоящее время и что-либо обещать в будущем, мною было сказано Снегину буквально в тех выражениях, которые вы мне указали. Сегодня Вере нельзя было отлучиться из дома; но завтра, чтоб с вами проститься, Алексей Петрович позволил ей вас принять в его кабинете. Ни его, ни Варвары Матвеевны дома не будет. Они уезжают после обедни и завтрака, в час, чтобы смотреть дачу в Петровском. Варвара Матвеевна непременно хочет нынешним летом жить там, а не в Сокольниках, как бывало прежде. У нас вам прощаться с Верой неудобно, потому что, как вы знаете, мы по воскресеньям не бываем одни. Это позволение вам, впрочем, доказывает, что Снегин вам доверяет. Итак, будьте там между часа и двух или около двух часов. Бедная Вера вас ждет с трепетным нетерпением. От нее зайдите к нам. До свидания. Вы видите, что я свое слово сдержала.
Преданная вам Клотильда Крафт».








