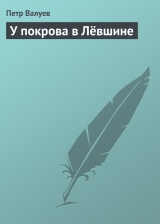
Текст книги "У покрова в Лёвшине"
Автор книги: Пётр Валуев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Петр Валуев
У покрова в Лёвшине
(В семидесятых годах)
I
– Опять за книгой, – сказала сердито Варвара Матвеевна, войдя в комнату, где Вера сидела у окна за пяльцами, но не вышивала, а держала в руках книгу и ее перелистывала. – Урывками мало подвинется работа, и ковер к сроку не поспеет.
– Я недавно перестала вышивать, тетушка, – сказала молодая девушка, покраснев и встав со стула, на котором сидела. – Я целое утро работала и только хотела дать глазам поотдохнуть.
– Хорош отдых! Как будто читать не хуже для глаз, чем шить по крупной канве. Впрочем, мне не было бы до того никакого дела, если бы ты сама не обещала вышить ковер к сроку. Я в твои дела, как ты знаешь, не вмешиваюсь.
– Ковер будет готов к сроку, тетушка; осталось дошить менее двух полос, а до именин отца благочинного с лишком месяц.
– Знаю – но мало ли что может случиться; ты здоровьем похвалиться не можешь: пожалуй, вдруг свихнешься и сляжешь; пожалуй, и глаза от усердного чтения заболеют. Целое утро, ты говоришь, вышивала; посмотрим, на сколько в целое утро дело подвинулось.
Варвара Матвеевна подошла к пяльцам и костлявою буро-желтою рукой откинула холст, которым была прикрыта часть канвы. Справедливость сказанного Верой была очевидна. Но лицо Варвары Матвеевны не прояснилось. Она взглянула на племянницу исподлобья, с выражением сосредоточенной злости во взгляде, сердясь за то, что не было за что сердиться, и, отойдя от пялец, сказала:
– Глаза все-таки следует беречь. Чтение – плохой отдых. И что читала ты? Верно, какой-нибудь роман или опять немецкие вирши.
Вера молча подала Варваре Матвеевне книгу, которую она еще держала в руках. Это было старое издание «Подражания Христу» перевода Сперанского. Варвара Матвеевна взяла книгу, раскрыла и, тотчас закрыв, положила на стоявший вблизи столик. Имя Христа становилось вразрез всему, что ей просилось на язык. Она с полминуты промолчала; но, заметив на окне другую книгу, указала на нее Вере и спросила:
– А там что за книга?
– Немецкая, – отвечала Вера. – «Очерки Природы» Гумбольдта. Мне их дал Карл Иванович.
– Карл Иванович твой – записной поставщик книг, – заметила Варвара Матвеевна. – Впрочем, надеюсь, что он худых не ставит. Гумбольдт… против Гумбольдта ничего сказать нельзя.
Варвара Матвеевна не знала по-немецки и Гумбольдта даже в переводе никогда не читала; но имя его ей было известно из журнальных статей, и она сознавала, как сама выразилась, что против этого имени нечего было говорить. Она окинула взглядом комнату, как будто отыскивая в ней что-нибудь менее безупречное, чем Гумбольдт, но, по-видимому, не нашла, потому что более ничего не сказала и вышла из комнаты, по обыкновению не затворив за собой двери.
Вера смотрела вслед тетушке, не двигаясь с места. Судорожное движение сказывалось в чертах лица; на глазах выступили слезы. В это время стенные шварцвальдские деревянные часы пробили два и обратили к себе внимание молодой девушки. Она взглянула на них, потом тихо подошла к двери, заперла ее, вернулась на свое место перед пяльцами, села, но, не принимаясь за иголку, сжала обе руки и заплакала.
– Боже мой! Боже мой! – проговорила она. – Какое мучение!
Крупная слеза, скатившаяся на цветок, вышитый шерстью бледно-желтого цвета, испугала Веру. Она торопливо схватилась за лежавший на пяльцах платок, отерла им след слезы на шитье, потом глаза – и принялась за работу. Однообразно стучал маятник часов; однообразно ходил он справа влево и слева вправо; иголка однообразно пронизывала канву сверху вниз и возвращалась снизу вверх сквозь соседние нити. Время шло, как всегда идет, без перерыва, без возврата, как будто мимо всех, но всех незаметно захватывая и унося с собой. Вера безостановочно продолжала работу и только бросала иногда через окно беглый взгляд на улицу. Но когда часы пробили половину третьего, она остановилась, накинула холст на шитье и, отодвинув пяльцы, встала у окна. Между тем дверь отворилась, и в комнату вошел отец Веры, Алексей Петрович Снегин, служивший начальником счетной части в одном из местных правительственных учреждений и, по-видимому, только что возвратившийся со службы, потому что он был в мундирном фраке, с орденом на шее и с другим в петличке. На его добродушном лице явно выражалось двоякое удовольствие быть дома и увидеть дочь.
– Здравствуй, Вера, – сказал Алексей Петрович почти весело, потому что совершенно веселым он никогда не был. – Я так рано вышел сегодня, что не успел с тобой повидаться.
– Здравствуйте, папа́, – сказала Вера, встретив отца на средине комнаты. – Я к вам приходила, но уже не застала.
Она поцеловала руку отца; он поцеловал ее в лоб и, взяв за обе руки, стал ласково в нее всматриваться.
– Радуюсь, что ты не за пяльцами, – продолжал Алексей Петрович, – а смотрела в окно на свет Божий. Сегодня погода чудная. И ясно и почти тепло. Начинает веять весной. Ты, конечно, не выходила из дома?
– Нет, не с кем было.
– Жаль; но я успею с тобой немного пройтись после обеда. Потом мне опять нужно быть у начальства. Вечером собирается какая-то комиссия… Но что значит это, Вера? Ты плакала… Что случилось? – Алексей Петрович повернул дочь к свету. Ее глаза говорили, что он не ошибся.
– Ничего не случилось, милый папа́, – сказала Вера. – Так, на минуту что-то грустно стало. Но это уже прошло.
– Верно, Варвара Матвеевна к тебе опять за что-нибудь привязалась. Была она у тебя, что ли?.. Да скажи же, моя милая, была или не была?
– Заходила, папа́. Она все тревожится, что ковер к сроку не поспеет.
– Уж этот мне ковер! И отец благочинный! И вся эта горькая святость! Смотри, она теперь будет торопить обед, чтобы не опоздать к вечерне.
Алексей Петрович обнял дочь, нежно поцеловал ее и сказал:
– Надо терпеть, Вера. Делать нечего. Ты терпишь ради меня, я ради тебя. Это нас должно утешать.
– Будем терпеть, папа́.
На лице Алексея Петровича давно исчез последний признак того настроения, которое в нем изображалось при входе в комнату дочери. Брови сдвинулись, голова поникла. Он молча простоял с минуту, потом махнул рукой и вышел.
Вера возвратилась к окну. Оно выходило на Покровский переулок, недалеко от его пересечения, так называемым Денежным, и от церкви Покрова в Лёвшине. В первопрестольной Москве, где насчитывается или насчитывалось до сорока сороков церквей, почти каждый дом стоит в виду одной из них, и почти каждый адрес может быть приходским. При этом наименование каждого прихода имеет, так сказать, исторический звук, то есть звучит чем-то истинным, действительно бывшим; оно произошло от условий или обстоятельств, которых уже нет, но которые прежде существовали, – одним словом, завещанно стариной, напоминает о старине и для уразумения требует справок со стариной, а не произвольно дано или придумано со дня на день, как названия Ковенских или Митавских переулков в Петербурге. Между такими наименованиями одни поражают своею странностью, как Николы на Курьих ножках, другие прямо указывают на связь с исторической эпохой, как Николы Стрелецкого, третьи произошли от случайных временных признаков, как Николы в Щепах. Еще другие, очевидно, имели в прежнее время топографическое значение и заимствовались от местностей, которые обозначались теми же названиями. Таковы, например, Николы в Хамовниках, Покрова в Лёвшине. Исследование и разъяснение происхождения всех придаточных наименований московских церквей могли бы составить предмет обширного и весьма любопытного исторического труда.
Снегины жили в одном из тех небольших деревянных одноэтажных домов на высоком каменном фундаменте, которых до сих пор много в Москве между Пречистенкой и Арбатом и Арбатом и Поварской. Из окна, у которого стояла Вера, была видна вся ширина не слишком, впрочем, широкого Покровского переулка и часть его изгиба в сторону церкви Успения на Могильцах. Прохожих почти не было; проезжих еще менее. Когда Вера их завидывала, она несколько отслонялась от окна, но потом вновь к нему приближалась и по временам бросала беспокойный взгляд на часы.
Горничная отворила дверь и сказала, что обед подан.
– Сейчас, – отвечала Вера, но не тронулась с места.
– Вера, – послышался голос Варвары Матвеевны, проходившей мимо двери. – Пора обедать.
– Иду, – отвечала Вера, но продолжала с встревоженным видом смотреть в окно.
Вдруг ее лицо прояснилось. По тротуару, на противоположной стороне переулка, поспешно шел молодой человек, высокого роста, в статском платье. Поравнявшись с домом, он уменьшил шаг и, увидя Веру, приподнял шляпу и наклонил голову. Вера кивнула ему приветливо головой и, улыбаясь, провожала взглядом, пока он не миновал окна. Потом она торопливо направилась к двери.
– Вера, – сердито сказала Варвара Матвеевна, отворяя дверь. – Отец ждет.
– Иду, тетушка, иду, – проговорила Вера и пошла вслед за Варварой Матвеевной.
II
Кто не видал пасхальной заутрени в Москве, тот не может составить себе понятия о торжественном зрелище, какое оно представляет, и об умиляющем впечатлении, которое оно производит. Можно говорить о зрелище, говорить, видеть, а не слышать, потому именно, что частью к чувству зрения прямо относятся те отличительные черты, которые принадлежат торжественной ночи на Пасху в Москве. Везде на Руси с особым благоговением празднуется день, который Церковь называет «праздником праздников и торжеством из торжеств»; но нигде, как в Москве, так явственно и торжественно не ожидается и не совершается наступление этого праздника. Нигде пасхальная полночь, час, когда у нас повсеместно принято начинать богослужение, не представляет той величественной картины, которая соединяется с этим часом в Москве. Холмистая местность, на которой раскинут город, тому способствует. Она расширяет в нем горизонты, разнообразит их очертания и уровни и почти отовсюду открывает виды в даль. Ночи в апреле, когда обыкновенно настает Пасха, большею частью бывают ясные, и звездные огни уже горят в небе над городом, когда начинают, с приближением полуночи, в нем зажигаться и множиться земные пасхальные огни. Со всех сторон и по всем направлениям выступают из ночного мрака иллюминованные церкви. Здесь обозначаются верхние архитектурные линии храма, или его купол, или обведенная вокруг него ограда; там одна колокольня острым клином огней врезывается в темное небо; еще далее освещены мерцающим светом стены и башни окраинного монастыря. В самом центре города, возвышаясь над всеми другими огнями, горят кремлевские огни и белеется златоглавый столп Ивана Великого. К нему со всех концов Москвы обращен чающий слух клира и мира. От него ожидается первый торжественный возглас о наступлении Светлого Воскресения. Наконец раздается удар большого колокола – и со всех церквей, ближних и дальних, тысячи колоколов отзываются на призыв их старшего сотоварища. «Христос воскресе!» – говорит большой колокол. «Воистину воскресе!» – отвечают все другие. Гул звенящих голосов сливается в воздухе между небом и землей, а на земле, у входа во все храмы, раздается победная песнь Воскресения.
В одной из московских домовых церквей, близ Пречистенских ворот, оканчивалось служение заутрени. У стены, недалеко от входа, сидел в кресле почетный опекун Василий Михайлович Леонин. Он принадлежал к числу старых знакомых дома, и его болезненное состояние, острый ревматический недуг, часто затруднявший ему всякое движение ног, уже давно обеспечили ему привилегированное место в церкви и то кресло, которое он теперь занимал. Позади его, у самого входа, стоял его сын, молодой человек, пользовавшийся в московском великосветском обществе видным положением и слывший, между людьми старшего поколения, примером исполнения сыновнего долга. Анатолий Леонин, начавший службу по ведомству министерства иностранных дел и состоявший некоторое время при нашем посольстве в Париже, отказался от улыбавшейся ему дипломатической карьеры по желанию отца и переселился на службу в Москву, чтобы иметь возможность с ним не разлучаться и оказывать ему то домашнее заботливое попечение, которого требовали его болезненность и одиночество. Василий Михайлович давно лишился жены, не сохранил в живых других детей и не имел в Москве близких родственников. Он мало бывал в обществе, принимал у себя немногих знакомых и сам навещал немногих. Про него одни говорили, что он богат и копит деньги, другие, что его дела расстроены и что у него много долгов от прежнего времени, когда он вел большую игру. Судя по его образу жизни, следовало предполагать, что первые правы и что у Василия Михайловича не могло быть обременительных забот по денежной части. Он жил в собственном доме, в Старой Конюшенной, недалеко от церкви Успения на Могильцах, а летом проводил два или три месяца в недалекой подмосковной, между прежними Серпуховской и Владимирской почтовыми дорогами. Молодой Леонин со времени переселения в Москву уже два раза сопровождал отца в деревню. В остальное время года он принимал в московской светской жизни заурядное участие, не возбуждавшее ни с какой стороны особых о нем толков. Он слыл домоседом, по чувству долга и отчасти по своим наклонностям. На него смотрели как на выгодного жениха; но он сам, по-видимому, не признавал за собой этого свойства и вообще не давал повода в нем замечать или предполагать сердечных увлечений.
Заутреня отошла. В промежутке между нею и началом литургии в церкви происходил обычный обмен пасхальных поздравлений. Василий Михайлович встал и, опираясь на трость, слегка прихрамывая на одну ногу, подходил к некоторым знакомым и отвечал на приветствия тех, кто к нему подходили. Потом он подозвал сына и сказав, что чувствует себя усталым и к обедне не останется, заложил одну руку за руку молодого человека и, опираясь на эту руку более, чем на трость, вышел из церкви. Василий Михайлович любил всегда и всем давать замечать свои добрые отношения к сыну и хвалиться его сыновними о нем попечениями.
На верхней ступени лестницы Василия Михайловича встретил его лакей, который взял его под другую руку и вместе с Анатолием Васильевичем стал его сводить с лестницы.
– Заметил ли ты, – сказал по-французски старик Леонин сыну, – с каким завистливым выражением лица на меня посмотрели князь и княгиня Веневские?
– Нет, не заметил, – отвечал молодой человек, – и не догадываюсь, чему они позавидовали.
– Тебе и позволительно не догадываться. Они видели, как мы выходили из церкви и как я на тебя опирался. Они подумали, и не ошиблись, что ты мне под старость и при моих болезнях во всем опора, а затем вспомнили об их сыне, который на тебя не похож и их только огорчает и разоряет.
– Он еще очень молод, и правда, что в нем легкомыслия немало; но я здесь познакомился с ним в прошлую зиму и убедился, что при всем легкомыслии он имеет доброе сердце и благородный характер.
– Может быть; но все-таки отец и мать принуждены себя во всем стеснять, потому что он не изволит стесняться.
– Он служит в дорогом полку, и по желанию отца, который сам в нем служил.
– Ты всегда других извиняешь, любезный друг. Это, пожалуй, и хорошо; но не изменяет дела.
– Я потому иногда извиняю, папа́, что, как мне кажется, многое может зависеть от обстоятельств. Обстоятельства могут и вовлекать в ошибки и предохранять от ошибок.
На этом философическом афоризме разговор прекратился. Леонин сел с сыном в карету, которая направилась по Пречистенке, мимо начала бульвара.
– Где встретим мы Пасху в будущем году? – сказал вдруг Василий Михайлович. – Этот вопрос мне приходил на мысль несколько раз во время заутрени.
– Быть может, и здесь, – отвечал нерешительно Анатолий Леонин. – Я все надеюсь, что Теплиц…
– Нет, – прервал Василий Михайлович. – Без зимы в теплом климате мы не обойдемся…
Оба снова замолчали.
– Что ж ты не снимаешь своего пальто? – спросил Василий Михайлович, всходя по лестнице, по приезде домой.
– Я еще зайду в церковь, папа́, – отвечал его сын. – Теперь там еще идет обедня.
– Так до свидания завтра, мой друг. Я устал и с тобою разгавливаться не буду.
Молодой человек вышел на улицу и быстрыми шагами направился не в ближнюю Успенскую церковь, а к Покрову в Лёвшине.
Церковь была полна, как в эту ночь всегда бывают полны и переполнены все русские церкви. Леонин с трудом протеснился мимо уже расставленных в притворе и в передовой части храма пасхальных куличей, тарелок с крашеными яйцами и пасх, с охранявшими их приставниками и остановился у стены, где знакомый церковный сторож уже уступил свое место. Сквозь расстилавшуюся по всей церкви мглу от фимиама, свечного дыма и взбитой молельщиками пыли Леонин окинул взглядом стоявшую перед ним толпу. В простенке между двумя окнами, на левой стороне, он увидел Веру Снегину, и на ней его глаза остановились. Она стояла позади своей тетки, Варвары Матвеевны Сухоруковой, прислонясь к простенку, и смотрела вперед себя, по направлению к алтарю. Леонин стал выжидать, не оглянется ли она в его сторону, но он ждал напрасно; взоры Веры ни одного раза до окончания службы в эту сторону не обращались.
Обедня отошла. Толпа хлынула к выходу и перед ним стала тесниться. Леонин заметил, что Алексей Петрович Снегин старался провести через нее дочь и невестку и что он и Варвара Матвеевна успели пройти в притвор; но что в самых дверях Веру оттеснили от отца, а затем еще более в сторону, так что теснившаяся мимо нее толпа ей заграждала путь к выходу.
Леонин пробрался к Вере и заслонил ее от двух пожилых и тучных женщин купеческого звания, которые в неразборчивых выражениях жаловались на давку и в своем смятении сердито посматривали на Веру, как будто прижатая к стене бедная девушка была виновницей давки.
– Позвольте мне взять вас под руку, Вера Алексеевна, – сказал Леонин, – я вас выведу.
– Ах, Анатолий Васильевич! – сказала с просиявшим от радости лицом Вера, – сделайте милость, помогите. Папа и моя тетка уже вышли.
– Я видел это. Я давно слежу за вами…
– А я и не заметила, что вы были в церкви.
– Не удивительно, – сказал, улыбаясь, Леонин, взяв под руку Веру и бережливо продвигаясь с нею к дверям. – Вы ни разу не оглянулись в мою сторону.
– Поздравляю вас со светлым праздником, Анатолий Васильевич. Христос воскресе!
– Воистину воскресе! Дай Бог нам всем светло провести светлый праздник. Ах! Вера Алексеевна, как давно мне не удавалось с вами видеться!..
– И мне так грустно было… Бедная Клотильда Петровна все не может оправиться… Кажется, что наконец на этой неделе ей можно будет выходить из своей комнаты.
– Мне необходимо с вами переговорить, Вера Алексеевна…
Молодая девушка бросила беспокойный взгляд на Леонина.
– Переговорить? – повторила она.
Потом нерешительно спросила:
– О чем? Что случилось?
– Ничего не случилось, но переговорить нужно. Не празднично у меня на душе, Вера Алексеевна. Простите, что я теперь вам говорю это. Не следовало бы на праздник вас тревожить. Но я привык с вами вслух думать; привык ни мыслей, ни чувств не скрывать…
– Вы знаете, что ваша радость и ваша печаль – и моя радость и мое горе, – сказала Вера едва слышным голосом, смотря прямо в глаза Леонину. – Вы мне обещали всегда быть со мною искренни. Разве вы хотите перестать быть искренним?..
– О нет! Менее чем когда-либо… Но мне нужно с вами видеться и говорить. Сегодняшний случай мне может в этом помочь. Мы сейчас выйдем. Представьте меня вашему отцу, под предлогом оказанной вам услуги.
– Охотно, но тогда и моей тетке.
– Конечно…
Между тем Алексей Петрович и Варвара Матвеевна уже вышли за церковную ограду и остановились на улице, недоумевая насчет того, что сталось с Верой. Варвара Матвеевна утверждала, что она была впереди них, и в сопровождении горничной, вероятно, решилась прямо идти домой. Алексей Петрович говорил, что он видел, как ее оттеснили назад.
– Вы всегда лучше меня все знаете, – говорила с досадой Варвара Матвеевна. – Нельзя же нам простоять здесь до полудня…
– Не могу же я своим глазам не верить? – говорил Алексей Петрович. – Коли видел, то видел.
– В притворе было так темно, что вы и видеть не могли, – сказала Варвара Матвеевна.
В эту минуту Леонин и Вера показались за оградой.
– Не мог видеть? – сказал с торжествующим выражением лица Алексей Петрович. – Вот она.
– Что за молодой человек с нею? – спросила Варвара Матвеевна, подозрительно направив свои неутомимо-подвижные светло-серые глаза на Веру и Леонина.
– Кажется, молодой Леонин, – отвечал Алексей Петрович.
– Какой Леонин?
– Сын Василия Михайловича, почетного опекуна.
– Разве Вера с ним знакома?
– Она с ним встречалась у Крафтов.
– А!.. У Крафтов? – сказала Варвара Матвеевна.
– Да. Карл Иванович и Клотильда Петровна его очень любят. Он товарищ по Дерптскому университету и большой друг их сына, доктора Крафта, который теперь в Петербурге…
Вера опередила Леонина и, подойдя к отцу, торопливо рассказала, что Леонин помог ей выбраться из церкви и, будучи ей уже знаком, просит быть представленным Алексею Петровичу. Скромный и застенчивый Алексей Петрович несколько смешался и даже не решился протянуть руку молодому человеку, когда Вера его подозвала и назвала по имени, отчеству и фамилии. Но Леонин так просто и непринужденно объяснил свое желание быть ему представленным и сам так радушно протянул ему руку, что Алексей Петрович как будто растаял и даже крепко пожал ему руку.
– Не изволите ли вы меня представить и Варваре Матвеевне? – сказал Леонин, еще раз сняв шляпу.
Снегин обратился к невестке и назвал молодого человека.
Варвара Матвеевна все время весьма недружелюбно смотрела на Леонина и едва наклонила голову в ответ на его поклон; но он не смутился и, смотря прямо в ее недобрые глаза с улыбкой, которой он постарался придать выражение простодушного удовольствия, сказал, что давно желал иметь честь ей представиться, хотя бы только в звании близкого соседа.
– Я несколько раз имел честь встречать вас, – прибавил Леонин, – на пути в церковь или из церкви. Соседи подмечают привычки соседей, и я не мог не заметить, что Божий храм вами посещается часто.
– Признаюсь, не помню, чтобы я с вами встречалась, – сухо ответила Варвара Матвеевна.
– Это весьма естественно: во мне ничего, кажется, нет примечательного… Но я должен извиниться перед вами, Варвара Матвеевна, и перед вами, Алексей Петрович, что вас задерживаю на улице. Позвольте проводить вас до вашего дома… Мне почти по дороге.
Вера с видимым волнением следила за неожиданным сведением знакомства между ее домашними и Леониным. Когда Леонин предложил их проводить до дома, она тотчас обратилась к отцу и сказала:
– Пойдемте, папа́, уже поздно, и я невольно виною тому, что Анатолий Васильевич вас задержал.
Снегин пошел с дочерью вперед, а Леонин, не всходя на узкий тротуар, следовал за ним по мостовой рядом с Варварой Матвеевной.
– Я много слышал доброго о вас от моих приятелей Крафтов, – сказал Леонин.
Недобрые люди вообще охотно слышат, что их называют добрыми. Лицо Варвары Матвеевны несколько прояснилось.
– Неужели? – сказала она. – Впрочем, они сами добрые люди. Я их вижу не часто, но они добры к моей племяннице, которую я очень люблю. – Глагол «любить» имеет в некоторых устах какой-то особый, поразительно фальшивый звук, и к таким устам принадлежали уста Варвары Матвеевны. Звук не ускользнул от уха Леонина; но жизнь уже успела его ознакомить с такими впечатлениями, и он спокойно ответил:
– Я не раз слышал об этом от Карла Ивановича и его жены. Они почтенные люди, и я очень дружен с их сыном.
Уже стало светло. Пасха в 187… году была поздно в апреле. Побледневший добела месяц спускался к Воробьевым холмам, а влево от Кремля уже алело и золотилось утреннее небо. Движение на улицах стихало, но еще не прекратилось. Несколько фраз об этом движении, погоде, свежем воздухе и о том, как было тесно и жарко в церкви, дали Леонину возможность продолжать разговор с Варварой Матвеевной до той минуты, когда все остановились у входа в дом, где жили Снегины. Здесь он откланялся, выждал, чтобы Варвара Матвеевна вошла в дом, и тогда сказал Снегину:
– Надеюсь, Алексей Петрович, что вы позволите соседу навестить вас на праздниках.
– Милости просим, буду очень рад, – отвечал Алексей Петрович.
– До свидания, Вера Алексеевна, – сказал Леонин, подойдя к Вере и подавая ей руку; потом он вполголоса прибавил:
– Буду завтра.








