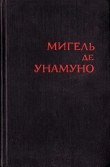Текст книги "Хуан-Тигр"
Автор книги: Перес Рамон де Айала
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
Хуан-Тигр пал ниц у алтарной решетки, почти к ногам самого Христа, смиренно приносящего себя в жертву. Касаясь лбом могильной плиты, он молился горячо и истово – молился теми немногими словами, которые только и мог вспомнить в своем смятении: «Господи, Господи, за что ты меня оставил? [23]23
См. Мк. 15, 34.
[Закрыть]Да будет Твоя святая воля! Бедный Хуан-Тигр! Вчера для тебя все кончилось. Бедный Хуан-Тигр!» Когда зазвонил колокольчик и молящиеся начали подниматься с колен, вдали послышался долгий, призывный свист паровоза. Это шел поезд в Кастилию: сейчас он должен пройти сквозь туннель холма, на котором стояла церквушка «Христа в темнице». Внезапно Хуан-Тигр вскочил на ноги и бросился бежать к выходу, расталкивая молившихся стариков и старух, – некоторые даже падали, стеная. Выбравшись наружу, он стремглав помчался вниз по склону холма, к отверстию туннеля, из которого вот-вот выйдет поезд. На полдороге Хуан-Тигр остановился: гора сотрясалась от грохота. Вот уже показался поезд. Этот поезд увозил Коласа. В глубине туннеля, подобного обрывистому ложу реки, уже виднелись головные вагоны состава, который стремительно несся вперед, наполняя это каменистое ущелье смолистым клубящимся дымом. Но что это, не мираж ли? Хуану-Тигру показалось, будто в окошке одного из вагонов прощально затрепетал белый платок. И когда там, далеко впереди, рассеялось последнее облачко клочковатого дыма, на глазах у Хуана-Тигра показались слезы.
Он вернулся на базарную площадь и, сев за прилавок, занялся обычными делами. Хуан-Тигр попытался было избежать взгляда вдовы, но глаза их невольно встретились, и тогда он почувствовал, что нежный взгляд доньи Илюминады ласкал его, как мягкая рука, гладящая кошку по шерстке. Этот несказанно красноречивый взор словно посылал ему зашифрованную весть, которую можно было истолковать так: «Всем нам иногда приходится несладко. Мне-то несладко уже давно: столько лет я несу свой крест, а надеяться мне не на что – разве что на встречу с покойным. Там, на том свете. А вам все-таки повезло. Долго вы наслаждались полным штилем, но теперь труба опять подает вам сигнал тревоги: начинается шторм. Теперь смотрите в оба: как бы вам не потерпеть кораблекрушение». В самом ли деле донья Илюминада думала так или же сам Хуан-Тигр читал в ее взоре именно то, что ему хотелось? Сегодня базар казался ему бурным морем, с его приливами и отливами, с плеском и шумом пенящихся волн, среди которых сам он был островком, одновременно близким к другим людям и далеким от них; Хуан-Тигр словно умирал от жажды среди океана соленой воды. Ветер надувал брезентовые навесы, и ему чудилось, будто это трепещут корабельные паруса. Страдая от одиночества, Хуан-Тигр не переставал думать о Коласе, представляя, как тот стоит на палубе корабля, плывущего к другому материку, – туда, где идет война. «Колас, сыночек, ну куда же ты плывешь? Ты меня совсем бросил? Вчера я был сам не свой: нечистый меня попутал. Бедный Хуан-Тигр! Вчера для тебя все кончилось. Бедный Хуан-Тигр! И все это из-за женщины. Будь все они прокляты! От них все беды, все горести… Второй раз женщина разбивает мою жизнь. Донья Илюминада скажет мне, кто она, эта девчонка. Удавить ее мало! Уж я ей отомщу, чего бы мне это ни стоило! Бедный Хуан-Тигр! Вчера для тебя все кончилось. Бедный Хуан-Тигр!»
Погруженный в свои мысли, Хуан-Тигр был тем не менее полон внимания к клиентам, приходившим к нему за покупками или за советами, а таких в базарный день всегда немало. Правда, в лица этих людей Хуан-Тигр не вглядывался. А если бы вгляделся, то заметил бы, что не те, кто подходил к прилавку, а те, что проходили мимо, на секунду задерживались, искоса на него глядели (одни с ужасом, другие – с отвращением), а потом перешептывались. Время шло, и по базару стали быстро расползаться слухи о том, что произошло с Хуаном-Тигром накануне. Поговаривали, будто он тайком проник в каморку Кармоны и учинил там что-то настолько ужасное, что бедная женщина вскоре умерла. И будто, то ли входя в лачугу зеленщицы, то ли выходя из нее, он сильно зашиб мула, принадлежащего виноторговцу Сиприано Моготе. И будто он вышвырнул на улицу Каргу, прослужившую в его доме много лет, не заплатив ей ни гроша, и вдобавок еще размозжил ей голову. И что, наконец, ему опостылел собственный племянник, с которым он все время спорил, ругался и ссорился. Опостылел настолько, что Хуан-Тигр вышвырнул беднягу из дому, показав ему кукиш вместо денег, и потому несчастный молодой человек (гол как сокол!) был вынужден (хочешь не хочешь!) идти в армию.
Около полудня у прилавка Хуана-Тигра появилась Карга. Голова ее была обмотана толстым, как тюрбан Великого Паши, слоем бинта. На этот раз она не принесла еды для хозяина, но стала требовать, чтобы он уплатил ей жалованье и возместил ущерб, понесенный ею из-за контузии, которая на самом-то деле была крошечным синяком. Хуан-Тигр дал ей столько денег, сколько она просила, пообещав платить ей до тех пор, пока она не подыщет себе нового места, а под конец попросил у нее прощения. На это Карга пробурчала себе под нос что-то нечленораздельное: то ли «да», то ли «нет» – так никто и не понял.
А потом подоспел и виноторговец Моготе, красномордый толстяк, забияка и плут. Его кепчонка была сдвинута на одно ухо, а голубая ситцевая рубаха спускалась почти до лодыжек. В руках Моготе держал длинную палку из орешника, которую он постоянно вертел, как ручку от кофейной мельницы, между ладонями, предварительно поплевав на них, а потом потерев друг о друга. Такой жест обозначал угрозу, но Хуан-Тигр, не зная за собой никакой вины, не понимал, что ему брошен вызов. Но если блохи с шелудивого пса переходят на того, кто стоит рядом, то и Хуану-Тигру поневоле передалось возбуждение виноторговца только оттого, что Моготе стоял рядом и совершал свои манипуляции с палкой. Все тело Хуана вдруг стало зудеть и чесаться. Чтобы взять себя в руки, он расправил плечи, напружинился и нахмурил брови, тем самым бессознательно придав своей азиатской физиономии свирепое выражение. Увидев это, виноторговец решил, что было бы разумным временно приостановить вращение ореховой палки.
– Как дела, Моготе? – равнодушно спросил Хуан-Тигр.
– Да будет вам дурака-то валять, – отвечал виноторговец, подняв бровь и скривив губу.
– Давай выкладывай, что тебе надо.
– А почему это я должен выкладывать, а?
– Ну уж если ты не хочешь говорить, приятель…
– Черт побери! Ладно, не будем слюни зря тратить. – И Моготе смачно плюнул на свою ладонь. – Ветеринар сказал, что у Полковника грыжа, он того и гляди подохнет.
– Провалиться мне на этом месте, если я хоть что-нибудь понимаю. Мне-то какое до всего этого дело? Зачем ты мне это говоришь?
– А кому же еще я должен говорить-то? – отвечал тот, надвигаясь на Хуана-Тигра. Теперь виноторговец опустил палку книзу, угрожающе выставив локоть вперед. – Ну так вот: если он вылечится, то платите и за лечение, и за простой, а если подохнет – выкладывайте две тысячи реалов, такая ему настоящая цена. Да еще и за ущерб. Вы мне за все заплатите – тютелька в тютельку! Понятно?
– Моготе, иди-ка ты своей дорогой и не мотай мне душу.
– Так вы мне заплатите или нет?
– Ты что, напился?
– Ну берегитесь, я вас еще в суд потащу. А после того как вы раскошелитесь (а это для меня самое главное), мы с вами еще поговорим как мужчина с мужчиной, и вы мне заплатите за все остальное. Ничего, не волнуйтесь, я потерплю сколько надо. Но учтите, что со мной шутки плохи и просто так я от вас не отстану: своего-то я не упущу! Но уж потом… Не думайте, у меня не развяжется пупок от страха, хоть напусти на меня самого хищного тигра, хоть какого жуткого людоеда. Ладно-ладно, вы еще пожалеете и о сегодняшнем, и о вчерашнем.
– Погоди-ка, Моготе. Накажи меня Бог, если я понимаю, за что ты на меня так взъелся и на что мне сдался твои полковник, твой ветеринар, твоя грыжа, твой пупок и твой тигр, на которого ты так глупо намекаешь. Я и понятия не имел, что ты знаешься с военными, и никак не возьму в толк, почему это раненого полковника лечит коновал, а не военный врач и не хирург. Или мне все это снится? Знаешь, со вчерашнего дня со мной творятся такие странные вещи, что об этом и вправду можно пожалеть, – это ты верно сказал.
– Похоже, вы меня совсем за идиота держите да вдобавок еще и смеетесь мне прямо в глаза. Зачем же мне сдался военный врач, когда нужно остановить кровь мулу? Мне в общем-то наплевать, сознаетесь вы или будете отнекиваться. И, хоть никто не видел, как вы пнули моего Полковника, мула то есть, мне раз плюнуть доказать, что именно вы дали ему под дых.
– Тысяча чертей! Теперь-то до меня дошло! Ну это совсем другое дело! Да я, Моготе, и не отнекиваюсь: так оно и было. Но ты так темнил, что я и не сообразил сразу, что здесь к чему. Оно и правда, разок я ему врезал, врезал бы и другой, попробуй он еще лягаться, – сам же он первый начал. Это законная защита: ее все кодексы признают и на суде оправдывают, – со всей серьезностью заявил Хуан-Тигр, словно мул был существом разумным и смог бы давать показания.
– Так, значит, сознаваться-то вы сознаетесь, а раскошеливаться не хотите, а?
– Это значит, что я вполне мог бы и не раскошеливаться, если б ты вздумал со мной судиться, но я не хочу заводить тяжбы – ни с тобой, ни с кем другим. Сколько скажешь, столько и заплачу. Если, конечно, ты не попытаешься меня надуть.
– Я всегда говорил, что с вами, хоть вас и зовут «тигром», можно все уладить по-человечески, – сказал, ехидно ухмыльнувшись, Моготе; он нежно поглаживал ореховую палку, магической силе которой приписывал все свои победы. – Давайте вашу руку, старина: мы теперь друзья. Благородные люди всегда разберутся друг с другом, не доводя дело до мордобоя. Ну, до скорого!
Когда виноторговец убрался, Начин де Нача, сидевший воле своих шапок, подмигнув, сказал Хуану-Тигру:
– Что это к тебе приставал Моготе – этот толстый бурдюк с вином, которое так и бурлит у него в глотке? Он так накачался, что того и гляди лопнет, как перезрелый помидор. Что ему от тебя было надо?
– Из-за меня он в убытке, и я пообещал его возместить.
– А вот я бы ему возместил по шее, если бы он вздумал крутить этой своей палкой у меня под носом. Я бы ему, нахалу этакому, ни за что бы не уступил – хоть режь меня на части. Будь я на твоем месте, уж я бы ему всыпал как следует! Теперь все над тобой будут смеяться.
– Ладно, Начин, что было, то было, не учи ученого, – весь позеленев, пробурчал Хуан-Тигр: он боялся, коль над ним и вправду все будут смеяться, опять дать себе волю и наломать дров. – Христа ради, оставь ты меня в покое, – прибавил он.
– Между нами говоря, Хуан, сдается мне, что ты как тот кабанчик, который всего боится: только листик зашуршит, а он уже и удирает. Но зато, если он и дал стрекача, берегись, не вставай ему никто поперек дороги.
– Уж и не знаю, какой я есть, мне это все равно, да и других оно тоже не касается. Бедный Хуан-Тигр! Вчера для тебя все кончилось. Бедный Хуан-Тигр! Оставьте вы меня в покое, не лезьте в мое логово. Отвяжитесь от меня все, никто мне не нужен, я хочу остаться один.
– Ха-ха-ха! Вот это я и хотел от тебя услышать. Ну так ведь ты и так уже один – и без неродного сына, и без разбойницы-служанки. Вот и делай все, что тебе вздумается, никто тебя не держит, теперь ты сам себе хозяин. Ты ведь как тот кабанчик, а тут, в городе, тебе понаставили ловушек. И зачем это ты здесь торчишь? Разве здесь тебя кто-нибудь понимает, кто-нибудь жалеет? Пошли со мной в Кампильин. Жизнь у меня там спокойная, никакой тебе суеты: и город рядом, и вроде как в деревне. Выйдешь за порог – и вот ты уже в волшебной стране, где живут духи и всякие разные твари с того света: хорошая это компания, честное слово! А вот ты не понимаешь, о чем кукует кукушка, не веришь ни в русалок, ни в леших, ни в домовых, ни в водяных, ни в кого. Но зато ты, чудак-человек, веришь людям. Где же твои глаза? Вот ты говоришь, будто все эти духи, которых я вижу вот этими самыми глазами и слышу вот этими самыми ушами, духи, которые живут в лесах и болотах, садятся на крышу моего дома или влетают в печную трубу, – все они, говоришь ты, существуют не на самом деле, а только в сказках, которые придумывает темная деревенщина: они, мол, только тени. Ну что ж. А по мне, так все эти мужчины и женщины, что толпятся вокруг нас, – они и есть самые настоящие тени. Только тени – и больше ничего. Думаешь, не так? Пошли со мной в Кампильин, и ты убедишься, что я тебя не обманываю. Пошли, ведь мы оба с тобой деревенские. Я уже старик, да и у тебя старость не за горами. Мы с тобой волки из одного логова. Пошли со мной: будем сидеть у камелька, вспоминать нашу молодость – так, глядишь, и сами помолодеем.
– Упаси Бог! Поскорее бы мне стать наконец старой развалиной, потому что сейчас я такой юнец, что дальше некуда: если уж и в молодости я не знал, что со мной будет дальше, то теперь и подавно… Как был я сумасшедшим так сумасшедшим и остался. Не веришь? Вот посмотрел бы ты на меня вчера вечером… Бедный Хуан-Тигр! Вчера для тебя все кончилось. Бедный Хуан-Тигр! Я теперь словно заново родился. Или как будто бы я повернул назад и опять иду по той же самой дороге. Нет, не пойду я с тобой в твою глухомань, не пойду. Там я быстро стану диким зверем, который живет сам по себе. Спасибо за приглашение, но лучше уж я останусь здесь. И чем больше вокруг меня будет толпиться народу, тем более одиноким буду я себя чувствовать. Меня загнали, затравили, заперли в клетку: как там ни бейся, а все равно из нее не выберешься. Приходится смириться. Что поделаешь – надо терпеть. Нет уж, ничего мне теперь не надо: как оно есть, так и ладно. Вот тебе и Хуан-Тигр. Вчера для меня все кончилось, – отрезал он, будто высекая эпитафию на своем могильном камне.
– Не хочешь, не надо, дело хозяйское. Но если вдруг передумаешь, вспомни, что я тебе сказал.
К вечеру базарная площадь опустела. Донья Илюминада заперла дверь своего магазина и, кутаясь в шаль, вышла на улицу. Хуан-Тигр не сдвинулся с места. Колокола церкви святого Исидора зазвонили по покойнику, и вскоре на площади появилась траурная процессия: это хоронили Кармону. Все, кто был на рынке, присоединились к шествию, но Хуан-Тигр все еще колебался, не зная, идти ему со всеми или нет, но тут подоспела донья Илюминада, которая вела за руку Кармину. Вдова подошла к нему и сказала:
– Пойдемте с нами на похороны. Мне удалось убедить всех, что вы ни в чем не виноваты. Правда, сделать это было непросто, но этот вот ангелочек мне помог. Хоть сейчас-то, нелюдим вы этакий, не натворите по своей простоте новых глупостей, а то люди опять начнут о вас болтать бог весть что.
Некоторые из плакальщиц, сопровождавших траурный кортеж, на ходу останавливались, пытливо разглядывая вдову и Хуана-Тигра, который, повернувшись к донье Илюминаде, смотрел на нее покорно и умоляюще.
– Если бы не эти печальные обстоятельства, – сказала вдова Гонгора, – то я бы посмеялась над той дурацкой миной, которую вы сейчас состроили. Делайте что я вам говорю. Кармина, поцелуй сеньора Хуана: вчера вечером он подал тебе милостыню и зашел к твоей бедной матери, надеясь облегчить ее страдания.
Хуан-Тигр быстро накрыл свои товары брезентом, а потом подставил щеку девчушке, поцелуй которой заставил его испытать сладостное волнение. Взяв Кармину за руку, он крепко, в знак ответной благодарности, пожал ее.
– Ой, больно! – пискнула Кармина.
– Не жмите так сильно, друг мой. Прости его, деточка: это он нечаянно. Что поделаешь, он, даже лаская, причиняет боль.
– Как же хорошо вы меня понимаете, донья Илюминада! Да, именно боль и даже кое-что похуже.
– Хорошо понимаю? Да нет, вряд ли…
Хуану-Тигру представлялось, будто поцелуй сиротки оставил на его щеке явственно различимый знак – как стигмат. Он гордо вышагивал, самодовольный, как новобранец, который, выпятив грудь, выставляет напоказ чужой орден, хотя сам еще и не нюхал пороха. Тут одна из кумушек шепнула на ухо другой:
– Посмотри-ка ты на него! Мало того что он прикончил Кармону (а это уж как пить дать!), так он еще прямо и сияет, будто радуясь тому, что натворил. Но Бог – Он все видит, и, когда настанет Страшный Суд, вся эта нечисть всплывет наружу! Ох, грехи наши тяжкие!
Когда шествие приблизилось к стоящей на городской окраине церкви праведного Лазаря, дальше которой плакальщики обычно уже не идут, Хуан-Тигр сказал, что пойдет и на кладбище. Но донья Илюминада не хотела, чтобы малютка видела, как ее мать навсегда исчезнет под землей, в черной пасти могилы: это зрелище оставило бы в ее душе неизгладимо тягостное воспоминание. И поэтому Хуан-Тигр, не желавший выпускать руки Кармины, вынужден был вернуться вместе с ними.
– А кто оплачивает похороны? Я бы тоже мог внести свою лепту, – заметил он.
– Не волнуйтесь: все уже уплачено.
«Все ли? А что будет с сироткой?» – подумал Хуан-Тигр, который в ее присутствии не решался спросить об этом прямо, а потому вынужден был изъясняться намеками, полагая, что проницательная вдова поймет, о чем речь.
– Все ли? – спросил Хуан-Тигр.
– Да, все.
– Но ведь кое-что…
– Нет, все. Да, кстати: поскольку мы с вами сегодня еще толком не разговаривали, то позвольте мне выразить свое соболезнование и вам: одни теряют родителей, другие – детей. И еще неизвестно, что хуже, хотя первое все-таки естественнее. Легко обрести другого ребенка, но вот найти нового отца не так-то просто. А уж тем более – мать, хотя, конечно, всякое бывает.
– Да уж, неважное это утешеньице.
– А я и не собираюсь вас утешать. Колас уехал ни с кем не простившись, а это все равно что уйти из дома с ключом в кармане. Уйти, чтобы вернуться в самый неожиданный момент. И он обязательно вернется, даже не сомневайтесь!
– Если только его не пробьет пуля какого-нибудь мятежника.
– Не дай-то Бог.
– И даже если он вернется, что из того: Колас для меня уже потерян.
– Потерян? Послушайте-ка меня, друг мой. Колас поступил как нельзя лучше: он не стал наказывать ту, которая его отвергла, но уехал, чтобы доказать всему свету, какой он храбрец. Он поступил благородно, как настоящий странствующий рыцарь, – в наше время таких уж и не сыщешь.
– Надо же, а мне это и в голову не приходило.
– Это во-первых. А во-вторых, только в разлуке и можно проверить, любишь ли на самом деле. Колас уехал, и теперь вы сможете наконец убедиться, насколько он вам дорог и действительно ли дороже всего на свете.
– Так это и без того ясно.
– Тем лучше. Колас, на какое-то время пожертвовав своей свободой, возвращает вам вашу. Пройдет сколько-то времени… Вы останетесь таким, как были? Что ж, тогда вы ничего не теряете, но, наоборот, только приобретаете: так вы еще крепче убедитесь в том, что ваша отеческая любовь неизменна. Но если тем временем в вашем сердце зародится новое чувство, то вы, по крайней мере, будете благодарны Коласу за то, что он вовремя уехал и не помешал вам.
– Вашими бы устами да мед пить! Сразу видно, что вы родом из Толедо, где растут абрикосы со сладкой косточкой. Послушать вас, так у нас не жизнь, а малина. Значит, по-вашему, мне надо бы теперь веселиться, как бубну с висюльками: чем сильнее по нему бьют, тем радостнее он звенит! Уж и не знаю, как вам ответить, да только вы меня не убедили.
На самом же деле Хуан-Тигр от всей души желал, чтобы вдова оказалась права. Но он не решался и думать об этом из опасения, что его надежды могут рухнуть. Вздохнув, Хуан-Тигр добавил:
– И все-таки жаль, что Веспасиано сейчас нет в Пиларесе! Я бы его спросил, что он обо всем этом думает… И если бы он сказал то же, что и вы, я бы успокоился.
Разговаривая, они подошли к дому доньи Илюминады. Открыв дверь, вдова пригласила Хуана-Тигра войти, но тот отказался. Темнело. И Хуан-Тигр бесцельно побрел по городу, по его безлюдным улицам. Ему не хотелось возвращаться в свое опустевшее жилище, которое одновременно и манило его, и вселяло ужас. Долго он блуждал, пока ноги сами не привели его домой. На соборных часах пробило десять, и каждый их удар, казалось, обрушивался ему прямо на голову, толкал в затылок: «Ну что ты встал? Входи же! Поживей! Поторапливайся!» И Хуан-Тигр открыл дверь, поднялся по лестнице… Весь день он ничего не ел, и теперь, вытащив из стенного шкафчика хлеб и сыр, Хуан-Тигр, не присаживаясь, перекусил.
Совершенно ослабев душой, он ослабел и телом. Сотрясаемый бурей сомнений, он стоял покачиваясь, как дерево в ненастье. Он уже подошел было к своей спальне, но вдруг резко, одним махом, чтобы не передумать распахнул дверь в комнату Коласа. Бегло оглядевшись Хуан-Тигр заметил, что Колас ничего не взял с собой – вот его костюмы – будничный и выходной, вот его белье вот обувь… «Голеньким я принес его в мой дом – без ничего он и ушел отсюда. [24]24
См. Иов, 1, 21.
[Закрыть]Чтобы не быть мне должным, Колас ушел отсюда с пустыми руками. Наверное, еще вчера вечером у него была здесь военная форма, а я так и не увидел, как она на нем сидит. Вот уж, наверное, в ней он такой красавчик! Когда же мы опять с тобой увидимся, сыночек?»
Хуан-Тигр решил ничего не трогать в этой комнате, оставив все как есть. Пусть тогда Колас, вернувшись, сразу же вспомнит, как он отсюда уходил. И поймет, что только он один и может заполнить ту пустоту, которая образовалась здесь после того, как он покинул свой дом. А пока Колас далеко отсюда, пусть его спальня останется музеем, собранием реликвий.
Собравшись уходить, Хуан-Тигр заметил, что к двери булавкой приколота записка. В ней было написано:
«Простите меня, отец. Сейчас, когда я узнал, что у меня нет отца, вы стали мне еще ближе, чем раньше, – настоящим отцом. Не думайте, что я неблагодарный. Надеюсь, что я еще поживу и смогу доказать вам мою любовь. Как мне хочется верить, что вы меня все-таки простите! Отец мой, дорогой мой отец! Да, я сбежал, но сбежал только потому, что кто-то вышвырнул меня вон, как ненужную вещь».
Рыдая, Хуан-Тигр целовал строчки, написанные рукой Коласа. Рыдал – и говорил сам с собой:
– Да как же мне тебя не простить, бедный мой птенчик! Орленок, ты выпал из гнезда, а я подобрал тебя, отогрел на своей груди… И вот у тебя подросли крылья, и ты улетел! Что ж, лети высоко-высоко – там, где тебя никто не подстрелит. Нет, это ты должен меня простить: я-то, старый дурак, хотел подрезать тебе крылья! Давай, давай бей этих дикарей-индейцев и возвращайся поскорее домой. Возвращайся генералом – никак не меньше. И пусть кусает себе локти та девчонка, которая тебя бросила. Уж тогда-то ты на нее и не взглянешь!
И Хуан-Тигр удалился к себе в каморку. Письмо Коласа он спрятал на волосатой груди, положив его в висевший на шее кошелечек, где хранились другие драгоценные, донельзя засаленные бумажки, на которых какими-то таинственными иероглифами были обозначены размеры и местонахождение его капиталов. Хуан-Тигр вошел в свою комнату и увидел груды разбросанного по полу зерна. Как же этот беспорядок похож на то, что творится у него в душе! А ведь еще совсем недавно в мыслях и чувствах Хуана-Тигра царил полный порядок, бывший результатом его богатого жизненного опыта, благодаря которому все подвергалось строгой классификации и точной оценке. Теперь же, после совершившегося вчера вечером душевного переворота, здесь все перепуталось и смешалось… «Бедный Хуан-Тигр! Вчера для тебя все кончилось. Бедный Хуан-Тигр!» Нет, он уже не в состоянии ни о чем думать: в голове сплошной туман. И, едва опустившись на тюфяк, он сразу же захрапел, даже не заметив, как погрузился в сон…
На следующий день Хуан-Тигр решил начать трудное дело. Ему предстояло привести в порядок душу, перетрясти все свои мысли. Нужно было действовать осторожно, чтобы не разбудить в себе того зверя, который, чуть что, опять мог подняться на дыбы. «Эх, Хуан, Хуан, ты все такой же дикий, как и в молодости. Ну погоди! Я всажу в тебя шпоры, я тебя взнуздаю – будешь меня слушаться, будешь мне служить!» Опять, как в молодости, им овладела жажда мести, которая туманит рассудок, ослепляя его. Всего за одну ночь, словно под воздействием волшебной алхимии сна, любовь Хуана-Тигра к Коласу внезапно превратилась в мстительную ненависть к той незнакомке, которая вышвырнула юношу – по его собственному выражению – как ненужную вещь. Хотя… кого же на самом деле имел в виду Колас, писавший, что его вышвырнули, как ненужную вещь? Из записки этого нельзя было понять: то ли Колас писал это про девчонку, то ли про него, про Хуана-Тигра. Но раз уж Колас так тяжело переживал последний разговор со своим приемным отцом и просил у него прощения, то, выходит, виной всему эта пока еще неизвестная девчонка. Значит, Хуан-Тигр тем более имеет полное право ее ненавидеть, значит, он просто обязан отомстить ей. Но уж на этот-то раз он станет мстить хладнокровно: все хорошенько обдумав, он уже не будет, как в прошлый раз, терять рассудок, не будет, как в прошлый раз, причинять себе такие страдания… В прошлый раз… Подобно тому как ураган, поднимая в воздух целые пласты земли, выбрасывает наружу гробы и рассыпает кости мертвецов, так и буря, неистовствовавшая (но, слава Богу, кажется, понемногу утихавшая) в сердце Хуана-Тигра, была готова, как он того опасался, выбросить на поверхность сознания исчезнувшие и, казалось бы, навсегда погребенные в памяти воспоминания.
В тот день облако печали, неизменно окутывавшее донью Илюминаду, ненадолго рассеялось, и из-под него блеснул веселый солнечный лучик. Это произошло после того, как Хуан-Тигр зашел в магазинчик вдовы и спросил ее об участи осиротевшей Кармины.
– Я же вам еще вчера сказала, что все в порядке, – ответила донья Илюминада.
– Да, вы женщина решительная, хоть о себе и не трубите: что задумаете, то и исполните. И все-таки что же вы решили?
– Мне не хватает только одного – вашего согласия.
– Моего?
– Да, вашего. Все зависит от того, согласитесь вы это сделать или нет. Как скажете, так и будет.
– Уж и не знаю, что вам ответить: я весь прямо как на иголках. В приют ее отдавать вы, конечно, не станете. А вот какое-нибудь приличное общежитие – это другое дело.
– Какой же вы бессердечный! Неужели же вы можете оставить девчушку в чужом доме?
– Я? Оставить? А почему я?
– Я уверена, что лучше всего было бы, если бы Кармину кто-нибудь удочерил: так она будет как в своей семье. Ну, скажем, какой-нибудь одинокий человек – со средствами, богобоязненный, добрый… Ну так отвечайте же: все зависит только от вас.
Только теперь Хуан-Тигр понял, что вдова хочет пристроить Кармину именно ему. Он почувствовал, как снова вспыхнула его щека, обожженная вчера, как священным огнем, поцелуем Кармины. Скажи донья Илюминада еще хоть слово, и он взял бы сиротку к себе: Хуан-Тигр уже представлял себе, как все оно будет потом, когда они заживут вдвоем. Но всегда, когда воля его покидала, он начинал злиться на самого себя, и тогда все его слова и жесты сразу же становились грубыми и резкими, словно ему приходилось отбиваться от обидчиков. Вот и теперь Хуан-Тигр не сдержался:
– Разрази меня гром!.. Уж одной сироткой я сыт по горло! Вы что, совсем ослепли? Чур меня! Нашли дурака! Делать мне больше нечего! Нет уж, ищите другую наседку, чтоб она высиживала кукушкины яйца! – Хуан-Тигр раздражался все сильнее и сильнее, словно бык, которого кусает овод.
– Это не ответ. Скажите прямо: да или нет?
– Да вы мне прямо нож к горлу приставили! Ясное дело: ни за что на свете! Надо же такое выдумать! Это как если бы мне захотели подарить мешок пшеницы, так я сначала разузнал бы, не краденая ли она.
– Но сейчас-то время не терпит.
– Ну так и забирайте тогда эту сиротку себе – и дело с концом, – ответил Хуан-Тигр, не соображая, что он говорит.
Его зеленые, как у дикой кошки, глаза сверкали молниями, казалось, что таким образом он безмолвно взывал о помощи, как сбившийся с курса моряк, который, забравшись на вершину корабельной мачты, подает фонарем сигналы бедствия.
– Как раз об этом и речь. Значит, вы согласны?
– А-а-а… – Хуан-Тигр сразу весь как-то сник: его взгляд потух, а голос ослабел.
– Пожалуй, это первый случай, когда человек не хочет учиться на чужом несчастье. Сейчас, когда Колас улетает все дальше и дальше, поднимаясь все выше и выше, когда еще слышен шелест его крыльев, мне почему-то захотелось и самой пережить то несчастье, что уже выпало на вашу долю. Запирать в клетку перелетную птицу – пустое дело: если она не вырвется на волю, то зачахнет от тоски. Я знаю, это так, ну и что из этого? Пусть Кармина растет, хорошеет, набирается сил, а я буду жить ее жизнью. Пусть станет женщиной. Пусть станет женщиной! Ну а если потом у меня ее украдет мужчина… Понимаете, именно украдет – украдет, а не женится. Настоящий мужчина, но не муж: ведь мужья далеко не всегда бывают настоящими мужчинами. Так вот, если он у меня ее украдет, а потом даже и бросит, я все равно буду радоваться. Я буду за нее радоваться и благодарить Бога.
– Господи помилуй! Слушаю – и ушам своим не верю, неужели же это говорите вы, такая благочестивая…
– Ах, дорогой мой дон Хуан! Нет, вы не ясновидящий, это уж точно, чего вам не дано, того не дано. Это про вас написано в Евангелии, что имеющие очи не видят. [25]25
См.Мк. 4, 12.
[Закрыть]К счастью, на свете множество слепых, потому что, если бы из-под кожи и костей были видны мысли и желания, то большинство людей давно бы умерло со стыда. Ну а если тайное стало бы явным, то и тогда вы тоже ничему этому не поверили бы.
Хуан-Тигр, вознамерившийся привести в порядок свою душу, был совсем не расположен отвлекаться, разгадывая загадки, которые содержались в этих словах доньи Илюминады. И он вернулся к своему.
– А вы случайно не знаете, – спросил он, зеленея, – Кто она, эта девчонка?
– Какая девчонка?
– Ну понятно какая: та, из-за которой Колас… Я ее знаю?
– Думаю, что да.
– Ну тогда говорите, – пробормотал, запинаясь, Хуан-Тигр.
– Эрминия.
– Эрминия… Эрминия… – повторял он, пытаясь отыскать в своей памяти что-то вроде женского манекена, на который он мог бы повесить табличку или прикрепить этикетку с этим именем: ведь Хуану-Тигру казалось, что все женщины – это не столько живые существа, способные страдать и чувствовать, сколько прекрасные, но полые статуи, у которых вместо внутренностей – клубки копошащихся змей.
– Да что тут задумываться? Вы же чуть ли не каждый вечер проводите в ее обществе.
– Внучка доньи Марикиты Лавьяды? Эта…
– Эта… кто? Интересно, какую это гадость вы собирались про нее сказать?
– Эта… – Хуан-Тигр тщетно пытался отыскать подходящий для нее эпитет. – Эта… Это ничтожество, эта пустышка. И пусть меня расстреляют, если я знаю, какая она из себя, эта девчонка. Она мне глаза, наверное, намозолила, а я, хоть убей, ее и не помню, хоть она, похоже, смазливенькая. Какие у нее глаза – голубые, зеленые или карие? Она толстая, тощая или ни то и ни се? Дылда или коротышка? Ну и ладно, наплевать, черт с ней. Чтоб ей провалиться! – сглотнув слюну, злобно воскликнул Хуан-Тигр. Видимо, Эрминия была единственной на всей базарной площади женщиной, которой по непостижимым, неисповедимым законам судьбы он мог бы отомстить сполна – быстро и справедливо.