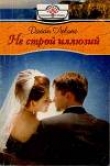Текст книги "Книга о Бланш и Мари"
Автор книги: Пер Улов Энквист
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
Неужели позор мог быть столь тяжелым, а ведь она полагала, что всего лишь любила.
Почему все должно быть так гадко!
Поначалу любовь казалась головокружительной и горячей, прямо-таки обжигающей, но потом то, что раньше было магмой и жаром, сделалось черным и нелепым и окаменело, превратившись в постыдную лаву. А дети? Как им объяснишь? Неужели в Польше нет какой-нибудь маленькой деревушки, где бы она смогла укрыться? И эта ненависть. Она ощущала такую сильную ненависть, что не могла дышать. Не чужую. Свою собственную! Ненависть сделала ее уродливой! Уродливой!
Это несправедливо.
Все произошло так быстро, она была столь счастлива и столь неосмотрительно влюблена, совершенно ненаучно влюблена. Но как она могла так облегчить им задачу!
Она начала думать о них так, как всегда думала Бланш.
Как о диких зверях.
На кладбище была кромешная тьма, но она знала дорогу.
Здесь пять лет назад похоронили Пьера и всего лишь полтора года назад похоронили его отца. Темнота была промозглой, накрапывал дождь, ей пришлось немного поискать, а это было непросто: посыпанные гравием дорожки сделались глинистыми, и никакой травы.
Наконец она нашла могилу.
Камень установили совсем недавно, на нем – имена Пьера и его отца. Она, не раздумывая, бросилась на колени, сразу почувствовав прикосновение ледяной глины. Это было унизительно, она хотела подняться, но передумала. Было темно, и никто не мог увидеть ее в такой нелепой ситуации. Пусть эта нелепость послужит ей наказанием. Ведь она виновата. Бессмысленно пытаться не чувствовать вины.
Могила была узкой, и Мари вдруг с ужасом осознала, что гробы ставились друг на друга, и гроб Пьера стоит внизу, а гроб отца – над ним, и что ей самой, если ей дозволят покоиться здесь, если ей дозволят покоиться здесь! не достанется места возле Пьера Кюри. Это просто непристойно, она почувствовала, как подступает тошнота, это невероятно, этого нельзя допустить.
Ее отлучили и от Пьера тоже.
Дело вовсе не в свекре. Его она любила. Но теперь понимала, что отстранена и здесь. Свекор умер в марте 1910 года, до того, как все это разразилось, и теперь он располагается над ее любимым Пьером, словно крыша.
Смерть карает ее, смерть тоже считает ее грешницей.
Ей стало плохо. Она изо всех сил пыталась сдержать тошноту, но не сумела, ее вырвало, правда она повернула голову так, чтобы рвота выплеснулась рядом, а не на могилу Пьера. Там была в основном желтая слизь, ведь в последние сутки она ничего не могла есть. Мари попыталась разобрать надпись на могиле, но в темноте у нее ничего не получалось. Здесь, возможно, будет покоиться и она. Что же тут будет написано? Шлюха Мари, презираемая французским народом, позор своих детей. Тем все и закончится: снизу гроб Пьера, над ним – его отца, гробы настоящих Кюри, а над ними – гроб полячки. Не будет даже объятия последней близости. Что там Бланш когда-то говорила о любви? Это бы все объяснило. Не о том, что есть, а о том, как должно быть.
Да, теперь она вспомнила. Я всегда буду рядом с тобой.
И, стоя в темноте на коленях у могилы в Со, она осознает, что этого не будет никогда. Другое, чужое тело, тело старого мужчины, накрывает ее любимого так, что она никогда не сможет покоиться рядом с ним. Таково наказание грешнице. Дождь полил сильнее, она почувствовала, что дрожит всем телом. Она тихо зашептала: Пьер, Пьер, Пьер, но он не приходил ей на помощь, он молчал. Благодетеля не было. Даже Бланш, с которой можно поплакать. Всеми покинутая, она стояла на коленях в глине на черном кладбище, во враждебном мире, который никогда ее не простит, любимый Пьер был мертв, и ей нельзя будет упокоиться рядом с ним, даже Бланш не могла утешить ее своими наставлениями, Мари осталась в полном одиночестве, от Поля не было никаких вестей, неужели она перестала быть рядом с ним, он тоже раздавлен, но он воскреснет, израненный, но не уничтоженный, а для нее все было кончено. Падение свершилось, с наивысшей точки вниз, в глубочайшую темноту моря.
Если бы она только могла умереть, но ведь есть дети.
Она настолько замерзла, что не могла думать. Могильный камень казался широким и грозным, не защищающим, по-прежнему никаких знаков, никаких весточек от Пьера. Зачем ему отвечать ей? Может быть, он знает о том, что произошло.
Надо возвращаться обратно.
Amor omnia vincit, говорила ей обычно Бланш. Дождь усилился. Она поднялась, пошла, потом побежала, согнувшись, мелкими-мелкими шажками побежала домой, к тому, что, вероятно, не могло уже сделаться хуже. Это – низшая точка, думала она со своего рода надеждой.
Но полной уверенности у нее не было.
Через час после полуночи она вернулась обратно к наконец-то милосердно заснувшим детям.
6
Она проснулась около десяти от звука бьющегося оконного стекла; кто-то бросил в окно камень.
Крики. Она поняла, что кричат – все то же: иностранная шлюха. Она поспешно увела детей на кухню, окна которой не выходили на улицу, дала им поесть и убрала осколки стекла.
Она заставила себя позвонить по телефону.
Около трех часов из Парижа приехали Маргерит Борель, которая позднее будет вспоминать в своих мемуарах, что «дрожала от негодования», и Андре Дебьерн, чтобы спасать Мари с детьми из Со; до них дошел крик о помощи доведенной до отчаяния и опасавшейся за жизнь детей Мари. Собравшиеся перед домом люди кричали: «Пошла прочь, шлюха!» или: «Пошла прочь, иностранка, ворующая женатых мужчин!».
Дом был практически окружен, но ворваться внутрь никто не пытался. Когда прибыли двое друзей, послышались отдельные ругательства, но перед экипажем толпа расступилась. Друзья вошли в дом. Мари сидела на кухне, прижимая к себе детей. Они держались за ее руки. Лицо Мари было пепельно-серым, и она казалась очень старой, ее платье было перепачкано чем-то вроде засохшей глины.
Маргерит вспомнила, что десять дней назад Мари присудили Нобелевскую премию, но говорить об этом не захотела.
Они сказали лишь, что Мари необходимо уехать отсюда. Она не ответила, но подчинилась.
Им удалось безо всяких инцидентов прорваться через окружение, которое скорее с молчаливой ненавистью наблюдало за бегством полячки. В экипаже по пути обратно в Париж Мари сидела неподвижно, точно каменная статуя, упрямо повернув голову к окну и мелькавшему за ним ландшафту. Ее заверили, что теперь они с детьми будут в полной безопасности у супругов Борель, в их квартире.
Они прибыли на место. Молча, с белым лицом, словно окаменевшая, но сохраняя достоинство, Мари проследовала через двор и вошла в свою новую тюрьму.
Через три дня, поздно вечером, под защитой темноты, она посетила свою собственную квартиру, чтобы узнать, что стало с Бланш.
Я все время со страхом ждала, – было первым, что сказала Бланш, – просто не находила себе места от беспокойства за тебя, Мари. У меня все есть.
Еда у нее была.
Они долго вместе плакали; Мари подняла Бланш и сидела, держа ее в объятиях, словно Бланш была сбежавшей собачкой, которую отыскали и чье тепло могло принести утешение.
Им было что рассказать друг другу.
Ходили слухи, что Поля втянули в дуэль с каким-то журналистом; они оба выстрелили в воздух, и все это было смехотворным, но честь дуэлянтов была восстановлена. Министр образования вызвал Эмиля Бореля, работавшего преподавателем в Эколь Нормаль, и сделал ему реприманд за то, что он предоставил свое жилье, расположенное во флигеле возле института, лицу, которое позорит учебное заведение. Министр был невероятно сердит и потребовал, чтобы Борель вышвырнул Мари из своей квартиры, угрожая понижением в должности; Борель, однако, категорически отказался удалить Мари. Вмешался и отец Маргерит Борель, потребовавший, чтобы дочь покончила с этим скандалом: «Скандалы оставляют пятна, как растительное масло»; но Маргерит тоже отказалась. Как бы то ни было, все знают, сказал отец, что совет министров в ближайшие дни рассмотрит это дело и что есть мнение предложить Мари Склодовской покинуть страну. Мари наверняка могла бы получить место учителя, а возможно, и профессорскую должность в Польше. После продолжительной ссоры отец в ярости запустил ботинком в дверь.
Сплошная грязь, одна нелепость.
Мари качала Бланш на руках. Так они просидели всю ночь. С приходом рассвета Бланш уснула, и Мари уложила ее в постель; Бланш ведь была легонькой, как ребенок.
Потом Мари начала разбирать почту.
Там было письмо из Швеции от Сванте Аррениуса, члена правления Королевской академии наук, которая несколько недель назад присудила Мари Нобелевскую премию по химии, ее вторую Нобелевскую премию, правда, на этот раз присужденную ей одной.
В отличие от предыдущих писем, тон этого письма был холодным.
«Во французской газете было опубликовано приписываемое Вам письмо, которое широко перепечатывается прессой и здесь. По этой причине я посоветовался с коллегами относительно того, как нам следует действовать в сложившейся ситуации. Все указывает, смею надеяться, ошибочно, на то, что опубликованная переписка не является чистейшей фабрикацией.
Мои коллеги пришли к единодушному мнению о нежелательности Вашего присутствия здесь 10 декабря. Поэтому я прошу Вас оставаться во Франции; никому не известно, что может произойти во время вручения премий.
Если бы Академия полагала, что данное письмо может быть подлинным, она, несомненно, не присудила бы Вам премии, прежде чем Вы представили бы веские доказательства того, что это письмо – фальсификация.
Поэтому я выражаю надежду, что Вы телеграфируете постоянному секретарю К. Ауривиллиусу или мне, что не сможете приехать, а затем напишете письмо и заявите, что не хотите принимать премию, прежде чем удастся доказать, что обвинения в Ваш адрес лишены всяких оснований».
Шведы тоже не хотят иметь с ней дела.
Дошло и туда. И до них.
Она разбудила Бланш и прочитала ей полный текст письма, совершенно чистым, почти детским голосом.
Они больше не хотят иметь со мной дела, сказала она после долгой паузы. Шведы не хотят, чтобы я приезжала. Они хотят, чтобы я, устыдившись, добровольно отказалась от премии.
– Что ты собираешься делать? – спросила Бланш.
Мари не ответила, а просто пошла на кухню и приготовила им легкий завтрак из того, что имелось в доме. Потом Бланш долго говорила с ней и, по ее собственным словам в «Книге», почти не сдерживаясь, во всяком случае, в непечатных выражениях охарактеризовала этих шведских бабников и задницу из Королевской академии наук, посмевших критиковать ее подругу.
– Мне не в чем себя упрекнуть, – прошептала в ответ Мари, едва слышно, словно на пробу, точно пытаясь проверить, выдержат ли слова.
Мне не в чем себя упрекнуть.
– Так и ответь, – парировала Бланш. И Мари написала письмо к члену академии Йёсте Миттаг-Леффлеру, подчеркнув, что премия присуждена ей за открытие радия и полония и что она намеревается получить эту премию в ранее оговоренном месте 10 декабря 1911 года.
Так и вышло.
Она прибыла в Стокгольм утром 10 декабря, под серым моросящим дождем, и в тот же вечер приняла премию из рук Густава V. Во время церемонии Мари двигалась с достоинством, но скованно, точно испуганно, и все отметили, что у нее серое лицо и она производит впечатление изможденной и больной. Согласно газете «Свенска Дагбладет», она была «одета, так и тянет сказать, в подчеркнуто простой черный костюм, безо всяких украшений». Никакой глины. Когда она принимала премию, «аплодисменты переросли в овацию». По мнению газеты «Дагенс Нюхетер», она поблагодарила короля с «едва ли отвечающим придворному этикету поклоном».
Она собралась с силами, ни на секунду не позволяя себе поддаться воздействию шепотов или намеков.
Если газеты и знали, то молчали. Она согласилась лишь на одно интервью и все время сидела рука об руку с дочерью Ирен, сопровождавшей ее в Стокгольм. Дело происходило в «Гранд-Отеле». Газетчики обращались с ней, как с королевой. Она раз за разом повторяла, что больна и очень устала, поэтому только одно интервью. В тот же день, когда вручалась премия, 10 декабря, газета «Дагенс Нюхетер» посвятила целую страницу написанному журналисткой Эллин Вегнер репортажу о ситуации в Англии, то есть о борьбе женщин за право голоса и особенно о так называемой битве суфражисток 21 ноября. Битва была кровавой. Когда был затронут этот актуальный вопрос, Мари ответила, что она, «естественно, феминистка», но, к сожалению, из-за своей научной работы не имела времени заняться политической борьбой. Дочка описывается как симпатичная и участливая. Всех волновало здоровье Мари, газеты писали, что у нее болезненный вид и что однажды по ее лицу пробежала улыбка, и это было волшебно. Миттаг-Леффлер без малейшего напряжения произнес поздравительную речь. В Нобелевской лекции Мари представила обзор пятнадцатилетней истории радиоактивности. Она произнесла прочувствованные слова в адрес своего мужа Пьера, подчеркнув также, что результаты исследования являются ее собственными и что эта премия присуждена ей именно за них.
В газетах ни малейшего намека на бурю в Париже. Однажды вечером Мари была почетным гостем на ужине для трехсот женщин – активисток борьбы за право голоса; Мари все-таки получила две из четырех Нобелевских премий, на тот момент присужденных женщинам, другими двумя лауреатами были Берта Зуттнер и Сельма Лагерлёф. Три часа ее окружало тепло этих женщин, если бы я только могла подольше побыть в этом свободном от позора состоянии.
Затем Мари вернулась в Париж и почти сразу заболела. Короткая зимняя неделя в Стокгольме была холодным и чистым глотком свободы, но чистота – это не для нее. Чистота просуществовала только краткое, отвоеванное силой мгновение, я оказываю сопротивление, одну неделю в Стокгольме, встань и иди, и почти невероятным усилием Мари действительно встала и пошла. Но ничего, абсолютно ничего не изменилось в том аду, куда ей предстояло вернуться и где лишь со страхом ожидающая Бланш, торс в деревянном ящике, могла принести утешение, поскольку она, возможно, прикоснулась к тайне любви, если таковая существует, но, быть может, быть может, она все-таки существует, о, только бы она существовала.
7
С декабря 1911 года начинается бегство Мари, продолжавшееся почти три года.
29 декабря она попала в больницу, и у нее обнаружили лучевые поражения в области матки, почек и мочеточников; их сочли старыми и, в большинстве случаев, залеченными. В январе она была очень слаба и написала завещание, в котором определила, куда поместить имевшийся в ее распоряжении радий. Она потеряла в весе, и в марте доктор Чарльз Уолтер ее прооперировал, удалив пораженные участки, причинявшие особую боль и беспокойство.
В письме к Бланш она с юмором замечает, что теперь и у нее начались ампутации, и предсказывает, что они обе закончат жизнь в виде крохотных миниатюр, помещенных в общий деревянный ящик.
Мари весит 51 килограмм. Французская пресса, несмотря на ее попытки скрыть свое местонахождение, разузнала о ее тяжелом положении и намекала, что Мари находится в больнице, потому что забеременела от Поля Ланжевена и, вероятно, хоть и не точно, сделала аборт. Возможно, неудачно. Или, может быть, она намеревается тайно рожать.
Врачи публикуют в «Ле Темс» резкое опровержение. Но это не меняет дела. Мари просто не знает, что ей делать.
На последней неделе марта она уезжает в маленькую деревню под названием Брюнуа, именуясь там мадам Длуска. Дети ее навещают. Мари находит этот позор невыносимым, но никак не может смириться с ним, по-прежнему отстаивая свое право любить. В июне ее перевозят в Тонон-ле-Бэн, местечко у подножия французских Альп, для прохождения на минеральных источниках курса гидротерапии, помогавшей, как считалось, при пиелонефрите.
Где же ты, любимый?
Она ощущает тупую боль в яйцеводе с двух часов ночи и до середины дня, когда боль несколько стихает. Она называет себя мадам Склодовская и заклинает всех держать место ее прибежища в тайне.
Мари, Мари, этому никогда не будет конца.
В мае до нее доходит письмо от английской подруги Герты Айртон, которая уговаривает ее бежать в Англию. Мари решает ехать. Герта Айртон – физик и суфражистка, Мари же считает себя человеком, посвятившим свою жизнь науке. Миром ее политических интересов всегда была Польша, и только.
Вдруг какой-то толчок сквозь земную кору: землетрясение? что-то случилось? и снова тишина. Полное спокойствие.
Герта очень переживала за Мари. Тебе необходима защита, тишина и покой, писала она.
Тишина и покой? Если борьба англичанок за право голоса достигла наивысшего накала, то эпицентр бури находился, вероятно, именно в Лондоне.
Герта Айртон была физиком с международной известностью, она внесла решающий вклад в вопросы электромагнитных волновых колебаний и волнового феномена в осциллирующей воде; во время Первой мировой войны эти исследования приобрели практическое значение, когда ее изобретение, the Ayrton Fan[47]47
Опахало Айртон (англ.).
[Закрыть], способствовало более эффективному удалению попадавшего в окопы боевого отравляющего газа. Она была одним из лидеров английского движения суфражисток, тогда особенно яростно боровшихся за право голоса для женщин. Мари, конечно, подписала в свое время петицию в поддержку заключенных лондонских суфражисток, проводящих голодовку, но теперь она была всего лишь скандальной беженкой, стремившейся скрыть свой позор.
Она поехала в Англию, чтобы обрести тишину и покой, а попала в эпицентр бури.
В эти летние месяцы 1912 года Бланш заканчивает «Черную книгу».
Мари тоже пишет, в письме к Бланш есть странные слова: у меня теперь отличное укрытие благодаря тому, что я нахожусь посреди бури, когда всё важнее, чем Мари Кюри. Она пишет из квартиры Герты Айртон, служившей временным прибежищем для суфражисток, которые так долго голодали в тюрьме, что доводили себя едва ли не до смерти, и поэтому их, из политических соображений, выпускали отъедаться, чтобы затем снова вернуть в тюрьму.
Я не думаю, что они осмелятся снова арестовать нашего главного лидера, миссис Панкхерст[48]48
Панкхерст Сильвия Эстела (1882–1960) – играла видную роль в рабочем движении Англии, занималась публицистикой.
[Закрыть], писала Мари, она измождена, буквально при смерти, но в прекрасном настроении лежит вместе с тремя другими подругами на матрасе в библиотеке Герты. Это – война. Герта подкармливает их, и когда они вновь обретают силы, их ждет следующая военная акция. Они выходят на улицу группами, максимум по двенадцать человек, поскольку, согласно закону, более многочисленные выступления запрещены. Такая группа проводит демонстрацию на юридически разрешенном расстоянии от следующей, то есть не менее чем в пятидесяти метрах от следующей группы, и так далее, и так далее. Этих женщин, среди которых много пожилых и физически слабых, полиция, невзирая ни на что, с редкой жестокостью избивает и сажает в тюрьмы. В тюрьме они снова протестуют, объявляя голодовку, чтобы их до наступления смерти выпустили милосердные политики, желающие, чтобы те умерли не в тюрьме, а за ее пределами. Потом товарищи вновь возвращают их к жизни.
Дочь Герты Барбара, одна из наиболее преследуемых, бежала этой весной во Францию, так замаскировавшись при помощи длинных благонравных юбок, что полиция не смогла заподозрить в ней суфражистку. Теперь она, правда, опять в тюрьме. Все обитатели квартиры жестоко изувечены полицией, но не теряют бодрости. Двое полицейских стоят перед парадной, и двое – у черного хода. Этих женщин вносят и выносят на носилках, правда в основном вносят.
На улицу они чаще выходят сами, вновь возвращаясь к демонстрациям, тюрьме и голодовке.
Перед домом постоянно дежурит такси на случай, если миссис Панкхерст придет в голову выбраться на крышу и попытаться бежать: тогда полицейские на такси погонятся за ней. Поскольку она почти не может ходить, риск не столь уж велик.
События последнего полугодия кажутся нереальными. Бланш, думаю о тебе каждый день. Герта говорит, что мне необходимо набрать вес. Она считает, что прекратила работать физиком, и свое предназначение видит теперь лишь в откармливании умирающих товарищей, к которым, к моему великому удивлению, причисляет и меня. Она планирует забрать меня из этого дома на Норфолк-Сквер к морю, в Хайклифф.
Меня никто не узнает. Здесь когда-то жила Джордж Элиот. У меня в голове все перепуталось. Я целую неделю не думала о слове «позор».
В эпицентре урагана жизнерадостное спокойствие. Из письма в письмо Мари пишет, что совершенно сбита с толку. Эта исхудавшая и жизнерадостная миссис Панкхерст! которую Мари кормит с ложечки кашей!
Неужели жизнь бывает такой увлекательной?
Они действительно поехали на море. Герта, должно быть, увидела, что Мари находится на краю пропасти. Мари путешествовала инкогнито.
Они уехали в Хайклифф в августе, чтобы пробыть там два месяца.
8
Она всегда любила побыть у моря в одиночестве.
Уже не такая слабая, как после операции, Мари могла подолгу бродить вдоль берега. Она передвигалась мелкими шажками, чтобы не пробудить боль в нижней части живота; я ковыляю, как старушка, думала она, к тому же еще и искромсанная.
Давно ли она была женщиной? Она помнила, как обнаженной лежала на кровати в Париже, как открывалась дверь, звякали ключи, в полной темноте в потолок бил свет с улицы, – остановка на пути в Ном; и – полное отсутствие страха, почему же все рухнуло? Она лежала, прижавшись к нему, и не существовало никакого завтра: это слово! завтра! Что за стихотворение он ей читал? Мы лежим совершенно спокойно / твоя робость ушла безвозвратно / мы забыли тех, кто нам делал больно / и нет больше никакого завтра – или это она сама читала? Она забыла.
Это первая строфа из какого-то польского стихотворения. Значит, читала она.
В комнате темно. Никакого завтра. В те краткие мгновения, когда бывало лучше всего, она чувствовала именно это.
Неужели только два года назад?
Тогда она была еще молодой и еще красивой женщиной, которая ничего не боялась и делала его сильным.
А теперь?
Несколько коротких месяцев она провела в обществе множества разных женщин, где ее никто не знал и, во всяком случае, не знал о ее позоре; и она словно бы вновь обрела способность дышать. Она была не одна. Раньше она никогда не задавалась вопросом: в чем наивысший смысл, это было само собой разумеющимся. Теперь само собой разумеющимся оно быть перестало.
Миссис Панкхерст с веселым смехом поглощала кашу, у врат смерти! Мари этого не забыть.
Сильный ветер на берегу канала был не услужливым, мягким и дружелюбным, а напористым и задавал другие вопросы, – именно так и должно быть. Все более тяжелые капли дождя больно били ей в лицо. Этот берег не был услужливым. Ей это нравилось. Буря усиливалась, буря с косым дождем, налетевшая с востока, а она брела мелкими шажками вдоль каменистого берега и думала: вот идет очень старая женщина, семенит, но идет.
Это – почти чудо: она идет.
Первая неделя сентября выдалась очень красивой и спокойной. Они с Гертой сидели под каштаном, и Герта сказала вдруг, что не уверена в правильности своего поступка. Она оставила научную работу ради политики, но, быть может, ей следовало поступить, как Мари.
Полностью отдаться науке. Тогда она, возможно, принесла бы больше пользы.
Мари не ответила. Это было абсурдно. Жизнь на службе науки! И она еще сомневается!
В конце сентября осенние бури почти не прекращались.
Теперь Мари спала лучше, боль стихла и подступала только между четырьмя и шестью утра. Она спросила, как получилось, что Герта стала суфражисткой. Что явилось отправной точкой? чем это было вызвано? И тогда Герта рассказала о том, как в семнадцать лет читала Библию.
Ветхий Завет – она была еврейкой – и Книгу Есфири.
Это была первая глава. В ней рассказывалось о пире царя Артаксеркса. Этот Артаксеркс царствовал над ста двадцатью семью областями от Индии и до Эфиопии. Он сделал пир для всех князей своих и для служащих при нем, и пир этот продолжался в течение ста восьмидесяти дней. И царица Астинь сделала также пир для женщин в царском доме царя Артаксеркса. В седьмой день, когда развеселилось сердце царя от вина, он сказал Мегуману, Бизфе, Харбоне, Бигфе и Авагфе, Зефару и Каркасу – семи евнухам, служившим пред лицом царя Артаксеркса, чтобы они привели царицу Астинь пред лице царя в венце царском, для того чтобы показать народам и князьям красоту ее; потому что она была очень красива.
Но царица Астинь не захотела прийти. Царь сильно разгневался и спросил мудрецов, знающих закон и права, как ему поступить. И они ответили ему: «Не пред царем одним виновна царица Астинь, а пред всеми князьями и пред всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса. Потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить: Царь Артаксеркс велел привести царицу Астинь пред лице свое, а она не пошла».
И это стало концом царицы Астинь.
Герта, которую до того, как она поменяла имя, звали Фебе Сара, поскольку она была еврейкой, сочла это несправедливым. Астинь была образцом для подражания. И Герта пришла в ярость.
Неужели все так просто? Неужели жизнь такова, что тебя толкают, словно бильярдный шар кием? Только и всего?
Да, только и всего. Тебя никто никогда не толкал, Мари? – спросила она.
Только голубой свет, ответила та.
До мадам Склодовской, как она называла себя на десятый месяц бегства, дошло письмо от Бланш.
Она читала его в одиночестве, на берегу, и плакала.
На последней неделе сентября она уехала в Париж.
Ей надо было задать Бланш один вопрос, и она знала, что должна торопиться: времени было мало. Возможно, она получит ответ.
2 октября она вошла в комнату Бланш. Та лежала в своем ящике. За ней хорошо ухаживали, но она все равно не могла сдержать слез.
Она так истосковалась, и вот Мари вернулась.
В ту ночь Мари смогла задать важный вопрос, на который вовеки веков не будет ответа, но его все равно необходимо было задать, и она задала его, и в «Красной книге» Бланш оставила ответ, единственный ответ, на который была способна, из-за него эту историю и следовало рассказать: так и было, именно так все и произошло, вот и вся история.