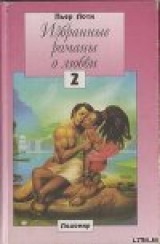
Текст книги "Исландский рыбак"
Автор книги: Пьер Лоти
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
Внезапно Го услышала в себе отголосок забытого чувства – те грусть и страх, которые испытывала, когда ее, совсем маленькую, водили зимой поутру к ранней мессе в церковь Пемполя.
О Париже, однако, она совсем не жалела, несмотря на то что там было много красивого и занимательного. Прежде всего потому, что ей, у которой в жилах текла кровь предков, привыкших носиться по просторам морей, в Париже было тесно. И потом, юная бретонка ощущала себя в этом городе чужачкой, посторонней. У парижанок узкая спина с искусственным прогибом в пояснице, они умеют как-то по-особенному ходить, затянувшись в пояс на китовом усе, а она была слишком умна для того, чтобы пытаться все это копировать. В своих чепцах, заказываемых ежегодно у пемпольской мастерицы, Го чувствовала себя неловко на парижских улицах, девушке и в голову не приходило, что вслед ей часто оборачиваются только лишь потому, что она очень мила.
У некоторых парижанок в манерах сквозило что-то такое, что привлекало ее, но эти женщины были не ее круга. А других, более низкого положения, которые охотно свели бы с ней знакомство, она презрительно держала на расстоянии, считая их недостойными себя. А потому жила без подруг, не общаясь почти ни с кем, кроме отца, занятого делами и редко бывавшего дома. Го не жалела об этой жизни, в которой чувствовала себя одинокой и потерянной, и все же в день приезда была удручена суровостью Бретани, увиденной в разгар зимы. Мысль о том, что еще четыре или пять часов нужно провести в дороге, забираясь все дальше в глубь этого угрюмого края, действовала на нее гнетуще.
Всю вторую половину этого пасмурного дня они с отцом провели в маленьком, растрескавшемся, продуваемом всеми ветрами дилижансе, катившем в сгущающихся сумерках по унылым деревенькам, под кронами похожих на призраки деревьев, покрытых капельками влаги. Вскоре пришлось зажечь фонари, и тогда ничего не стало видно, кроме двух зеленоватых полос бенгальского огня, бегущих впереди лошадей. Это были отблески фонарей на нескончаемых живых изгородях вдоль дороги. Откуда вдруг эта зелень, такая яркая, в декабре?.. Го наклонилась, чтобы лучше разглядеть, и наконец вспомнила: это утесник, вечный морской утесник, что растет вдоль дорог и на скалах и никогда не желтеет в здешних краях. В ту же минуту подул теплый, тоже показавшийся знакомым ветерок, принесший запах моря…
К концу пути стряхнула с нее сон и даже позабавила мелькнувшая мысль: «Ладно, сейчас зима, и уж на сей раз я увижу этих красавцев – исландских рыбаков».
В декабре они должны быть дома – пришедшие из плавания братья, женихи, возлюбленные, родственники, о ком их невесты и подружки так много говорили, гуляя по вечерам, в каждый из ее летних приездов. Вот о чем думала она, сидя в дилижансе, в то время как ноги пробирал холод…
Она действительно увидела рыбаков, и с той поры один из них поселился в ее сердце…
Впервые она увидела его, этого Янна, на следующий день после приезда, на Прощении исландцев,[8]8
Прощения – названия различных паломничеств в Бретани, предпринимаемых в целях прошения удачи или благодарения за удачу; подобные прощения чаще всего являются поводом для народных праздников.
[Закрыть] которое празднуется 8 декабря, в день Евангельской Богоматери, покровительницы рыбаков. Только что закончился крестный ход, и темные улицы еще были увешаны белыми материями, украшенными плющом, остролистом, листвой и зимними цветами.
На этом празднике под угрюмым небом радость была грубой и немного дикой. Радость без веселья, рожденная главным образом беззаботностью и вызовом, физической силой и алкоголем. А над ней тяготела еще более явная, чем когда-либо, всеобщая угроза смерти.
Шумит Пемполь: звон колоколов и песнопения священников; грубые и заунывные песни в трактирах; старинные мелодии, которые матросы поют раскачиваясь; жалобные напевы, пришедшие с моря, а то и неизвестно откуда, из тьмы времен. Группки взявшихся под руки моряков, качающихся из стороны в сторону – из привычки ходить покачиваясь и оттого, что хмель уже ударил им в голову, бросающие на женщин оживленные взгляды после долгого воздержания. Стайки девушек в белых монашеских чепцах, с красивыми, стянутыми корсетом трепещущими грудями, с прекрасными глазами, полными желаний, копившихся целое лето. Старые гранитные дома прячут всю эту людскую сутолоку, а старые крыши рассказывают о своей многовековой борьбе с западными ветрами, несущими водяную пыль, с дождями, со всем, что посылает море; а еще крыши рассказывают разные горячительные истории, случавшиеся под их укрытием, давние приключения, в коих людьми правили любовь и отвага.
На всем происходящем – печать прошлого, все проникнуто религиозным чувством, почитанием стародавнего культа, охранительных символов, чистой и непорочной Богоматери. Возле трактиров – церковь с усыпанной листвой папертью, с зияющим темным дверным проемом, с запахом ладана, мерцающими во мраке свечами и развешанными повсюду благодарственными приношениями моряков. Рядом с влюбленными девушками – невесты пропавших моряков, вдовы потерпевших кораблекрушение, выходящие из поминальных часовен в длинных траурных шалях и маленьких гладких чепцах; потупив взор, молчаливые, они идут среди оживленной, шумной толпы как напоминание о смерти. И здесь же, совсем близко, все то же море – великий кормилец и великий пожиратель сильного племени; оно тоже волнуется, шумит, тоже отмечает праздник…
Все увиденное произвело на Го сложное впечатление. Возбужденная, смеющаяся, она тем не менее чувствовала, как сжимается сердце, а душу наполняет тоска при мысли о том, что край этот вновь стал ее домом – теперь уже навсегда. Она прогуливалась с подругами на площади, где происходили игры и выступали бродячие акробаты, и девушки, показывая то вправо, то влево, называли ей парней из Пемполя и Плубазланека. Возле исполнителей печальных матросских песен остановилась группка рыбаков. Видя их со спины и поразившись гигантскому росту и широченным плечам одного из них, Го проговорила с некоторой даже насмешкой:
– Ну и верзила!
Подразумевая примерно следующее: «Вот будет неудобство в доме для той, что выйдет за него замуж, – муженек таких размеров!»
Он обернулся, будто слышал сказанное о нем, и быстрым взглядом окинул девушку с головы до ног.
«Кто такая? – словно говорил его взгляд. – Носит пемпольский чепец, сама вся элегантная, а я ее никогда не видел».
Он тотчас опустил глаза и отвернулся из вежливости, вновь обратив все свое внимание на певцов; теперь были видны лишь его длинные, черные, курчавые волосы, особенно сильно вьющиеся сзади, на шее.
Без тени неловкости она выспросила у подруг имена многих парней, имя же этого узнать не решилась. Мелькнувший красивый профиль, чудный и немного дикий взгляд живых глаз – темных зрачков на фоне голубоватого опала[9]9
Опал – минерал, гидроокисел кремния; прозрачные и полупрозрачные разновидности используются в ювелирном деле; голубовато-серым цветом характеризуется одна из разновидностей благородного опала.
[Закрыть] белков, – все это взволновало и смутило ее.
Точно, это был тот самый Гаос-сын, о котором она слышала у Моанов, большой друг Сильвестра. Вечером того же дня Сильвестр и он, идя под руку, встретили ее с отцом и остановились для приветствия…
Что до юного Сильвестра, то он очень быстро стал для нее кем-то вроде братишки. Будучи дальними родственниками, они обращались друг к другу на «ты». Поначалу, правда, она стеснялась говорить «ты» этому высокому, чернобородому семнадцатилетнему юноше, но, увидев, что его добрые, мягкие глаза остались совсем ребячьими, уверила себя, будто с самого детства никогда не теряла его из виду. Когда «братишка» появлялся в Пемполе, она оставляла его вечером обедать; такое приглашение ровным счетом ничего не значило, и он ел с большим аппетитом, так как дома ему порой приходилось жить впроголодь.
…Сказать по правде, этот Янн был не очень-то с ней любезен во время их знакомства на повороте серой улочки, сплошь устланной зелеными ветками. Он ограничился тем, что снял шляпу жестом почти робким, хотя и исполненным благородства, потом отвел быстрый взгляд в сторону, словно был не рад встрече, и поспешил пойти своим путем. Сильный западный ветер, поднявшийся во время крестного хода, разбросал по земле ветки самшита и затянул небо темно-серой пеленой… Окунувшаяся в воспоминания Го отчетливо видит: праздничный день на исходе, наступает грустная ночь, вдоль стен развеваются на ветру белые полотнища с приколотыми цветами; шумные стайки «исландцев», этих детей ветра и ненастья, горланя песни, разбредаются по трактирам, спеша укрыться от надвигающегося дождя; перед глазами так и стоит этот высокий парень, раздосадованный и смущенный этой встречей… Как много переменилось в ее душе с той поры!..
И как несхоже то шумное завершение праздника с нынешним спокойствием! Как тих и пустынен Пемполь нынешним вечером, объятый долгими теплыми майскими сумерками, которые удерживают ее у окна – одинокую, мечтательную, очарованную!..
Во второй раз она виделась с ним на свадьбе. Гаос-сын был назначен ей в пару: во время свадебного шествия он должен был вести ее под руку. Поначалу она вообразила, что недовольна этим обстоятельством: идти по улице с этим парнем, на которого из-за высоченного роста все глазеют и который к тому же наверняка не найдется, о чем с ней поговорить по дороге!.. И потом, этот гигант определенно смущает ее своим диковатым видом.
К назначенному часу все собрались, кроме Янна. Время шло, он не появлялся, и уже поговаривали, что пора начинать. В эту минуту она поймала себя на мысли, что только для него принарядилась, что окажись она в паре с любым другим парнем – и праздник был бы испорченным, безрадостным…
Наконец опоздавший появился, тоже одетый по-праздничному, и без всякого смущения извинился перед родителями невесты. А случилось вот что: нежданно-негаданно у берегов Англии приметили большие косяки рыбы, и предполагалось, что сегодня вечером они пройдут у берегов Ориньи. И вот в Плубазланеке стали спешно готовить к выходу в море все, что могло плавать. В деревнях переполошившиеся женщины бросились по трактирам разыскивать мужей и торопить их поскорее взяться за дело, некоторые сами из кожи вон лезли, пытаясь поставить паруса, помочь совершить маневр – словом, объявлен был аврал.
Гаос-сын стоял посреди толпы и, не испытывая ни малейших затруднений, рассказывал о происходящем, сопровождая рассказ только ему свойственными жестами, вращая глазами, а порой расплываясь в красивой улыбке, обнажавшей его белые зубы. Описывая суматоху, он время от времени перебивал себя долгим и очень смешным «у-у-у!». Так делают матросы, когда речь идет о скорости, звук этот похож на мелодичное пение ветра. Ему самому пришлось спешно искать себе замену и уговаривать отпустить его хозяина лодки, к которому он нанялся на зиму. Оттого-то он и опоздал, а поскольку он очень хочет погулять на свадьбе, ему придется потерять свою долю улова.
Рыбаки с полнейшим пониманием отнеслись к рассказанному, никому и в голову не пришло обижаться на Янна. Всем хорошо известно, что в жизни все в той или иной степени зависит от капризов моря, погоды и загадочных миграций рыбы. Пришедшие на свадьбу сожалели только о том, что не были заранее предупреждены и не смогут заполучить – как соседи из Плубазланека – часть богатства, которое сейчас проплывет мимо.
Теперь слишком поздно, что ж, ничего не остается, как только взять под руку девушек. С улицы послышались звуки скрипок, и свадебная процессия весело двинулась в путь.
Поначалу он говорил ей лишь ничего не значащие любезности, какие обычно говорят на свадьбах малознакомым девушкам. Среди пар, участвующих в свадебном шествии, только они были чужими друг другу, остальные оказались родственниками, женихами и невестами. Было и несколько любовных пар – пемпольцы в любви заходят очень далеко, когда моряки возвращаются домой. (Но люди они порядочные и потом женятся.)
В тот вечер разговор между ними вновь зашел о продвижении большого косяка рыбы, и Янн, глядя ей прямо в глаза, неожиданно сказал:
– Во всем Пемполе, да и в целом мире, только вы могли вынудить меня пропустить этот выход в море. Правда, уверяю вас, ни для кого другого я не оставил бы своей ловли, мадемуазель Го…
Вначале она удивилась, что рыбак посмел так говорить с ней, той, которая чувствовала себя на этом празднике немного королевой, но потом слова гиганта совершенно очаровали ее, и она ответила:
– Благодарю вас, месье Янн. Я тоже предпочитаю ваше общество всем другим.
Только и всего. Но с той минуты и до окончания танцев они без умолку говорили, говорили, и голоса их уже звучали тише и нежней…
Танцы под аккомпанемент скрипки продолжались и ночью, партнеры менялись редко. Когда он, вынужденный из приличия потанцевать с кем-то еще, возвращался к ней, они улыбались друг другу, как встретившиеся друзья, и продолжали прежний, очень задушевный разговор. Янн простодушно рассказывал о рыбацкой жизни, о тяготах и заработках, о еще недавнем тяжелом положении в родительском доме, когда нужно было растить четырнадцать маленьких Гаосов, для которых он – старший брат. Теперь-то они выбились из нужды, в особенности благодаря находке – обломку погибшего судна, который его отец встретил в Ла-Манше и за который выручил десять тысяч франков, не считая пошлины. Это позволило им надстроить второй этаж в доме на окраине Плубазланека, на самом краю земли, в деревушке Порс-Эвен, возвышающейся над Ла-Маншем. Из окон их дома открывается очень красивый вид.
– Трудное ремесло у рыбаков, – говорил он. – С февраля надо уходить туда, где так темно и холодно и море такое неспокойное…
…Го, глядя, как майская ночь опускается на Пемполь, медленно перебирала в памяти подробности их разговора, которые запомнила, казалось, на всю жизнь. Если этот парень и думать не думал о женитьбе, для чего же тогда рассказывал ей так много о своей жизни, для чего тогда она слушала его, будто невеста? Но нет, он не похож на тех, кто посвящает всех вокруг в свои дела…
– И все-таки ремесло вполне хорошее, – продолжал он. – Что до меня, то я бы никогда его не сменил. Иной год я в путину зарабатываю восемьсот франков, а бывает, и тысячу двести. Получаю их по возвращении и несу матери.
– Несете матери, месье Янн?
– Ну да, всегда все сполна. У нас, рыбаков, так принято, мадемуазель Го. (Он говорил об этом как о чем-то совершенно естественном.) Так вот, у меня, вы не поверите, почти никогда нет денег. По воскресеньям, когда я иду в Пемполь, мама дает мне немного. Так же и во всех других случаях. В этом году, например, отец справил мне новую одежду, в которой я сейчас. Без нее я ни за что не явился бы на свадьбу. О нет, ни за что я не встал бы с вами в пару в моем прошлогоднем наряде.
Насмотревшаяся на парижан, она не считала новый костюм Янна очень элегантным: пиджак явно коротковат, под ним жилет какого-то старомодного покроя. Но грудь, которую они облегали, была безупречно красива, и танцор, несмотря ни на что, выглядел весьма внушительно.
Всякий раз, говоря что-то, он с улыбкой смотрел ей в глаза, желая понять, что она об этом думает. И каким добрым и честным был его взгляд, когда он рассказывал о своем житье-бытье, словно предупреждая: он совсем не богат!
Она тоже улыбалась, глядя ему прямо в лицо; говорила она немного, но внимала ему всей душой, все больше удивляясь. Какие разные качества уживались в этом человеке: диковатая суровость и ласковое ребячество. Его низкий, да к тому же и грубый голос становился все более звонким и мягким, для нее одной рыбак ухитрялся делать его в высшей степени нежным, словно приглушенная музыка струнных инструментов.
Есть что-то особенное, непривычное в этом громадном парне с непринужденными манерами и устрашающей внешностью: с ним в семье продолжают обращаться как с малым ребенком, а он находит это вполне нормальным; он ездил по свету, бывал в разных переделках, подвергался опасностям – и сохранил полную и уважительную покорность родителям.
Она сравнивала его с другими, тремя-четырьмя парижскими щеголями – приказчиками, писаками или что-то в этом роде, – которые преследовали ее своим обожанием из-за денег. Этот казался ей лучшим из всех, кого она знала, и самым красивым.
Чтобы еще больше сблизиться с ним, она рассказала, что тоже не всегда жила в достатке, как сейчас, что отец ее начал с того, что рыбачил в исландских водах, и сохранил к рыбакам огромное уважение. Она помнит, как в детстве бегала босиком по песчаному берегу, после смерти бедной матери…
…О, эта праздничная ночь, дивная ночь, единственная и решающая в ее жизни! Она уже далека, ведь тогда был декабрь, а теперь май. Все тогдашние лихие танцоры сейчас ловят рыбу где-то в исландских водах. Там, на огромном пустынном пространстве, под тусклым солнцем светло, а на бретонскую землю медленно спускается тьма.
Го все сидела у окна. Площадь Пемполя, почти со всех сторон окруженная старинными домами, с приходом ночи становилась унылой, глубокое безмолвие царило вокруг. Еще светящаяся небесная пустота над домами, казалось, прогнулась, поднялась и еще более отделилась от всего земного, границей которого теперь, в этот сумеречный час, были ломаные черные силуэты островерхих и ветхих крыш. Порой где-то захлопывались дверь или окно; старый моряк нетвердой походкой вышел из трактира и побрел куда-то по темным улицам. Запоздавшие девушки возвращались с прогулки с букетиками майских цветов. Одна из них, знакомая Го, пожелала ей доброго вечера и протянула букет боярышника, словно для того, чтобы та вдохнула его аромат. Белые цветы еще некоторое время виднелись в прозрачной темноте. Воздух был напоен легкими ароматами: сады и дворы источали запах цветущей жимолости, вьющейся по гранитным стенам, а со стороны порта доносился едва уловимый запах водорослей. Последние летучие мыши рассекали воздух бесшумно, словно существа нереальные.
Много вечеров провела Го у окна, глядя на унылую площадь, думая об ушедших в море рыбаках и все вспоминая и вспоминая тот праздник…
…Под утро сделалось очень жарко, и у многих стала кружиться голова. Она вспоминала, как он танцевал с другими – девицами и женщинами, с которыми его, быть может, связывала долгая или мимолетная любовь, вспоминала презрительную снисходительность, с которой он отвечал на их зов… С ними он был совсем иным!..
Танцевал он великолепно: стройный, словно дуб из строевого леса, он вальсировал с легкостью и благородной грацией, откинув назад голову. Темные курчавые волосы слегка падали на лоб и чуть шевелились от ветра. Го, сама довольно высокая, чувствовала, как они касаются ее чепца, когда Янн наклонялся к ней, чтобы крепче держать во время быстрых танцев.
Иногда он знаком указывал на свою младшую сестру Марию и Сильвестра, жениха и невесту, танцевавших вместе. Он по-доброму смеялся, глядя на них, таких юных, сдержанных, делающих реверансы и с выражением робости на лице тихо говорящих друг другу слова, без сомнения, очень приятные. Смельчаку и гуляке, коим он теперь заделался, весело было глядеть на этих наивных детей. Украдкой они с Го обменивались многозначительными улыбками, словно бы говорящими: «Как милы и забавны наши младшие!..»
К концу праздника посыпались поцелуи: целовались родственники, женихи и невесты, целовались любовники – и выглядели при этом, несмотря ни на что, людьми чистыми и добродетельными, – целовались прилюдно, в губы. Он, разумеется, не поцеловал ее: такое нельзя себе позволить с дочерью месье Мевеля, разве что он чуть крепче прижимал ее к своей груди, когда они танцевали последние танцы, а она не противилась, наоборот, влекомая душевным порывом, доверчиво прильнула к нему. В этом внезапном головокружении, сильном и упоительном, чувственность двадцатилетней девушки тоже играла свою роль, но первым все же заговорило ее сердце.
– Видали бесстыдницу, как она на него смотрит? – шепталась стайка красоток, целомудренно прикрывших глаза светлыми или темными ресницами. Все они имели по одному, а то и по два любовника среди танцующих. Она действительно часто и подолгу смотрела на него, но ее извиняло то, что он был единственным из молодых людей за всю ее жизнь, кому она уделила внимание.
Ранним морозным утром, когда гости стали расходиться, они простились как-то по-особенному, как суженые, которые завтра увидятся. Возвращаясь домой с отцом, она пересекала ту же самую площадь, ничуть не уставшая, бодрая и веселая, с восторгом вдыхая холодный воздух. Ей нравились морозный туман и унылая заря, все вокруг казалось дивным и пленительным.
…Майская ночь уже давно наступила; одно за другим, чуть поскрипывая, закрылись окна. Го все сидела на прежнем месте. Последние редкие прохожие, различая в темноте ее белый чепец, должно быть, думали: «Эта девица наверняка мечтает о своем ухажере». Это была правда, она действительно мечтала о нем – и ей хотелось плакать. Белые зубки беспрестанно покусывали красиво очерченную нижнюю губу. Глаза не мигая смотрели в темноту, но ничего из реальных предметов она не видела…
…Почему он не вернулся после свадьбы? Что в нем переменилось? Как-то раз она повстречала его, но он, по обыкновению, быстро отвел глаза. Похоже, он избегал ее.
Часто она говорила об этом с Сильвестром, тот тоже ничего не понимал.
– И все-таки, Го, ты именно за него должна выйти замуж, – говорил Сильвестр, – если, конечно, твой отец не будет против. Ты не найдешь в округе никого более подходящего. Прежде всего, скажу тебе, он парень благоразумный, хотя на первый взгляд этого не скажешь, и выпивает редко. Бывает, правда, он немного упрямится, но, в сущности, характер у него мягкий. Ты и представить себе не можешь, какой он добрый. А моряк какой! Каждый сезон капитаны отвоевывают его друг у друга…
Она была уверена, что получит благословение отца, ведь он никогда не шел наперекор ее желаниям. А богат Янн или нет – ей все равно. Такому моряку достаточно небольшой суммы на полгода каботажного плавания, и он станет капитаном, которому все судовладельцы захотят доверить свои суда.
И еще ей безразлично, что он такой огромный: для женщины слишком большой рост может быть недостатком, а мужчину это совсем даже не портит.
Осторожно, стараясь не выдать себя, она порасспросила о нем местных девушек, больших знатоков всех любовных историй. Выяснилось, что Янн, никому не давая никаких обещаний, не выказывая предпочтения ни одной, гулял направо и налево, наведывался к благоволившим к нему красоткам и в Лезардриё, и в Пемполе.
Однажды поздним воскресным вечером она видела, как он прошел мимо ее окон в обнимку с некоей Жанни Карофф – девицей, конечно, красивой, но с дурной репутацией. Это причинило Го нестерпимую боль.
Ее уверяли, что он очень вспыльчив, рассказали, как однажды вечером, подвыпив в одном из пемпольских трактиров, где, по обыкновению, развлекаются рыбаки, он швырнул массивный мраморный стол в дверь, которую ему не пожелали открыть…
Все это она ему прощала: известно, какими иной раз бывают моряки, когда на них находит… Но если у него доброе сердце, зачем он искал знакомства с ней, когда она думать о нем не думала? Чтобы потом бросить? Для какой надобности всю ночь не сводил с нее глаз, мило и, казалось, так искренне улыбался, таким нежным голосом откровенничал с ней, будто с невестой? Теперь она уже не в силах побороть себя и полюбить другого. Давно, в детстве, ей обычно говорили, когда хотели отругать, что она плохая девчонка, упрямица каких поискать. Такой она и осталась. Красивая, пожалуй, слишком серьезная, с виду высокомерная, не поддающаяся ничьему влиянию, она в глубине души осталась прежней.
Последовавшая за свадьбой зима прошла для Го в ожидании встречи, но Янн даже не пришел попрощаться с ней перед уходом в море. Теперь его здесь не было, и для нее все как бы перестало существовать; время, казалось, замедлило свой бег до осени, когда нужно будет все прояснить и покончить с этим…
…На часах мэрии пробило одиннадцать – так, по-особенному, колокола звучат лишь тихими весенними ночами.
В Пемполе одиннадцать часов – время позднее. Го затворила окно и зажгла лампу, чтобы лечь спать…
А что, если Янн просто-напросто диковат? Или же считает ее слишком богатой и опасается, тоже из-за гордости, что ему откажут?.. Ей хотелось так прямо у него и спросить, но Сильвестр полагал, что этого делать нельзя, что негоже молодой девушке вести себя столь напористо. В Пемполе и так уже осуждают ее слишком гордое выражение лица и манеру одеваться…
…Она снимала одежду с той рассеянной медлительностью, которая свойственна погруженным в мечты девушкам: вначале муслиновый чепец, потом пригнанное по городской моде элегантное платье, которое кое-как бросила на стул. Затем сняла длинный девичий корсет, вызывавший пересуды своим парижским покроем. Ее фигура, освободившись, сделалась еще более совершенной, приняла свои естественные очертания, полные и плавные, как у мраморных статуй; движения девушки изменились и стали обворожительными.
Маленькая лампа, единственная, горевшая в этот поздний час, чуть таинственно освещала ее плечи и грудь, ее восхитительные формы, которые никогда не ласкал ничей взор и которые, конечно, не достанутся никому, так и увянут, никем не виденные, потому что Янну она не нужна…
Она знала, что у нее красивое лицо, но она не подозревала о красоте своего тела. Надо сказать, что в этом районе Бретани у дочерей исландских рыбаков такая красота не редкость. Ее почти не замечают, а самые неразумные из девиц, вместо того чтобы выставлять ее напоказ, стыдятся даже приоткрыть ее для чьего-либо взора. Только утонченные горожане придают большое значение красоте тела и стремятся запечатлеть ее в камне, металле или на полотне…
Она принялась убирать на ночь волосы, уложенные в виде корзиночек над ушами, и две тяжелые косы упали ей на спину, словно змеи. Она уложила их на макушке короной – так удобно спать – и сделалась похожей, со своим прямым профилем, на весталку.[10]10
Весталка – жрица храма Весты в Древнем Риме.
[Закрыть]
Она не опустила рук и, покусывая нижнюю губу, продолжала теребить пальцами светлые косы – словно ребенок, который треплет игрушку, думая совсем о другом; затем, вновь уронив косы, она забавы ради принялась быстро-быстро их расплетать; вскоре волосы покрыли ее всю до пояса, и она стала похожей на лесную нимфу.
Но сон все-таки пришел к ней, невзирая на муки любви и желание плакать; внезапно она бросилась на кровать, пряча лицо в шелке волос, раскинувшихся теперь словно покрывало…
В своей хижине, в Плубазланеке, бабушка Моан тоже в конце концов заснула чутким сном стариков с думами о своем внуке и смерти.
В тот же самый час на борту «Марии», в полярных водах, очень неспокойных, два желанных человека, Янн и Сильвестр, распевая песни, в веселом расположении духа ловили рыбу при неугасаемом свете дня…
Примерно месяц спустя. Июнь.
Над Исландией стояла та редкая погода, которую моряки называют «белое безмолвие»: в воздухе ни малейшего движения, словно все ветры разом обессилели, стихли.
Небо было затянуто густой беловатой пеленой, темнеющей к горизонту и становящейся свинцово-серой с блеклыми сотенками олова. А внизу от недвижных вод исходило мутное сияние, от него болели глаза и по телу пробегал холодок.
В этот раз муаровые переливы играли на поверхности моря – легкие разводы, похожие на те, что получаются, если подуть на зеркало. Казалось, все блестящее водное пространство покрыто еле различимыми узорами, они сплетались друг с другом, видоизменялись и, мимолетные, скоро исчезали.
Нескончаемый вечер или нескончаемое утро – определить невозможно: солнце, больше не указывающее на время суток, постоянно находилось в небе, главенствуя в этом сиянии неживой природы; оно почти не имело очертаний и теперь казалось огромным благодаря мутному гало[11]11
Гало – светлое кольцо вокруг Солнца или Луны, возникающее вследствие преломления света в ледяных кристалликах в облаках и туманах.
[Закрыть] вокруг себя.
Янн и Сильвестр, сидя рядом, ловили рыбу и напевали бесконечную песенку «Жан-Франсуа из Нанта». Сама ее монотонность веселила их, и, искоса поглядывая друг на друга, они смеялись детской забаве: каждый новый куплет старались спеть с особенным задором. Соленая свежесть румянила им щеки, полной грудью вдыхался девственный бодрящий воздух – источник жизненных сил.
Однако многое вокруг выглядело безжизненным – то ли уже отжившим, то ли еще не созданным: свет не нес с собою ни малейшего тепла, неподвижные предметы словно навеки застыли под взглядом огромного призрачного глаза, который зовется солнцем.
«Мария» отбрасывала на воду длинную тень, какая бывает вечером; тень казалась зеленой на гладкой, отражающей белизну неба поверхности. На всем затененном, матовом участке сквозь прозрачную воду можно было видеть, что творится на глубине: бесчисленные рыбы, мириады и мириады, похожие одна на другую, медленно скользили в одном направлении, словно какая-то цель влекла их в беспрестанное путешествие. Это была треска; она передвигалась косяком, рыбы тянулись друг за другом, плыли параллельно друг другу, точно серые штрихи, и без конца сотрясались быстрой дрожью, из-за чего все это скопление немых жизней казалось какой-то текучей массой. Иногда, резко ударив хвостом, рыбы одновременно поворачивались, сверкая серебряным брюшком; потом другие рыбы делали то же самое, и по косяку прокатывались медленные волны; создавалось впечатление, будто тысячи стальных клинков разом высекли под водою по маленькой молнии.
Солнце, уже очень низкое, опустилось еще ниже – значит, наступил вечер. По мере того как светило спускалось к свинцовому горизонту, оно становилось желтым, его диск вырисовывался более отчетливо, более реально, на него уже можно было смотреть, как смотрят на луну.
Создавалось впечатление, что солнце не так уж удалено в пространстве; казалось, доплыви на судне всего-то до горизонта – и вот он, большой печальный шар, парящий в воздухе в нескольких метрах над водой.
Лов шел бойко; в спокойной воде можно было ясно разглядеть, как происходил клев: треска подплывала, жадно хватала приманку, затем, почувствовав себя на крючке, слегка встряхивалась, словно для того чтобы понадежнее закрепиться. В следующий миг рыбаки обеими руками быстро выдергивали удочки и кидали рыбу тому, кто должен был ее выпотрошить и засолить.
Флотилия пемпольских судов, рассеянная по зеркалу моря, оживляла пустынный пейзаж. Кое-где вдалеке виднелись небольшие паруса, поднятые, несмотря на полный штиль, больше для вида и выделявшиеся своей белизной на фоне серого горизонта.
В тот день ремесло исландского рыбака выглядело таким легким и спокойным, что им впору заниматься барышням…
Жан-Франсуа из Нанта,
Жан-Франсуа,
Жан-Франсуа!
Они пели, эти два больших ребенка.
Янна мало заботило, что у него красивая и благородная внешность. Он был ребенком только в компании с Сильвестром, пел и резвился только с ним; с другими, напротив, был замкнут, горд и угрюм – и, однако, очень мягок, когда у кого-то в нем случалась нужда, и всегда добр и услужлив, если его не сердили.








