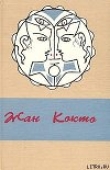Текст книги "Марсель Дюшан. Беседы с Пьером Кабанном"
Автор книги: Пьер Кабанн
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Пьер Кабанн
Марсель Дюшан. Беседы с Пьером Кабанном
© Succession Marcel Duchamp
© Succession Pierre Cabanne
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2019
© Фонд развития и поддержки искусств «АЙРИС»/IRIS Foundation, 2019
Восемь лет упражнений в плавании
Марсель Дюшан, мы беседуем с вами в 1966 году, за несколько месяцев до вашего восьмидесятилетия. В 1915 году, то есть более полувека назад, вы переехали в Соединенные Штаты. Какой вам видится сегодня, с оглядкой назад, ваша жизнь? Что в первую очередь приносит вам удовлетворение?
Прежде всего, мне повезло. Ведь я, в сущности, никогда не нуждался в зарабатывании на жизнь. Мне кажется, что трудиться, чтобы себя обеспечить, довольно глупо с экономической точки зрения. Надеюсь, однажды наступит день, когда людям не нужно будет работать. Мне, благодаря везению, напрягаться не пришлось. В какой-то момент я понял, что не стоит слишком загружать жизнь, взваливать на себя чрезмерные заботы: жену, детей, дом за городом, автомобиль… К счастью, я понял это достаточно рано, и это позволило мне пожить холостяком, получая куда больше удовольствия, чем если бы я сталкивался со всеми обычными сложностями жизни. Собственно, это самое главное, и поэтому я считаю себя очень счастливым человеком. Со мной никогда не случалось больших несчастий, я не впадал в тоску или в неврастению. В то же время я не тратил сил на то, чтобы что-то создать; живопись не была для меня сосудом для излияний, способом утоления нестерпимой жажды самовыражения. Я никогда не испытывал потребности рисовать – утром, вечером, всё время, делать наброски и тому подобные вещи. Больше мне нечего вам сказать. Я ни о чем не жалею.
Так-таки ни о чем?
Абсолютно. У меня не было никаких проблем. И под конец жизни мне стало везти еще больше, чем раньше.
Андре Бретон называл вас самым умным человеком XX века. Что значит для вас ум?
Хотел бы я спросить об этом вас. Понятие «ум» – самое растяжимое из всех, какие только можно себе представить. Существует логический, картезианский вариант ума – разум, но Бретон, мне кажется, имел в виду другое. Он рассуждал как сюрреалист и подходил к этому вопросу более свободно: для него ум был, в некотором роде, способностью понимать то, что для обычного человека непостижимо или малопонятно. В значении некоторых слов, можно сказать, заложена взрывчатка: они говорят о чем-то куда большем, чем сказано в их словарном толковании.
Бретон был человеком той же породы, что и я, у нас было до некоторой степени общее мировоззрение, поэтому, мне кажется, я понимаю, что значил для него расширенный, выходящий за обычные границы, раздутый, если угодно, интеллект…
Можно ли в этом смысле сказать, что вы расширили, раздвинули, взорвали, исходя из вашего «ума», границы художественного творчества?
Может быть. Впрочем, я побаиваюсь слова «творчество». В социальном, обычном, смысле слова творчество – это нечто весьма достойное, однако я по большому счету не верю в творческую функцию художника. Художник – такой же человек, как и все остальные. Он занимается созданием каких-то вещей, но ведь и бизнесмен что-то создает, не так ли? А вот слово «искусство»[1]1
Здесь и ниже речь идет о французском (и не только) слове art – искусство, и его производных: artiste – художник; artisan – ремесленник. Art происходит от лат. ars (искусство, умение, мастерство и т. п.; букв. соединение), в свою очередь восходящего к индоевропейскому *re (связывать, закреплять). Какую именно этимологию имеет в виду Дюшан, неизвестно. – Здесь и далее, если не указано иное, приводятся примечания переводчика.
[Закрыть], напротив, мне очень интересно. Как я слышал, оно происходит из санскрита и означает «делание». Все что-то делают, хотя только те, кто делает вещи, состоящие из красок на холсте и заключаемые в рамы, именуются художниками. Когда-то их называли словом, которое мне больше по душе: ремесленники. Мы все – ремесленники, в гражданской области, в военной или в художественной. Когда Рубенсу или кому-то еще нужна была синяя краска, он должен был запросить ее в количестве скольких-то граммов у своей гильдии, члены которой затем обсуждали вопрос, можно ли предоставить ему пятьдесят, шестьдесят граммов или больше.
Художники действительно были ремесленниками: именно так их называли в контрактах. Слово «художник» появилось тогда, когда живописец приобрел значительный вес сначала в монархическом обществе, а затем и в нынешнем, где он почитается важной персоной. Он не делает вещи для кого-то: этот кто-то может лишь выбрать какую-то вещь из того, что он сделал. А художник, в свою очередь, куда меньше связан обязательствами, чем прежде, во времена монархии.
Бретон, однако, сказал, что вы не только один из самых умных людей XX века, но и – цитирую – «один из самых неудобных, с точки зрения многих».
Думаю, тут имеется в виду, что если я в какой-то момент не следовал общему направлению, это многих смущало, так как они усматривали в моих действиях расхождение со своими, соперничество, если хотите. Но на самом деле ничего подобного не было. Так дело выглядело только для Бретона и его соратников, потому что они видели, что можно действовать иначе, чем они.
Думаете, вы могли быть для кого-то неудобны?
Нет. По крайней мере, не настолько, ведь моя жизнь не была публичной. Обо мне знали Бретон и его круг, да еще те, кто специально мною интересовались. Строго говоря, у меня не было публичной жизни, так как я никогда не выставлял «Стекло». Оно оставалось вне публики.
Может быть, не столько ваши произведения, сколько ваша моральная позиция вызывала неудобства?
Но и позиции у меня не было. Я чем-то напоминал Гертруду Стайн. В определенных кругах ее считали интересной писательницей, создававшей неслыханные вещи…
Признаться, мне не приходило в голову сравнивать вас с Гертрудой Стайн…
Но в те времена такое сравнение было возможным. Я хочу сказать, что в любую эпоху есть люди, которые идут не в ногу с остальными. Это никому не причиняет неудобств. Со мной или без меня, ничего бы тогда не изменилось. Это сейчас, сорок лет спустя, оказывается, что сорок лет назад происходили вещи, которые могли смущать людей, а на самом деле людям тогда не было до этих вещей никакого дела!
Прежде чем вдаваться в детали, давайте обсудим ключевое событие вашей жизни, а именно то, что после примерно двадцати пяти лет занятий живописью вы внезапно от нее отказались. Не могли бы вы пояснить это решение?
К нему привели несколько причин. Прежде всего, мне претила необходимость вращаться в среде художников – жить с художниками, разговаривать с художниками. В 1912 году меня, я бы сказал, выбил из колеи такой случай: я решил выставить «Обнаженную, спускающуюся по лестнице» в Салоне Независимых, принес ее, а незадолго до вернисажа меня попросили ее забрать. Некоторые из самых передовых людей того времени оказались крайне осторожны и высказали некие опасения. Люди вроде Глеза – в высшей степени разумные – почему-то решили, что эта картина не вполне соответствует намеченной ими линии. Кубизм существовал уже два-три года, и у них была совершенно четкая, прямая линия действий, которая предусматривала всё, что должно было произойти. Я счел это абсурдным и наивным. Инцидент с «Обнаженной» настолько охладил мой пыл, что в качестве реакции на такое поведение художников, которые казались мне свободными, я решил найти себе профессию и устроился библиотекарем в Библиотеку Святой Женевьевы. Моей целью было вырваться из определенной среды, избавиться от определенного положения, успокоиться и, конечно, зарабатывать на жизнь. Мне было двадцать пять лет, мне внушали, что нужно зарабатывать на жизнь, и я в это верил. Потом началась война, которая всё перевернула, и я уехал в Соединенные Штаты.
Восемь лет я потратил на работу над «Большим стеклом», время от времени занимаясь другими вещами, но холст и подрамник к этому моменту остались для меня в прошлом. Я испытывал презрение к ним, и не потому, что холстов на подрамниках было написано уже предостаточно, а потому, что они перестали казаться мне необходимыми для того, чтобы выразить себя. «Стекло» благодаря его прозрачности меня спасло.
Когда вы пишете картину, пусть даже абстрактную, это неизменно принуждает вас, скажем так, к заполнению.
Почему? – спрашивал я себя. Я всегда задавался множеством «Почему?», и от вопрошания шли сомнения – сомнения во всем. В конце концов я досомневался до того, что в 1923 году сказал себе: «Всё и так отлично». Но не бросил всё на следующий же день, – наоборот. Оставив в Америке незаконченное «Большое стекло», я вернулся во Францию. Там со мной произошло множество перемен. В 1927-м, кажется, я женился; жизнь взяла верх. Восемь лет я проработал над этой штукой, которая была желанна и сознательно делалась мною в соответствии с точным планом. И тем не менее – потому-то, возможно, на нее и ушло так много времени, – я не хотел, чтобы она стала выражением некоей внутренней жизни. К несчастью, постепенно я утратил азарт, и «Стекло» перестало меня интересовать. Оно больше меня не трогало; я достаточно провозился с ним и просто остановился – без всякой встряски, без внезапного решения. Я даже не думал об этом.
Это похоже на поступательный отказ от традиционных средств.
Так и есть.
По-моему, тут важно вот что: как известно, вы страстный любитель шахмат…
Это не так уж важно, хотя и сыграло свою роль.
Я хотел сказать, что эта страсть становилась особенно сильной, когда вы не занимались живописью.
Верно.
И я спрашивал себя: не было ли в эти периоды так, что жесты передвижения в пространстве шахматных фигур порождали воображаемые творения – знаю, вы не любите это слово, – которые имели для вас такую же ценность, как и реальные творения, картины, но в то же время устанавливали в пространстве новые пластические отношения?
В каком-то смысле да. Шахматная партия – это вещь зрительная, пластическая, и если она не является геометрической в смысле статики, то уж точно является своего рода механикой, так как движется. Это рисунок, это механическая реальность. Красивы не фигуры сами по себе и не форма конкретного набора шахмат; красиво – если только это слово тут подходит – движение. В таком же смысле можно говорить, например, о механике какой-нибудь работы Колдера. В шахматной игре есть в высшей степени прекрасные моменты, касающиеся движения, но отнюдь не зрительные. Воображение движения или жеста – вот что в данном случае создает красоту. Всё разворачивается в сером веществе.
Иначе говоря, в шахматах есть безосновательная игра форм, противоположная функциональной игре форм в картине?
Да. Точно. Впрочем, эта игра не так уж и безосновательна: она предполагает выбор…
Но не предназначение?
Нет. Никакого социального предназначения. Это принципиально важно.
Это идеальное произведение искусства?
Могло бы им быть. И, кроме того, среда шахматистов намного привлекательнее среды художников. Шахматисты – совершенно одержимые, ослепленные, отрешенные от внешнего мира люди. Особого рода сумасшедшие, вроде тех, какими считаются – но чаще всего не являются – художники. Вот это и интересовало меня больше всего. Я очень увлекался шахматами до сорока или сорока пяти лет, после чего мой энтузиазм понемногу пошел на спад.
Теперь давайте вернемся назад, к вашему детству. Вы родились 28 июля 1887 года в деревне Бленвиль (департамент Приморская Сена). Ваш отец был нотариусом. Семейные вечера часто проходили за игрой в шахматы или музицированием. Вы были третьим из семи детей, включая одного, который умер во младенчестве. У вас было два старших брата: Гастон, впоследствии живописец Жак Вийон, Раймон – будущий скульптор Раймон Дюшан-Вийон; и три сестры: Сюзанна, Ивонна и Магдалена. Годы рождения детей выстраиваются в поразительно регулярном ритме: 1875–1876, 1887–1889, 1895–1898. Будучи отпрыском добропорядочной нормандской буржуазии, вы росли в очень флоберовской провинциальной атмосфере.
Именно так. Причем совсем недалеко от Ри – деревни, где госпожа Бовари села в дилижанс, чтобы отправиться в Ивето, насколько я помню. В самом деле, всё было очень по-флоберовски. Правда, это понимаешь лишь задним числом, когда читаешь «Госпожу Бовари» лет в шестнадцать.
Насколько я понимаю, первым важным художественным событием в вашей жизни стала в 1905 году стажировка в руанской типографии. Там вы получили достаточно серьезную подготовку печатника.
Это забавный эпизод. Когда готовился закон о двухлетнем сроке военной службы, я, не питая ни милитаристских, ни просто военных наклонностей, подумал, что можно попробовать воспользоваться еще не отмененным законом о трехлетнем сроке, который позволял отделаться годом службы, если поспешить и записаться немедленно. Предприняв кое-какие усилия, я разузнал, как это сделать, не будучи ни адвокатом, ни медиком (обладателям этих профессий точно полагалось уменьшение срока службы). Оказалось, что на такую же поблажку могли рассчитывать люди, сдавшие экзамен по специальности художественного работника. Тогда я задумался, каким художественным работником мог бы стать, и выяснил, что есть вариант обучиться на печатника-типографа или на печатника гравюр, офортов. Эти специалисты входили в категорию художественных работников. Мой дед в прошлом был гравером, и у нас в семье хранились нарезанные им медные доски с очень примечательными видами старого Руана. Взяв их с собой, я отправился к одному печатнику, чтобы попросить у него научить меня печатать с них гравюры. Печатник согласился. Я поработал у него какое-то время, а затем сдал экзамен – там же, в Руане. Жюри состояло из мастеров-ремесленников, которые спрашивали у меня, в частности, что-то о Леонардо да Винчи. В качестве, если можно так сказать, письменного задания нужно было напечатать гравюру, продемонстрировав свои умения. Я напечатал несколько листов с одной из досок своего деда и раздал гравюры всем членам жюри. Они были восхищены и поставили мне сорок девять баллов из пятидесяти. В итоге я получил освобождение от двух лет военной службы и был зачислен в учебную роту младших офицеров. Служба проходила в городе Э, и по прошествии года капитан, командовавший нашей ротой одногодков, провел с каждым из нас беседу, в которой расспрашивал о том, чем мы занимаемся в гражданской жизни. Узнав, что я – художественный работник, он никак это не прокомментировал, но я понял, что, по его мнению, офицерский корпус Франции не мог иметь в своем составе рабочего, получающего семь франков в день, и что у меня едва ли выйдет продвинуться по военной стезе.

Семья Дюшан. Около 1900
Марсель – в первом ряду слева

Марсель и его младшая сестра Сюзанна. Около 1900
Он разбил вашу военную карьеру в пух и прах!
Точно. Впрочем, это оказалось к лучшему. Я демобилизовался и был совершенно свободен.
Ваша первая известная картина относится к 1902 году, кода вам было пятнадцать лет. Это «Церковь в Бленвиле», вид вашей родной деревни. Как вы начали заниматься живописью? Родители этому способствовали?
Дом, в котором мы жили, был полон воспоминаний о деде, который много занимался видовой гравюрой. Кроме того, оба моих брата – Жак Вийон и Раймон Дюшан-Вийон, – которые были старше меня один на двенадцать, а другой на одиннадцать лет, довольно рано, особенно первый, стали художниками. В моем случае мысль об аналогичном решении была понятна. Отец уже свыкся с этим, когда взрослели его старшие сыновья, и не возражал. Поэтому в семье я не сталкивался с трудностями. Отец даже согласился некоторое время поддерживать меня деньгами.
Кажется, ваша мать тоже была художницей. Она рисовала сервизы?
Да, ей хотелось не только рисовать, но и делать сервизы, но за семьдесят лет жизни она так в этом и не преуспела. Она занималась страсбургским фарфором[2]2
Страсбургский фарфор – популярная традиция фарфора и фаянса периода рококо, развивавшаяся в Эльзасе на протяжении XVIII века династией Аннон.
[Закрыть] на бумаге, и это было, в общем, не слишком серьезно.
Выходит, в вашей семье существовало взаимопонимание по поводу искусства?
Полное. В этом отношении не было никаких проблем.
Самым близким вам человеком была Сюзанна, младшая сестра?
Да. Она, кстати, тоже была «посвященной»: всю жизнь занималась живописью; может быть, немного меньше, чем я, но куда более увлеченно и целеустремленно.
Сюзанна была вашей любимой моделью.
Да, но потом у нас родились еще две сестры. Все они через это прошли, одна за другой – это было удобно.
После года военной службы вы отправились в Париж и записались в Академию Жюлиана, где до этого уже немного занимались в 1904 году вместе с Вийоном, который в то время рисовал карикатуры для газет. Вы тоже пробовали себя в этой области. Вы помните кого-то из ваших «мастеров» у Жюлиана?
Совершенно не помню. На первых ролях, конечно, был Жюль Лефевр[3]3
Жюль Лефевр (1836–1912) – академический живописец, лауреат Римской премии, член Французского института; по словам Луи Уртика, «классик женской обнаженной натуры». Автор картин «Диана, застигнутая во время купания», «Леди Годива», «Цикада» и т. д. – Примеч. Пьера Кабанна.
[Закрыть], но я не припоминаю, чтобы он преподавал в период моего обучения. Был другой профессор, более молодой, имя которого я забыл. Впрочем, я провел у Жюлиана всего год. Что я тогда делал? Играл на бильярде с утра вместо того, чтобы идти в мастерскую! Это не помешало мне попробовать поступить в Школу изящных искусств, хотя из этого вышел flop[4]4
Пшик, провал (англ.).
[Закрыть], как говорят англичане. Первым экзаменом был рисунок обнаженной натуры углем, и я его провалил.
Значит, вы стали одним из бесчисленных непринятых в Школу изящных искусств?
Да, и теперь этим горжусь. Но в то время меня, очевидно, переполнял в отношении «изящных искусств» энтузиазм ничего не понимавшего новичка. Я вернулся к занятиям у Жюлиана и к карикатуре: по рекомендации Вийона мне давали заказы газеты Le Sourire и Le Courrier Français, которые тогда весьма котировались; платили по десять франков за картинку в четверть полосы. Директор Le Courrier Français Жюль Рок был тем еще типом: Вийон приходил в редакцию в понедельник рано утром, чтобы застать его в конторе и выпросить свои гроши, – по собственной инициативе Рок никогда не платил.
Итак, подытожим ваши первые шаги: буржуазная семья, начальное художественное образование – самое что ни на есть традиционное и благопристойное. Антихудожественная позиция, которую вы заняли впоследствии, была реакцией на эти вещи, даже, может быть, попыткой реванша?
Да, только я не был уверен в себе, особенно поначалу… В юности не думаешь в философском ключе, не спрашиваешь себя: «Прав я тут или ошибаюсь?» Просто выбираешь занятие, которое нравится тебе больше, чем другие, не углубляясь в размышления о ценности того, что ты делаешь. Только потом начинаешь думать, прав ты был или не прав и можно ли было что-то изменить. Между 1906-м и 1910–1911 годами я, скажем так, колебался между несколькими идеями: фовизм, кубизм и так далее, – а иногда возвращался к чему-то более классическому. Важным событием для меня было открытие Матисса в 1906-м или 1907 году.
Но не Сезанна?
Нет, не Сезанна.
Вы общались вместе с Вийоном в кругу художников вашего возраста, то есть двадцати – двадцати пяти лет, и, надо полагать, говорили о Сезанне, Гогене, Ван Гоге?
Нет. В основном разговоры касались Мане. Авторитетом был он. Даже не импрессионисты. О Сёра мы ничего не знали, даже его имени. Обратите внимание, что я вращался в кругу карикатуристов, а не живописцев. Я жил на улице Коленкура на Монмартре, по соседству с Вийоном, и мы общались в основном с Виллеттом, Леандром, Абелем Февром, Жоржем Юаром и тому подобными людьми: это вовсе не был цвет тогдашней живописи. Даже Хуан Грис, с которым я познакомился чуть позже, рисовал для газет. Этой компанией мы часто ходили в редакцию журнала, основанного плакатистом Полем Ирибом, играли в бильярд в кафе на улице Коленкура. Обменивались наводками в плане работы. Впрочем, заработать что-то было невозможно. Все платили двадцать франков за страницу.
Это было неплохо – если, конечно, их получить!
В это время я пересекался с Грисом, но в 1908 году переехал с Монмартра.
В Нёйи[5]5
Нёйи-сюр-Сен – ближайший пригород Парижа, к середине XX века превратившийся в средоточие фешенебельной малоэтажной застройки.
[Закрыть]?
Да, и жил там до 1913 года. В двух шагах от места, где живу сейчас.
Но задолго до этого, в 1905 году, был знаменитый Осенний салон, в котором скандальная «клетка с дикими зверьми» соседствовала с ретроспективами Мане и Энгра. Вас, полагаю, больше интересовали последние.
Естественно. Все разговоры о живописи крутились вокруг имени Мане. Сезанн в тот момент казался многим «шумом из ничего»… Разумеется, я говорю о своей среде; в кругу профессиональных живописцев дело, вероятно, обстояло иначе… Как бы то ни было, именно Осенний салон 1905 года навел меня на мысль заняться живописью…
Вы ведь начали раньше…
Да, но по-другому. Первое время меня интересовал в основном рисунок. К 1902–1903 годам я начал писать в духе псевдоимпрессионизма, плохо понятого импрессионизма. В Руане у меня был друг, Пьер Дюмон[6]6
Пьер Дюмон (1884–1936) – французский живописец, участник Салона «Золотого сечения» (1912), автор ярких пастозных пейзажей, которые на время принесли ему репутацию одного из лучших в Париже мастеров городского вида. Дюмон прожил трудную, драматичную жизнь и в последние годы потерял рассудок. – Примеч. Пьера Кабанна. [Добавим к этому, что Дюмон был родом из Руана и учился там в Лицее Пьера Корнеля вместе с Дюшаном. Кроме того, в 1912 году он выступил издателем Альманаха «Золотого сечения». – Пер.]
[Закрыть], который тоже делал нечто подобное, но несколько более разнузданно… Потом я перешел к фовизму.
Причем к фовизму, очень интенсивному по цвету! В Музее искусств Филадельфии, где благодаря дару Аренсбергов, о котором мы еще поговорим, демонстрируется почти всё ваше творчество, фовистские картины поражают энергией цвета. Один из ваших биографов, Робер Лебель, сравнивает их колорит с картинами ван Донгена и немецких экспрессионистов.
Честно говоря, я не помню, как к этому пришел. Очевидно, под влиянием Матисса. Ну конечно, именно с него всё это началось.
Вы с ним общались?
Нет. Я едва его знал; мы встречались, может быть, раза три за всю жизнь. Но меня глубоко поразили его картины в Осеннем салоне, особенно большие плоскостные фигуры, закрашенные красным и синим. Тогда это был гром среди ясного неба, как вы знаете. Это очень впечатляло. Еще мне нравился Жирьё[7]7
Пьер Жирьё (1876–1948) – один из самых заметных экспонентов Осеннего салона 1905 года. В тот момент он пользовался настолько же большим успехом, насколько полным оказалось его посмертное забвение. – Примеч. Пьера Кабанна.
[Закрыть]…
Он познал свою минуту славы.
Но потом был начисто забыт. В его картинах меня привлекало нечто иератическое. Уж не знаю, где он откопал этот иератизм…
А помимо Осеннего салона вы где-нибудь смотрели искусство, бывали в галереях?
Да, заходил к Дрюэ[8]8
В галерее Эжена Дрюэ (1867–1916), открытой в 1903 году, продавались работы многих ранних авангардистов, а также фоторепродукции картин (Дрюэ был профессиональным фотографом). После смерти основателя его вдова управляла галереей вплоть до ее закрытия в 1938 году.
[Закрыть] на улицу Руаяль, где выставляли свежие работы интимистов вроде Боннара и Вюйара, которые противостояли фовистам. И еще Валлотона. Я всегда испытывал к нему слабость, потому что в эпоху, когда всё [в живописи. – Пер.] было красно-зеленым, он пользовался очень глубоким коричневым цветом в холодных, приглушенных оттенках; это оказалось предвосхищением палитры кубистов. С Пикассо я познакомился лишь в 1912–1913 годах и только шапочно знал Брака – здоровался с ним, не более того. Впрочем, он не общался ни с кем, кроме своих старых друзей. Играла свою роль и разница в возрасте.
Я вспоминаю одну фразу Вийона о Пикассо. На вопрос об их встречах на Монмартре он как-то неопределенно ответил: «Я видел Пикассо издалека». Эта «дистанция» между молодыми художниками одного или почти одного поколения, которые бывали в одних и тех же кафе, знали одних и тех же людей, показалась мне странной. Однако, действительно, Брак и Пикассо в это время уже существовали очень обособленно, замкнулись одновременно в своем квартале и в своем искусстве чуть ли не наглухо.
Так и есть. Тогдашний Париж был очень разобщенным, и квартал Пикассо и Брака – Монмартр – четко отделялся от прочих. Мне довелось изредка бывать там вместе с Пренсе[9]9
Морис Жозеф Пренсе (1875–1968), как считается, познакомил кубистов с некоторыми новшествами современной им математики, в частности с работами Анри Пуанкаре.
[Закрыть]. Это был удивительный человек: простой учитель математики в бесплатной школе или каком-то подобном заведении, он подавал себя как важную птицу, знавшую всё о четвертом измерении; и к нему прислушивались. Метценже, будучи умным человеком, извлек из этого немалую пользу. О четвертом измерении заговорили, не зная толком, что это такое. Впрочем, с тех пор мало что изменилось.

Марсель Дюшан, Жак Вийон и Раймон Дюшан-Вийон.
Пюто. 1912
© Archives Marcel Duchamp
С кем вы дружили, близко общались в то время?
Когда мы с Вийоном жили в Нёйи, у меня было очень мало знакомых. Помнится, у Бюлье[10]10
«Бал Бюлье» («Le Bal Bullier») – модный танцевальный зал в Париже, открытый Франсуа Бюлье в середине XIX века недалеко от Люксембургского сада. Накануне Первой мировой войны Робер и Соня Делоне были завсегдатаями и звездами «Бала Бюлье», где, в частности, представили первые «симультанные» костюмы.
[Закрыть] я издалека наблюдал Делоне, произносившего длинные речи. Но мы с ним так и не познакомились.
Переехав в Нёйи – на дальнюю окраину по тогдашним меркам, – вы хотели обособиться от этих художников?
Возможно. Я почти не занимался живописью в 1909–1910 годах, а в конце 1911-го познакомился с Глезом, Метценже, Леже, которые жили неподалеку. По вторникам у Глеза в Курбевуа[11]11
Курбевуа и упоминаемое ниже Пюто – селения близ Парижа по соседству с Нёйи, на территории которых ныне находится, в частности, деловой квартал Дефанс. В Пюто в 1911–1914 годах снимал мастерскую Жак Вийон, и собиравшиеся у него кубисты составили так называемую «группу Пюто» (первые скрипки играли в ней Жан Метценже и Альбер Глез), развивавшуюся параллельно более замкнутой деятельности Пикассо и Брака, живших на Монмартре. В 1912 году группа получила по предложению Вийона название «Золотое сечение», начала выпускать одноименный журнал и провела первую выставку «Салон „Золотого сечения“» в парижской галерее «Ла Боэси».
[Закрыть] устраивались собрания; они с Метценже готовили тогда книгу о кубизме. И еще были воскресные встречи в Пюто, где собиралась целая толпа, так как мои братья знали всю банду Осеннего салона. Иногда заходил Жан Кокто. Бывал там и поразительный тип по имени Мартен Барзен[12]12
Анри-Мартен Барзен (настоящее имя Анри-Луи Мартен; 1881–1973) – французский и американский писатель, поэт, журналист и деятель культуры, один из основателей и теоретиков симультанизма.
[Закрыть]. Я иногда вижу его в Соединенных Штатах. Он каждый год переиздает огромный фолиант с текстом на английском и французском языках – полное собрание своих сочинений с 1907 года. Там – всё от начала и до конца. Должно быть, ему сейчас за восемьдесят. Его сын, американец на все сто процентов, занимает должность директора Колумбийского университета в Нью-Йорке.
Вы знали Аполлинера?
Очень мало. Впрочем, его никто не знал хорошо, кроме ближайших друзей. Он порхал, как бабочка: сегодня говорил с вами о кубизме, а завтра читал стихи Виктора Гюго в каком-нибудь светском салоне. Что забавляло в литераторах той эпохи, так это что если вы встречали их вдвоем или втроем, то просто не могли вставить слова. Они фонтанировали всевозможными остротами и выдумками без конца и края, причем так, что человек со стороны был не в состоянии говорить на их языке и сразу замолкал. Однажды я обедал с Пикабиа в компании Макса Жакоба и Аполлинера: это было что-то невероятное; приходилось разрываться между каким-то страхом и безумным желанием хохотать. Они оба жили по мерке литераторов-символистов 1880-х годов.
Вы впервые выставились в Салоне Независимых в 1909 году, показав две картины…
…в том числе маленький пейзаж с видом Сен-Клу, который купили за сто франков. Я был окрылен. Просто чудо, и без всякого «блата». Я даже не знаю, кто его купил. Другой подобный эпизод случился в Осеннем салоне 1910-го или 1911 года: я продал маленькую картину, этюд обнаженной натуры, Айседоре Дункан, с которой не был знаком. Позднее я пробовал разыскать эту картину и встретился с Айседорой в Соединенных Штатах, но она уже ничего толком не помнила – скорее всего, покупка предназначалась для подарка кому-то из ее друзей на Рождество. Словом, я не знаю, что сталось с этой картиной.
Что для вас значила в это время «жизнь художника»?
Тогда я еще не вел жизнь художника. Это началось только в 1910 году.
Но вы проявляли наклонность к живописи. Чего вы от нее ждали?
Представления не имею. У меня не было никакой программы, никаких четких планов. Я даже не задумывался о том, нужно мне продавать картины или не нужно. И теоретической почвы тоже не было. Вы понимаете, что я имею в виду? Я существовал немного в стиле монмартрской богемы, для которой жить, рисовать, быть художником было чем-то само собой разумеющимся и ничего особенного не значило. В какой-то степени так происходит и сейчас: занимаешься живописью просто потому, что хочешь быть свободным, не ходить в контору каждое утро.
Это своего рода отказ от социальной жизни?
Ну да. Но никакого плана на перспективу не было.
Вы не думали о завтрашнем дне?
Абсолютно.
1908 год, когда вы поселились в Нёйи, стал годом кубизма. Осенью, после выставки у Канвейлера пейзажей Брака, написанных в Эстаке, Луи Воксель впервые употребил это слово. За несколько месяцев до этого Пикассо закончил «Авиньонских девиц». Вы чувствовали во всем этом предвестие революции в искусстве?
Ничуть. «Девиц» никто из нас не видел, их показали только через несколько лет. Я заинтересовался кубизмом благодаря нескольким визитам в галерею Канвейлера на улице Виньона.
Это был, надо полагать, кубизм Брака.
Да. Я даже бывал у него в мастерской, но несколько позднее, где-то в 1910-м или в 1911-м.
А у Пикассо не бывали?
В это время нет.
Он не казался вам выдающимся художником?
Нисколько. Скорее, наоборот. Между Пикассо и Метценже шла, скажем так, интеллектуальная конкуренция. Когда кубизм начал приобретать вес в общественном мнении, говорили в основном о Метценже. Он объяснял кубизм, тогда как Пикассо никогда ничего не объяснял. Прошло несколько лет, прежде чем стало понятно, что молчать было полезнее, чем много говорить. Всё это, однако, не мешало Метценже относиться к Пикассо с большим пиететом. Не знаю, чего ему не хватило в дальнейшем, но в этот момент именно он, Метценже, был наиболее близок из всех кубистов к формуле синтеза. Но это не сработало. Почему? Загадка. А Пикассо был поднят на знамя позднее. Публике всегда нужно знамя: там может быть Пикассо, Эйнштейн или кто-то еще. В конечном счете полдела решает публика.
Вы сказали, что заинтересовались кубизмом. Когда это произошло?
Где-то в 1911-м. К этому времени я отошел от фовизма в сторону того, о чем говорили вокруг и что было мне интересно, – в сторону кубизма. Для меня это был очень серьезный выбор.
Не лишенный, однако, протеста, который вы, полагаю, разделяли с братьями – Вийоном и Дюшан-Вийоном…
Да, мы протестовали против систематизации. Я никогда не мог заставить себя принять установленные формулы, мне претило кому-то подражать, поддаваться влиянию, быть похожим на экспонат в витрине.
Между еще очень академичной «Партией в шахматы», написанной вами в июне 1910 года, и картинами следующего года – «Сонатой», «Портретом игроков в шахматы», «Дульсинеей» – чувствуется резкий разрыв.
Так и есть. «Партия в шахматы» висела в Осеннем салоне 1910 года, а уже в январе 1911-го я написал «Сонату», которую в сентябре переработал. «Дульсинея» – пять женских силуэтов, выстроенных по наклонной линии, – относится к этому же времени. Особенно удивительна тут стремительная перемена техники.
Но вы колебались, прежде чем принять это решение.
Да, потому что новая техника кубизма потребовала от меня немалой ручной работы, чтобы к ней приспособиться.
Действительно, складывается впечатление, что вас привлекал не столько дух кубизма, сколько его техника, то есть обнажение формы холста с помощью светотени.
Совершенно верно.
Именно с помощью светотени, а не с помощью цвета. Я запомню ваше выражение «ручная работа», но сейчас мне хотелось бы понять, что именно побудило вас порвать с той манерой, в которой вы писали до этого.
Не знаю. Вероятно, что-то из увиденного у Канвейлера.
После «Партии в шахматы», в сентябре-октябре 1911 года, вы создали несколько этюдов углем и маслом для картины «Портрет игроков в шахматы», законченной в декабре.
Да, всё это было в октябре-ноябре 1911 года. Есть живописный эскиз, который хранится в парижском Музее современного искусства, а еще до него я сделал три или четыре рисунка. Затем я написал самую большую версию «Игроков» – окончательную, находящуюся в Музее Филадельфии, с двумя моими братьями, которые разыгрывают шахматную партию. Эти «Игроки» (вернее, «Портрет игроков в шахматы») – самые законченные, и они написаны при газовом свете. Меня интриговал этот опыт. Как вы знаете, газовый свет – тот, который давали старые колпачки Ауэра[13]13
Колпачок Ауэра (горелка Ауэра, газокалильная сетка) – светильник, оснащенный (для увеличения силы света) разработанной Карлом Ауэром фон Вельсбахом (1858–1929) сеткой из хлопчатобумажной ткани, пропитанной солями тория и церия.
[Закрыть], – имеет зеленый оттенок. Мне было интересно проследить процесс изменения цвета. Когда пишешь при зеленоватом освещении, а потом смотришь на то, что получилось, при дневном, всё оказывается более сиреневым, более серым, чем на самом деле, – приобретает тот самый колорит, в котором тогда писали кубисты. Это был простой способ ослабить тон, прийти к гризайли.