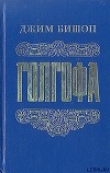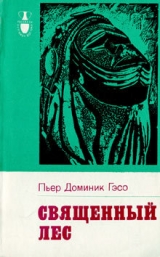
Текст книги "Священный лес"
Автор книги: Пьер Доминик Гэсо
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
ПРИЛОЖЕНИЯ [43]43
Рассказы Вуане, записанные с его слов.
[Закрыть]
I
Чтобы сделать маску, как Ангбаи
Нужно принести жертву под деревом булон:
1 яйцо, 2 гинзэ, 7 комков рисовой муки, свернутую циновку, белый орех кола, красный орех кола. Ты кладешь все сверху и говоришь свое имя. Ты вонзаешь топор в дерево и говоришь ему:
«Если ты принимаешь подарок, ты дашь мне богатство».
Если топор назавтра упадет, значит, он не согласен, чтобы ты был его женихом.
Потому что, если у тебя есть невеста, ты ей даешь три полосы материи на бубу, орехи кола и гинзэ.
Если топор не упал, то ты готовишь дерево и даешь ему целый месяц сохнуть. Если ты не умеешь вырезать маску, то отдаешь дерево деревенскому кузнецу [44]44
Кузнец является одновременно корзинщиком и столяром.
[Закрыть]. Затем зоги кладут сверху священные листья. Ты даешь нм цыпленка за то, чтобы войти в бруссу, и цыпленка за излечение хозяина гри-гри, семнадцать гинзэ, семь орехов кола, метр полосы белой материи, метр желтой и метр полосатой.
Ты сшиваешь все в ширину и даешь старому зоги, который содействовал, чтобы топор не упал.
Еще калебасу, наполненную рисом.
Еще калебасу, наполненную пальмовым маслом.
Еще калебасу, наполненную сушеным мясом.
Еще кило соли.
Затем зоги требует петуха, которого надо убить над гри-гри, когда он дает свое имя.
Потому что ночью, во сне, гри-гри скажет каждому свое имя.
Зоги говорит, что нужно жениться на женщине после того, как женился на гри-гри.
Тогда ты даешь 207 связок гинзэ, красного петуха и белого петуха.
Если ты зоги, то, пока ты не женился на гри-гри, ты не можешь взять жен.
Когда гри-гри сказало свое имя, оно помогает тебе до конца твоей жизни.
II
Значение названий населенных пунктов
Ниогбозу: Равняйтесь.
Бофосу: Там, где много лиан и тени.
Тувелеу: Там, где много орехов кола.
Богбозу: Там, где много кривых лиан.
Геригерпка: Страна, где люди очень хитры.
Бобокозу: Страна, где пчелы очень кусают.
Котэзна: Страпа, где находится белая картина.
Багуроман: Страна, где если люди говорят «нет», значит, нет.
Серинке: Местность в равновесии.
Доэзиа: Куда все должны идти.
Борибасу: Там, где молятся о торговле и она идет хорошо.
Ферезиа: Там, где водятся молодые куропатки и где ты делаешь зло и добро без последствий для себя.
Воруа: Там, где луна светит большую часть ночи. И если у тебя там есть сын, он станет вождем.
Таниама: Там, где люди слишком много врут.
Фасазу: Там, где большая скала.
Сингега: Там, где был слон.
Лнорэзиа: Куда приходят все дьяволы.
Сэбуамаи: Где хорошие сны.
Сурогозу: Где выставляют часовых, когда идет воина.
Согуру: Где много колдунов.
III
Объяснение снов
Если тебе спится, что змея переползает через дорогу, это очень плохо.
Если ты танцуешь посреди толпы, это очень хорошо.
Если ты говоришь с черной женщиной, это хорошо, особенно если ты должен совершить путешествие.
Если ты говоришь с белым мужчиной, внимание, нужно вымыть гри-гри.
Если ты говоришь с белой женщиной, это очень, очень, очень хорошо.
Если ты видишь белого барана с черной шеей, если ты видишь, что гри-гри летает, как самолет с красным огнем, то ты наверняка выиграешь. Потому что это все – дух гри-гри. Он дает тебе силу.
Если тебе снится, что у тебя бубу-«снадобье» и трезубец среди множества людей, то ты будешь иметь много жен, много мальчиков и много добра.
Если тебе снится, что ты дуешь в горшок Афви и твой голос плох, значит, против тебя есть заговор. Но если голос хорош – с тобой союз.
Если ты зоги и тебе спится, что ты татуируешь, значит, ты убьешь злого колдуна, который бросает гри-гри тебе во вред.
IV
Жертвоприношение змее
И вот, когда большая змея говорила со мной ночью, утром я иду делать такое жертвоприношение:
– белого петуха;
– барана;
– белые орехи кола;
– белый толченый рис.
Иногда бывает тамтам, но никто не видит змеи.
Я же ее вижу: есть такое место подальше, которое я знаю, где змея спит, но вы не можете туда пойти, потому что змея не хочет, а именно она распоряжается.
Это та же змея, которая была с моим дедом, я это знаю сейчас.
V
Чтобы получить покровительство змея
Ты спрячешься в чаще.
Если ты видишь зме́я и его жену, ты следуешь за ними.
Когда они совокупляются, это длится очень долго. Ты продолжаешь прятаться. Это может длиться несколько дней. Когда это кончено, жена змея не может больше двигаться. Тогда змеи уползает в чащу и собирает там листья деревьев, которые он знает.
Ты смотришь хорошо, чтобы не забыть.
Он возвращается и кладет листья на жену. Тогда жена змея снова живет, и они уходят вдвоем.
Ты выходишь из своего тайника и собираешь листья на тех же деревьях, и из них ты можешь сделать снадобье. Змей поможет тебе и даст тебе всю свою силу.
VI
Испытание ядом, предлагаемое хранителем культа во время церемонии татуировки
Когда зоги прибывает для татуировки со своим гри-гри, ему дают семь пакетов по 20 гинзэ.
Делят детей, подлежащих татуировке.
Все хвалят один гри-гри за другим, их там 50 или 60.
Делают подарок лучшему.
Убивают быков. Приносят большое блюдо красной фасоли с мясом посередине, которое называется протоваи. Самый большой зоги кладет туда очень сильный яд, желчь каймана, и говорит:
– Созовите всех дьяволов. Лучший съест большое блюдо, в котором яд.
Зоги накалывает трезубцем большой кусок мяса. Он ест желчь каймана. Он сгибается шесть раз, на седьмой все кончено, он уже не болен. Он говорит:
– Вы можете кушать.
Остальные но хотят.
– Нет, то, что бог дал тебе, – говорят они, – мы этого есть не будем.
Зоги берет рис в листьях гри-гри.
– Вы можете есть, вы мои дети и не умрете.
Его ученики подходят и едят. Они не умирают.
Зоги говорит другим:
– Все, кто пришел со своими гри-гри, должны заплатить мне штраф. Иначе, так как они не хотели есть мое блюдо, я нашлю на них болезнь.
В день татуировки зоги не должны спать на земле.
VII
Почему мужчины не должны доверять женщинам
Один человек и его жена после долгого пути пришли к берегу моря. Они жили там спокойно.
Однажды пришел какой-то мужчина, который был духом, весь покрытый язвами, словно проказой.
Женщина не хотела, чтобы он входил в хижину, но мужчина заботился о нем и давал ему еду, пока тот но выздоровел.
Потом он отвел его к дорого и они беседовали вдвоем.
Женщина следовала за ними, прячась в чаще.
Перед большой скалой дух остановился и сказал мужчине:
– Ты вернешься сюда один. Ты скажешь тайные слова и найдешь золотые стульчики и всякое богатство.
А затем он исчез. Женщина сейчас же вернулась домой. Поэтому мужчина не знал, что она следовала за ним.
Пришел парень, и, пока ее муж спал, женщина все ему рассказала, и она хотела взять с ним богатства.
Они пошли к скале. Они сказали тайные слова, и они получили все богатства, а потом пришел мужчина и в свою очередь попросил богатства.
И дух ответил, что он уже все дал.
И когда мужчина вернулся в хижину, там никого не было.
Вот почему никогда не нужно доверять женщинам.
Вл. Иорданский
Расчищенные поля среди чащобы джунглей
У французского кинематографиста полнилась мысль создать фильм о тайных обрядах какого-либо африканского народа. Его выбор нал на тома, небольшую этническую группу, живущую в горных джунглях Лесной Гвинеи. Насколько можно судить, выбор был совершенно случаен.
Самолет доставил созданную кинематографистом группу в столицу Гвинеи Конакри. От столицы до города Масента, центра области, где можно встретить тома, ведет хотя и не гудронированная, но достаточно хорошая дорога. Если не лопнет шина, не испортится что-то в моторе, достаточно двух-трех дней, чтобы проделать весь этот путь. Путешествие продолжалось на автомашине.
Руководителю группы во что бы то ни стало хотелось снять на пленку церемонии, которые совершаются в таинственном «священном лесу». Этой цели on и добивается с завидным упорством. И все-таки терпит неудачу. После нескольких месяцев пребывания в краю тома ему приходится вернуться в Париж практически с пустыми руками. Но человек безусловно наблюдательный, умный, профессионально владеющий журналистским пером, он решается написать книгу о своем коротком путешествии.
Пьер-Доминик Гэсо, автор репортажа «Священный лес», объясняет неудачу своих попыток создать фильм о верованиях тома сопротивлением деревенских старейшин и колдунов. Он говорит об их «темноте» и неприязни к чужеземцам. Эти люди, но его мнению, возмутили умы тома до такой степени, что в крае едва не возникли беспорядки. Только отъезд его съемочной группы охладил накалившиеся страсти.
Что же, отчасти автор книги прав. Конечно, никто из тома не знал и не понимал, почему их сокровенные тайны вдруг заинтересовали назойливых иностранцев. В деревнях Лесной Гвинеи не имели представления о требованиях буржуазного кинематографа, стремящегося пощекотать нервы зрителей сенсационной экзотикой. Но там прекрасно сознавали другое: праздность любопытства приезжих «белых». И естественно, опасались, что то своими действиями вольно или невольно могут осквернять народные святыни.
Эта реакция тома на вторжение чужаков была нормальной. Задумаемся над тем, какое место священный лес занимает в культуре тома, в их системе истолкования мира.
Согласно народным представлениям, в центре всего мироздания находятся деревни, обитатели которых связаны между собой общностью происхождения от единого предка. В непосредственной близости от деревенских хижин – небольшие огороды, где женщины выращивают овощи, пряности, различные приправы к семейному столу. Еще дальше от центра деревни – поля горного риса, а за ними – девственный лес, где к земле никогда не прикасалась крестьянская мотыга. Множество мелких и крупных водных потоков пересекают край тома.
Линия леса, виднеющегося за участками возделанной земли, могучего, с огромными, вздымающимися к небу деревьями, образует как бы границу культурного мира. Конечно, эта граница весьма условна, и силы, которые народное воображение изгоняет из культурного пространства в чащобу леса, приближаются к деревням, как только на землю опускаются сумерки. Лес противостоит деревне, как хаос противостоит порядку, как стихия противостоит культуре. Именно лес осмысляется народным сознанием как обиталище мифических существ, которые господствовали над вселенной до того, как человек, овладев огнем, ремеслами, земледелием, образовал свой «собственный» микрокосм культуры.
Социальный мир деревни, микрокосм культуры и порядка, не только противостоит лесу – символу стихийности и хаоса, но и взаимодействует с ним. Человек ищет в лесу лекарственные сродства, которые в его глазах имеют магический характер и наделены таинственной силой. Из глуши леса выходят оборотни, принадлежащие к тайным обществам людей-пантер, людей-крокодилов. Тем, кто знает и соблюдает его законы, лес посылает дичь, позволяет найти плоды, съедобные корни.
Лес именно то место, где земледельческое общество тома могло установить живые повседневные связи с невидимым, но в его представлениях реально существующим мифическим миром, где живут и действуют его покровители – различные божества, духи, прародители племени. А такие связи были обществу необходимы, ибо давали ему ощущение собственной силы, вселяли уверенность в способности выжить в трудных, суровых природных условиях.
Но постепенно лес отступает все дальше и дальше от деревень. Ведь по мере того как увеличивается количество поселений и возрастает численность всего населения края, в хозяйственный оборот вовлекаются новые и новые земли. Джунгли вырубаются, выжигаются, отодвигаются к горизонту. И тогда земледельцы начинают оставлять вблизи деревень участки девственного леса, которые объявляются неприкосновенными. Иной раз на опушке устанавливаются специальные «знаки» – небольшие резные фигуры, предупреждающие случайного путника, что ему лучше обойти стороной это место.
Такие «священные леса» известны не только у тома. Они существуют у йоруба Нигерии, у фонов нынешней Народной Республики Бенин, у многих других народов Тропической Африки. И повсеместно с ними связаны наиболее важные для жизни и потому наиболее тщательно скрываемые обряды. У фонов, к примеру, в «священных лесах» находятся алтари бога-оракула Фа, который раскрывает людям, какая судьба уготована им одним из двух верховных божеств – богиней Маву. Но, может быть, самое важное: там обычно находятся лагеря, где юношей и девушек под руководством специальных наставников готовили к обряду инициации, или посвящения в полноправные члены деревенской общины.
Нет народа, который не защищал бы покровом тайны то, что считает священным. Однако для человека, знакомящегося с народной культурой, не в этом обычно заключается главная трудность в понимании ее «секретов». Зачастую ему сначала следует избавиться от груза предубежденности, от националистического высокомерия. В качестве иллюстрации – небольшой пример.
В конце 30-х годов один наблюдательный французский этнограф, работавший в Бенине (б. Дагомея), заметил, что в местных судах свидетели охотно присягают говорить правду именем бога Маву, но обычно избегают клясться другими богами. Ларчик открывался просто. Как оказалось, миссионеры словом «Маву» перевели на местный язык имя библейского бога, и на рисунках, распространяемых среди населения, Маву изображался в виде почтенного белобородого старца. Торопливые миссионеры, видимо, не знали, что у фонов Маву – это богиня, олицетворяющая женское начало Вселенной. Дагомейцы открыто выражали свое недоумение тем, что их богиня обрела в книгах «белых людей» мужское обличье, но одновременно с охотой присягали именем старца, который, очевидно, будет не в силах покарать их за клятвопреступление.
Промах миссионеров может вызвать улыбку. И его легко попять, если вспомнить царившее в Западной Европе в колониальную эпоху пренебрежительное отношение к африканцам, к их культуре.
Колониализм способствовал возникновению и распространению за пределами Африки краппе извращенных, крайне превратных представлений об африканских пародах. Общение между африканцами и европейцами зиждилось на порочном основании неравенства и угнетения, причем европейцы не могли не сознавать несправедливости своего привилегированного положения. Их психологическая реакция на сложившийся в колониях порядок вещей, реакция очевидно уродливая, проявилась в попытках самоутвердиться, рисуя полностью фальшивый образ африканца, его культуры и духовной жизни. Ими утверждалось, что африканцы но способны управлять собственными делами, что они ленивы, что они не смогут освоить природные богатства своих стран и т. д. Дополняя этот невеселый перечень предрассудков и предубеждений, голландский социолог А. Кеббен упоминал о широко распространенном среди европейцев в колониях мнении, что африканцы фатально но в состоянии… провести прямую линию.
Изжито ли на Западе это отношение к африканцам? Отнюдь пет. Британская печать постоянно сообщает о преследованиях, которым подвергаются «цветные» в Англии. Вспышки расизма не редкость и во Франции. И это не случайно. Ведь буржуазные средства массовой информации продолжают питать расистские настроения. Когда в мае 1978 г. в Шабе вспыхнуло народное восстание, оно явилось предлогом для нагнетания во всех странах Запада самых низменных человеконенавистнических и расистских страстей.
Было бы, однако, неверно забывать и о другом – о работе многих честных журналистов и ученых, которые своими репортажами и исследованиями приоткрывают перед нами сложный, самобытный мир народной африканской культуры. Такая работа, чтобы быть успешной, требует огромного напряжения сил, ей противопоказаны торопливость и погоня за сенсационностью. Истинным уважением к культуре парода проникнуты исследования английского этнографа Р. Рэттри, посвященные ашанти Ганы, труды англичанина Э. Эванс-Притчарда о нуэрах и азанде Южного Судана, монография бельгийца Ж. Ван Винга о баконго Заира, работа французского ученого Р. Жолена о сара Чада. И это далеко не полный перечень.
Книга П.-Д. Гэсо – это очерки журналиста, который сравнительно недолгое время пробыл среди тех, кому посвятил свой репортаж. Есть в этой книге и страницы, на которых лежит отпечаток авторского стремления поразить читателя рассказами о «таинственном» могуществе колдунов и знахарей тома. Это дань и моде, и требованиям рынка, с оглядкой на который работал журналист.
И все же репортаж П.-Д. Гэсо заслуживает доброжелательного внимании. Рассказывая о том, почему ему но удалось сделать фильм о «священном лесе», он рисует яркие образы интересных, умных людей, с которыми ему пришлось либо сотрудничать, либо, напротив, сталкиваться. Вместе с журналистом читатель оказывается перед лицом сказочно богатой и одновременно суровой к человеку природы, знакомится с обществом, быт которого необычен. Мировоззрение тома становится нам ближе и понятнее.
Тысячи нитей связывают это общество с землей. Земледельцы, охотники и рыболовы тома знают, что само их существование зависит от того, насколько богатым будет урожай риса, как обилен будет сбор орехов масличной пальмы, насколько успешным окажется поход в лес за дичью. Им прекрасно известны свойства почв, они разбираются в различных сортах риса, за века у них сложилась агротехника, которая обеспечивает более или менее гармоничное соотношение урожайности и потребностей общества в различных продуктах питания.
Глубокий отпечаток на быт, на культуру общества тома накладывает сложившаяся в ходе исторического процесса взаимоотношений с природой система разделения труда. В своих основных чертах она идентична той, что существует у соседних народов – герзе, киси, малинке. В круг обязанностей мужчин входит расчистка земельных участков, рубка и выжигание поваленных деревьев и кустарника, тогда как женщины сеют рис, наблюдают за посевами и убирают урожай. Мужским делом является охота, из ремесел – ткачество.
Эта система разделения труда, закрепившая подчиненное положение женщины, служит источником постоянных внутриобщинных конфликтов. Но вместе с тем она точно определяет место каждой возрастной группы, место мужчин и женщин в общественном производстве.
Труд – это главное начало во взаимоотношениях общества тома с землей, с природой вообще. Но не единственное. Почему дичь то изобилует в окрестных джунглях, то пропадает? Почему неожиданные эпидемии уносят людские жизни? Почему урожайный год сменяется неурожайным? Внутренние законы природы, естественные причины различных природных явлений, механизм плодородия почв остаются скрытыми от человека. Однако если его объективные знания скудны, ограниченны, то это не значит, что у него вообще не имеется собственного истолкования окружающей действительности. Правда, оно, по современным понятиям, фантастично, ложно, но сами тома убеждены в его истинности.
Тома уверены, что гармония в природе, ее нормальный ритм, плодородие земель и богатство лесов и рек зависят от гармоничного, упорядоченного взаимоотношения между людьми и мифическими силами – богами, духами леса, предками парода. Когда эти взаимоотношения нарушаются – либо проступком одного из общинников, либо ошибкой при совершении религиозной церемонии, либо несоблюдением запрета, то гнев богов выражается в том, что царящий в природе порядок ломается. Неурожаи, эпидемии, войны – все это проявления неполадок в гармоничном сосуществовании людей и богов.
Только тщательное соблюдение всех норм, управляющих отношениями между людьми и богами, в состоянии предохранить общество от несчастий. Но и этого недостаточно. Фопы нынешней Народной Республики Бенин верили, например, что жертвоприношения «усиливают» богов, делают их могущественнее и, напротив, если о боге забывают, то он слабеет и, наконец, исчезает. Предки, о которых перестают вспоминать их потомки, умирают вторично, и на этот раз смертью, которая не знает воскрешения.
Жертвоприношения, которыми сопровождаются в общество тома все обряды, служат поддержанию тесных связей людей с мифическими силами. Вместо с тем они являются частью торжественного акта, которым люди заявляют о своей верности извечному порядку в общество и природе, созданному и поддерживаемому богами. И стоит разорваться одному из звеньев древнего ритуала, как гармония этого порядка оказывается под ударом и в мир вторгаются зловещие, враждебные человеку силы, обрекающие его на неисчислимые беды и страдания.
Социальное противопоставление мужчин женщинам, выразившееся в системе разделения труда, находит свое продолжение и в сфере взаимоотношений тома с мифическим миром. Их общество знает мужские и женские церемонии, причем они всегда носят закрытый характер. Существуют также мужские и женские тайные объединения. Как разделение труда, так и размежевание обрядности на мужскую и женскую сферы служат закреплению подчиненного положения женщины.
Раздельно – для юношей и девушек – совершается ритуал инициаций. Он проводится не каждый год, а раз в несколько лет и продолжается несколько месяцев. У ближайших соседей тома – герзе церемонии тянулись девять месяцев. Все это время посвящаемые находились в «священном лесу» – символически.
Посредством инициаций молодежь из различных деревень, из различных областей края сплачивается в единую возрастную группу. Между участниками обряда возникают узы не менее, если не более, сильные, чем узы кровнородственной солидарности. Во многих жизненных ситуациях члены одной возрастной группы выступают совместно, оказывают друг другу помощь.
Сложнейший ритуал инициаций имеет двоякий смысл. С одной стороны, наставники посвящают молодежь в традиции парода, знакомят с его преданиями, с нормами морали. С другой – церемонии, сопровождающие пребывание посвящаемого в «священном лесу» и его возвращение в деревню, несут огромную символическую нагрузку. Попадая в лагерь для посвящаемых, юноша символически переносится в эпоху сотворения мира и культуры. Его окружают мифические силы, как бы действовавшие в тот момент. Символически повторяется акт рождения человека, и по завершении своего пребывания в «священном лесу» юноша получает повое имя – свидетельство его внутреннего перерождения. Он в глазах общества становится уже совсем другим человеком, круг его социальных прав значительно расширяется.
Если знание характера и свойств почв, овладение трудовыми навыками, постижение народной мудрости приходят к человеку незаметно, с детства, в процессе его трудового воспитания, то инициации позволяют ему представить окружающий общество и раскрываемый в мифах мир богов, легендарных героев и племенных предков. Этот круг представлений для тома не менее важен, чем основанные на практическом опыте знания реальной действительности. В нем они черпают дополнительные силы перед лицом природных стихий и, пусть иллюзорную, уверенность в способности противостоять ударам судьбы.
Строго говоря, каждый общинник может воздействовать на отношения его деревни с мифическим миром. Еще значительнее возможности старейшин, сам возраст которых приближает их к рубежу, за которым открывается царство мертвых. Но особым могуществом народное воображение наделяет две фигуры – кузнеца и колдуна.
Кузнец обязан жить за чертой деревня, и никто из ее жителей не смеет установить с его семьей отношений родства: ни отдать в его дом свою дочь, ни взять его дочь в жены собственному сыну. У тома, как у большинства других народов Западного Судана, кузнецы образуют нечто вроде касты отщепенцев, отверженных. Их власть над огнем, их умение извлекать металл из руды, их опыт в изготовлении из металла всех необходимых земледельцу орудий труда свидетельствуют о прямой и тесной связи с теми божественными началами, которые участвовали в акте сотворения мира. Это, следовательно, люди если не особой породы, то особого положения.
По всей Лесной Гвинее кузнецы одновременно и скульпторы. Пользуясь своими «привилегированными» отношениями с силами потустороннего мира, они берутся за изготовление их внешних образов – статуэток и масок. Нм хорошо известно, из какой породы дерева можно вырезать образ того или иного духа, они прекрасно владеют приемами своего ремесла. Именно благодаря мощи их изобразительного таланта Лесная Гвинея славятся во всем мире выразительностью своей деревянной скульптуры. Однако вырезанная кузнецом маска не могла сразу же использоваться в обрядах. Предварительно она должна была побывать в руках колдуна.
В развитых древних обществах отношения людей с мифическим миром контролировались жрецами, которые специализировались на той или иной сфере этих связей, – прорицателями, заклинателями, целителями и т. д. Среди тома с характерной для их общества слабо расчлененной структурой все эти обязанности исполняются одним человеком – колдуном. Его долг – знать, как поддерживать гармоничные отношения между людьми и богами, чтобы не нарушился извечный порядок в природе и в самом обществе. Если же в этой гармонии тем не менее обнаруживаются «сбои», если внутренний мир общины подрывается конфликтами, ссорами, то именно колдун подсказывает старейшинам деревни ритуальные меры, с помощью которых может быть восстановлен естественный ход событий, нормальное положение вещей.
За помощью к колдуну обращаются и больные. В деревнях тома не знают естественных причин заболеваний; болезнь объясняется либо тем, что важный запрет был нарушен кем-то из членов общины, невольно навлекшим на своего сородича гнев богов, либо злокозненными магическими действиями тайного врага заболевшего человека. В любом случае только колдун в состоянии выяснить, чем же вызвано заболевание, и предложить эффективное противодействие – очистительные церемонии, чтобы освободиться от порожденной нарушением запрета скверны, или создание талисмана – «фетиша» более сильного, чем используемый напустившим болезнь врагом.
Что же представляет собой «фетиш», о котором столь часто вспоминается в книге П.-Д. Гэсо?
По поверьям тома, в каждом предмете, в каждой вещи заключена некая магическая сила, причем предметы, наделенные общими внешними признаками, связаны между собой, и эта сила может передаваться от одного такого предмета к другому, накапливаться, возрастать. Это убеждение отчасти питалось опытом. Так, по всей Тропической Африке окружены почитанием орехи кола. Их преподносят вождю деревни в знак преданности, главе семьи – в знак уважения. Дело в том, что в этих орехах содержится возбуждающее, снимающее чувство голода и усталости средство. Но тома не знают этого, они объясняют действие орехов кола присутствием в них благотворной мистической силы.
Аналогичным образом тома истолковывают целебное действие растений и минералов. Когда речь идет о приготовлении оберега от болезни, колдун обязательно применяет известные ему травы, корни и минералы. Но одновременно в состав «фетиша» включаются, с нашей точки зрения, и совершенно бесполезные средства. Их действенность колдун видит в чисто внешнем сходстве с пораженным болезнью органом. Многие «зелья» включаются в состав «фетиша» потому, что существуют предания, говорящие об их эффективности.
Какова природа силы, которой наделен «фетиш»? Пытаясь дать ей объяснение, тома говорят, что в талисмане находится душа одного из предков парода. В некоторых наиболее могущественных и окруженных общим почитанием магических предметах могло быть представлено даже божественное начало. Будучи одним из множества возможных внешних проявлений того или иного бога, «фетиш» играет роль своего рода «канала связи» между ним и людьми.
Часто перед «фетишами» совершались кровавые жертвоприношения. Этот обычай уходит корнями в поверье, что жизненное начало, жизненная сила содержатся в крови. Баконго верят в то, что «человек умирает, когда последняя капля крови покидает его тело». Смазывая «фетиш» кровью жертвы, жрец как бы укрепляет его мощь, делает его более действенным. Именно пря приготовлении таких «фетишей» чаще всего, хотя далеко не всегда, попользуются маски и статуэтки.
Таковы некоторые черты культуры небольшой этнической группы Лесной Гвинеи, о которой пишет П.-Д. Гэсо. Они могут показаться архаичными и, действительно, сегодня характерны только для обществ, относительно изолированных и замкнутых.
Перемены в краю тома начались после того, как осенью 1958 г. Гвинея провозгласила свою независимость. Прошло несколько лет, и молодежь глухих лесных областей поднялась против гнета древних традиций и верований. В деревнях начали собирать и уничтожать предметы, с помощью которых колдуны поддерживали собственное влияние. Молодежь больше не хотела полагаться на благосклонность и расположение божеств, она почувствовала силу собственных рук.




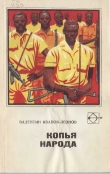
![Книга Писательницы пушкинской поры [историко-литературные очерки] автора Михаил Файнштейн](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-pisatelnicy-pushkinskoy-pory-istoriko-literaturnye-ocherki-195320.jpg)