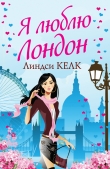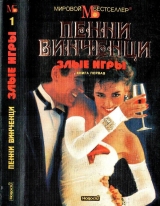
Текст книги "Злые игры. Книга 1"
Автор книги: Пенни Винченци
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 31 страниц)
– Ну а как ты? – спросил он. – Надеюсь, процветаешь?
«Как мило, – подумала она. – Считает, небось, будто все свое благополучие я создала только на том чеке, что с такой готовностью приняла тогда от его отца».
– Да, процветаю, – ответила она.
– И в какой сфере?
– Недвижимость.
– Вот как? Крупный воротила мисс Бербэнк?
– Ну… не то чтобы воротила. Но дела идут отлично.
– Прекрасно. Рад слышать.
Они снова замолчали. Потом он вдруг произнес:
– Я соскучился по тебе, Энджи. Очень соскучился.
Она взглянула ему в глаза: совсем не измаслившиеся, такие же голубые, как когда-то, наполненные легкой грустью, смотревшие на нее как и прежде, – и время вдруг повернулось вспять, она почувствовала, что ей снова только восемнадцать лет, что она снова сгорает в нетерпении от жажды любви и удовольствий и ничего другого ей не надо; и она проговорила:
– Я тоже, Малыш. Я тоже по тебе соскучилась.
Наступила долгая пауза; Энджи прекрасно понимала, чем сейчас занят Малыш: он соображал, взвешивал, прикидывал – стоят ли возможные радости сопряженных с ними опасностей, риска, боли; она сознавала, что, если в ней есть хоть что-то хорошее, она должна облегчить Малышу эти страдания, встать, сказать, что ей пора идти, что она была рада с ним увидеться и что, когда она будет в Нью-Йорке в следующий раз, неплохо бы встретиться снова. Она должна была подумать о нем, о его семье, его детях, о том, как мучительно для него сейчас сделать выбор, который показался бы ему правильным, подумать о его новом общественном положении – ведь возглавлять банк очень и очень непросто, это огромная и постоянно давящая ответственность. «Если я действительно люблю его, – подумала она, – я должна вскочить, немедленно уйти, раз и навсегда, и оставить его в покое».
Но было уже поздно, он ее опередил, заговорил сам, первым, и произносил теперь эти смертельно опасные слова, не слова, а приговор: «Может быть, у тебя найдется время и мы поужинаем как-нибудь вместе…» – и она была уже бессильна что бы то ни было сделать, как-то сопротивляться; больше того, ей абсолютно не хотелось даже пытаться оказывать такое сопротивление, поэтому она просто улыбнулась ему и ответила – голос ее при этом дрогнул, она мысленно выругала свой голос за то, что он подвел ее, предал, выдал ее чувства:
– Да, Малыш, конечно. С удовольствием.
Глава 15
Георгина, 1981
Георгина только-только начала ощущать приближение оргазма, как в комнату вошла старшая воспитательница; она еще купалась в стремительных волнах бурного наслаждения, то вздымавших ее вверх, то внезапно бросавших куда-то в бездну, она еще раскрывалась этим волнам, все сильнее прижимаясь к Джейми Ханту, обвивая его своими длинными ногами, тело ее выгибалось, голова запрокинулась назад, она кусала губы, стараясь удержать стоны радостного исступления, которые, она знала, все равно вырвутся у нее, как бы она ни уговаривала себя, что этого делать нельзя.
И в этот момент вспыхнул свет, и вместо напряженного от удовольствия лица Джейми чуть в отдалении, за его обнаженными, равномерно двигавшимися спиной и ягодицами она увидела старшую воспитательницу; та стояла и смотрела на них с выражением крайнего омерзения и презрения на лице; тело Георгины сразу же словно одеревенело, ощущение наслаждения мгновенно исчезло; однако она не почувствовала ни страха, ни стыда – ее охватила только злость из-за того, что такое наслаждение оказалось испорченным, но одновременно на нее напал и неудержимый смех; и звук, который все же вырвался из ее губ, был не вскриком оргазма, но хриплым и веселым хихиканьем.
Ее исключили немедленно; послали за Александром, и в тот же самый день она была отправлена с ним домой. Администрация школы была очень корректна, даже доброжелательна; но, как было сказано Александру, его дочери дважды делали предупреждения по поводу ее поведения, не раз в ее комнате обнаруживали мальчиков, хотя за столь возмутительным занятием застали впервые; и ее отношение к этим предупреждениям было таково, что не дает им оснований снова делать ей снисхождение. Георгина, похоже, не испытывала никаких угрызений совести и даже не собиралась извиняться; она только заявила, что старшая воспитательница должна была постучаться, что у нормальных людей принято стучать, прежде чем заходить в чью-то спальню.
В машине, уже по дороге в Уилтшир – ехали они, пожалуй, чересчур быстро, – она сидела молча, смотрела по сторонам, чувствовала себя явно совершенно спокойно и непринужденно и только время от времени принималась грызть и без того сильно обкусанные ногти. Когда они уже почти приехали и впереди показался дом, Александр остановил машину на вершине холма, перед самым въездом на Большую аллею, посмотрел на Георгину и проговорил:
– Меня это все сильно огорчает, Георгина, очень сильно огорчает. Я совершенно не понимаю твоего отношения. Твое поведение я еще как-то могу понять. Но твоего отношения – нет, не понимаю.
– Не вижу особой разницы, – ответила Георгина. – И не понимаю, что такого плохого мы делали. А потому и не вижу, из-за чего это я должна так уж раскаиваться. Но если я тебя огорчила, извини. – У нее было какое-то странное внутреннее состояние; по характеру своему человек, в общем-то, неагрессивный, скорее даже наоборот, мягкий, дружелюбный, временами даже чересчур уступчивый и сговорчивый, она, с тех пор как Шарлотта рассказала ей о матери, и особенно после смерти Вирджинии, чувствовала себя как будто потерянной, дезориентированной, утратившей свое настоящее «я». И теперь с оскорбленным, озадаченным, сердитым видом смотрела на отца и просто не могла взять в толк, чего такого он никак не может понять.
– О господи, – произнес Александр, – и как только ты можешь говорить, будто не понимаешь, что вы сделали плохого? То, чем вы занимались, прямо и ясно запрещено школьными правилами, тебя об этом предупреждали и раньше; а кроме того, Георгина, мне бы хотелось верить, что у тебя достаточно чувства собственного достоинства, чтобы не бросаться в постель с первым же мальчишкой, который тебе предложит. Мне бы очень хотелось в это верить.
– Он был не первый, – ответила Георгина.
– Георгина! О боже. – Он уронил голову на лежащие на руле руки.
– Ну, папа, извини меня. – Она сознавала, что голос ее звучит очень холодно, однако ничего не могла с этим поделать. – Это, наверное, моя плохая наследственность сказывается.
Александр поднял голову и уставился на нее:
– Не понимаю, о чем ты?
– Правда? В самом деле не понимаешь?
– Да. В самом деле.
– Ну, папа! Я хочу сказать, что явно пошла по стопам матери. Тоже сплю с кем попало. Не забывай, я ведь понятия не имею, кто мой…
Александр поднял руку и сильно ударил ее по лицу:
– Не смей, никогда не смей так говорить о матери! Чтобы я этого больше не слышал!
– Почему? Ведь это же правда, разве не так?
– Это неправда. И я не позволю тебе так говорить!
– Да? – Она посидела немного молча, держась за щеку рукой, глядя на отца и удивляясь одновременно и тому, откуда может быть у него такая верность матери, и тому, почему она сама ведет себя подобным образом, почему оскорбляет человека, которого любит больше всех на свете. – Ну что ж, – вымолвила она наконец, – то, что ты остаешься так ей верен, производит большое впечатление. Очень большое. Говорить о ней так я больше не буду. Но боюсь, что не думать так не смогу.
Наступила долгая тишина; Александр сидел, глядя прямо перед собой, на дом, лицо его внезапно сильно постарело, на нем появилось выражение полнейшего отчаяния. Потом он повернулся к Георгине и обнял ее.
– Георгина, прости меня. Прости, что я тебя ударил, я просто не понимаю… О господи, что я говорю… ты, наверное, хочешь поговорить обо всем этом…
– Папа, не надо, пожалуйста, не надо… – Она высвободилась из его объятий, немного отодвинулась от него, помолчала, потом уселась как прежде, взглянула на отца, и вся ее бравада вдруг пропала, теперь она стала маленькой, незащищенной, готовой вот-вот разреветься девочкой. – Так мне и надо, меня и стоило ударить. И не хочу я ни о чем говорить, мне все это противно. Пожалуйста, не надо. Мне трудно, я пытаюсь как-то со всем этим справиться. Но говорить я ни о чем не хочу. И уж обсуждать это именно с тобой тем более не хочу. Я тебе очень сочувствую, мне страшно стыдно, что меня исключили и что я тебя опозорила. Прости меня, но, пожалуйста, не заставляй говорить о маме и, пожалуйста, никогда больше не пытайся заставить меня хорошо о ней думать. Ладно? А теперь поехали, пожалуйста, домой. Я страшно устала.
– Да, конечно. – Он включил двигатель и тронул машину.
Когда они уже ехали по Большой аллее, Георгина незаметно взглянула на него. Выражение лица Александра ее поразило. На нем было написано колоссальное облегчение.
Ужинали они на кухне, вдвоем. Атмосфера была удивительно непринужденной.
– В какую же школу тебя теперь определить, ума не приложу, – достаточно бодро проговорил Александр. – После исключения попасть куда-нибудь непросто.
– Не хочу я ни в какую школу.
– Ну не можешь же ты не учиться. Тебе надо хотя бы получить среднее образование.
– Я знаю. Но я ведь тебе говорила, что не хочу идти в полную среднюю школу. И уж во всяком случае не в эту. Я хочу в колледж, который берет с неполным средним, и хочу заниматься архитектурой. Я могла бы поступить в тот, что в Свиндоне, правда? По-моему, они должны меня взять с удовольствием.
– Не знаю, не уверен. Могут и не согласиться. Не думаю, что они с радостью кинутся на тебя только из-за того, что ты из нашей семьи.
– Ну, папа! Не говори глупостей. Я вовсе не это имела в виду. И, кроме того…
– Да?
– Нет, ничего. Я хотела сказать, что ведь неполную среднюю я закончила неплохо, оценки для поступления в колледж у меня достаточные, и к тому же я точно знаю, чем хочу заниматься.
– Ну что ж, может быть, ты и права. Напишем в колледж. В любом случае, я думаю, тебе придется начинать там сначала, те два года, что ты проучилась в полной средней, здесь тебе не засчитают. Сейчас уже май, догнать ты не успеешь.
– Ничего, я не против. Все лучше, чем заниматься латынью и историей Древнего мира.
– Я вообще не понимаю, почему ты выбрала в школе эти предметы.
– Наверное, чтобы пооригинальничать, – еле заметно усмехнулась Георгина.
Колледж в Свиндоне отказался ее принять, но другой, тот, что в Сайренсестере, согласился, с тем, однако, условием, что она начнет курс обучения с самого начала. Георгина ощутила вдруг прилив бодрости. Она по-прежнему чувствовала себя потерянной, но, похоже, жизнь начинала обретать какой-то смысл. Напевая, она бегала по дому, занималась разными делами, помогала на кухне миссис Фоллон, складывала вместе с работниками сено на ферме и вообще стала держаться гораздо милее и дружелюбней, чем до этого. В самом начале июня приехала Шарлотта, бесконечно гордая тем, что закончила год самой первой из тройки лучших студентов своего курса; но, пробыв дома всего несколько дней, снова уехала, отправившись с компанией друзей путешествовать по Европе; договорились, что в августе она присоединится ко всей семье, которая будет в то время в Нантакете.
Потом, к концу июня, Георгина вдруг почувствовала себя плохо. Все началось с какой-то общей усталости, вялости и апатии, затем ее стало мутить и подташнивать, спустя неделю ее уже тошнило по три-четыре раза в день, а то и чаще. Никакие обычные в таких случаях средства ей не помогали. Вскоре ее уже тошнило после каждой еды независимо от того, чего и сколько она съела, за очень непродолжительное время она похудела так сильно, что это стало вызывать тревогу.
Ее осмотрел доктор Саммерфилд, пожилой уже человек; он диагностировал заторможенный шок и посоветовал ей побольше отдыхать, принимать как можно больше глюкозы, есть понемногу, но часто и через равномерные промежутки времени. Однако и при таком питании ее организм продолжал избавляться от съеденного точно так же, как делал это, когда она ела помногу и как придется. Так прошла еще неделя.
Первой, кто понял, в чем тут дело, была Няня. Она привела Георгину к себе в комнату, усадила ее, уставилась ей прямо в глаза и спросила, когда у той в последний раз были месячные. Георгина принялась было вспоминать, не смогла вспомнить сразу, и тут до нее дошел подлинный смысл того, о чем именно спрашивает ее Няня; Георгину затрясло, у нее перехватило дыхание, и ей показалось, будто она стремительно проваливается в какой-то бесконечно длинный черный колодец.
– О господи, – проговорила Георгина, – боже мой!
– Давай-ка мы кое-куда сходим, – только и сказала Няня.
Они вдвоем отправились в Свиндон – сказав Александру, что едут к специалисту, которого порекомендовал им доктор Саммерфилд; расчет их строился на том, что в силу своей загруженности делами и общего душевного смятения Александр не станет звонить доктору Саммерфилду и выяснять, кто этот специалист и в чем именно он специализируется, – на самом же деле они ехали к Лидии Пежо, которая раньше была гинекологом Вирджинии; выслушав по телефону слегка закодированное сообщение Няни, миссис Пежо согласилась принять и осмотреть Георгину немедленно.
Поездка оказалась сплошным кошмаром: по пути им пришлось трижды останавливаться, потому что Георгине становилось плохо и нужно было срочно выйти из машины; уже в больнице, пока они дожидались приема, Георгина дважды бегала в уборную и надолго запиралась там. В конце концов перед миссис Пежо предстало трясущееся, смертельно бледное существо с провалившимися глазами.
– Предупреждаю, – проговорило оно с подобием какой-то улыбки, опустившись в кресло в кабинете врача, – мне может понадобиться срочно убежать.
Лидия Пежо ободряюще улыбнулась ей:
– Разумеется. Туалет вон там. – Она показала рукой на дверь у себя за спиной.
Георгина устроилась поудобнее в кресле и стала думать, что же ей следует говорить дальше.
– Ну что ж, выглядите вы не очень хорошо, – сказала Лидия. – Вы всегда были такой худой?
– Да, – ответила Георгина. – Всегда.
– В общем-то, ничего плохого в этом нет. Для здоровья это даже лучше, чем быть толстой. Так на что же мы жалуемся?
Она опять ободряюще улыбнулась Георгине. И та вдруг почувствовала себя свободно и непринужденно и тоже улыбнулась в ответ. Выглядела она сейчас на удивление веселой.
– По-моему, я беременна, – заявила она. – Не знаю, почему мне раньше не пришло это в голову. Наверное, я полная дура.
– Н-ну что ж… может быть. Когда у вас в последний раз были месячные?
– Двадцать пятого апреля.
– Так. А сегодня у нас двадцать девятое июня. Солидный срок. Какой у вас обычный цикл?
– Каждые четыре недели, железно, – как ни в чем не бывало ответила Георгина. – Неизменно.
– Да… это уже можно считать косвенным доказательством. И с какого времени вас начало тошнить?
– Примерно три недели тому назад. А за неделю до этого я стала чувствовать себя страшно усталой.
– И вам не пришло в голову, что, возможно, вы беременны?
– Нет. Я понимаю, это звучит глупо. Но у меня тогда было много поводов для переживаний.
– Да, конечно, – негромко проговорила Лидия. – Вы, наверное, очень тоскуете по маме. Я вам сочувствую.
– Спасибо, – только и сказала Георгина. Она видела, что Лидия внимательно смотрит на нее, и поспешила сменить тему разговора, чтобы уйти от того кошмара, каким стало бы для нее обсуждение ее чувств по отношению к матери. – Но я, в общем-то, не это имела в виду. Меня тогда только что исключили из школы.
– За что?
– За то, что застали в постели с мальчиком.
– Вот как? И после этого вам не пришло в голову, что вы можете быть беременны? Это уж действительно звучит странно.
– Я понимаю. Няня первая об этом подумала. Она-то меня и спросила о последних месячных.
– Умница ваша няня. Это та же самая, что была и раньше? Поразительная старушка!
– Да, – кивнула Георгина, – та же, она меня сюда и привезла.
При мысли о том, что Няня со свирепым видом дожидается ее сейчас в коридоре, глаза у Георгины от страха наполнились слезами. Мысль о маме никогда не вызывала у нее такой реакции. Она опустила взгляд и уставилась себе на колени.
– Ну что ж, – мягко произнесла Лидия, поднимаясь с места и сочувственно улыбаясь Георгине, – давайте-ка вас осмотрим. Не исключено, что мы обе ошибаемся.
Они не ошибались. По словам миссис Пежо, Георгина была на седьмой или восьмой неделе беременности.
– Разумеется, для полной уверенности надо проделать все анализы. Но у вас напряженные груди, и есть другие достаточно типичные признаки. Лично у меня сомнений практически нет. Может быть, вы хотели бы обсудить со мной практические вопросы?
– Не знаю, – ответила Георгина. – А что это за практические вопросы?
– Я буду рада вам помочь, – объяснила Лидия. – Со всем, что может понадобиться. Вам, наверное, нужно обо всем этом немного подумать. Но если вы хотите прекращения беременности, то времени у нас в запасе мало. И разумеется, вы должны будете сказать об этом своему отцу. Или он уже знает?
– Нет, конечно же нет.
– А… а как вы поступите с отцом? Я имею в виду отца ребенка. Вы собираетесь что-нибудь ему говорить?
– Я не могу, – объявила Георгина.
– Ну что ж. А почему, есть какая-нибудь причина?
– Я не знаю, кто он.
Лидию Пежо специально учили никогда не показывать своих чувств. Но в ее практике еще не было случая, когда выполнить это требование оказалось бы так трудно, как на сей раз.
– Понятно. Ну, в таком случае я вам очень и очень рекомендую прекращение беременности. Разумеется, решать вам. Если вам понадобится посоветоваться со мной, пожалуйста, я в вашем распоряжении в любое время, в любое время. Наверное, вам сейчас очень одиноко.
– Да… немного. – Сказав это, Георгина вдруг осознала, что на самом-то деле ей почему-то довольно весело. – Но думаю, что все будет в порядке, я справлюсь. У меня ведь есть Няня. И все равно, спасибо вам большое.
– Не за что. А теперь пройдите к сестре, она возьмет у вас анализы. Сегодня к вечеру я вам позвоню.
– Спасибо. Огромное спасибо, миссис Пежо. Я вам очень благодарна. – Георгина широко улыбнулась врачу. – Мне теперь стало намного легче. Во всех отношениях. – Она на секунду замешкалась, а потом вдруг сама удивилась вылетевшим у нее словам: – Да, и должна вам сказать, я не хочу никакого прекращения беременности.
Лидия в этот момент писала направление к сестре; она остановилась, встревоженно подняла глаза на Георгину, потом начала писать дальше.
– Ну что ж. Решать, разумеется, вам. Но обдумайте все как следует, хорошо? Подумайте обо всех последствиях. Очень тщательно. И через несколько дней опять приходите ко мне. Что бы вы ни решили, вам нужна будет медицинская помощь. Так дальше продолжать нельзя.
– Конечно. Конечно, нельзя. Я даже… – Она вдруг вскочила. – Ой, извините, можно мне воспользоваться вашим туалетом?
Выйдя из кабинета, она только кивнула Няне, сказала негромко: «Похоже, что да», – и больше не произнесла ни слова, пока они не вернулись в Хартест.
Уже дома Георгина спросила:
– Можно я зайду к тебе? Поговорить?
– Конечно можно. Я поставлю чайник.
– Чудесно. Совсем слабый чай, если можно. Надеюсь, от такого меня не вытошнит.
– Ну так вот, – заявила она, опускаясь в Нянино кресло-качалку и с довольным видом складывая руки у себя на животе, – я беременна. – Всю ее переполняла радость; Георгина улыбнулась Няне, чувствуя себя невероятно счастливой.
– Да, тут уж ничего не поделаешь, – ответила Няня.
– Вот именно, а я и не хочу ничего делать. Спасибо тебе, Няня, за то, что ты сразу поняла, в чем дело. Не знаю, что бы я без тебя делала. Наверное, разродилась бы в гостях у бабушки прямо на Рождество.
– Здравым смыслом ты никогда не отличалась, это уж верно, – проговорила Няня.
– Я знаю. Но ведь это же прекрасно, правда?
– Нет, – возразила Няня, – я бы так не сказала.
– Нет, прекрасно. Я так рада, сказать тебе не могу.
– Георгина, – начала Няня, и на этот раз испытанное ею потрясение подвигло ее на совершенно обычную в подобных случаях реакцию, – Георгина, ты говоришь чепуху. Ну как, интересно, ты можешь быть рада? И чему? Должен же быть у тебя какой-то здравый смысл. Что ты собираешься делать дальше?
– Разумеется, рожать этого ребенка. Я тебе не могу передать, какие изумительные чувства я сейчас испытываю из-за него, Няня. Хотя, конечно, мне и очень плохо. Но я страшно счастливая, просто жуть какая счастливая.
– Георгина, тебе нельзя оставлять ребенка. Нельзя. Это убьет твоего отца.
– А мне кажется, – возразила Георгина, – что ничего подобного, а вот мне будет намного лучше. – Она прямо, не отводя взгляда, смотрела на Няню. – Послушай, мне не очень хочется обо всем этом говорить, мне это противно, но, может быть, тогда ты меня поймешь. Поймешь, что и почему я чувствую. Это касается… мамы. Понимаешь ли, мы… то есть папа… о господи, даже и не знаю, как тебе сказать…
Няня взглянула на нее, и Георгина вдруг почувствовала, что между ними двумя не осталось больше никаких секретов.
– Я все знаю, Георгина, – произнесла Няня.
Георгина почувствовала себя так, словно ей сказали, что мир стал вращаться в обратную сторону. Долгое время она молчала, не в силах произнести ни слова, и только не мигая взирала на Няню.
– Откуда ты знаешь? – выдохнула она наконец.
– Я много чего знаю, – ответила Няня.
– Да… но… – Георгина развела руками, не в состоянии поверить услышанному. Она могла заподозрить в таком знании кого угодно, но уж только не Няню с ее нравственной непоколебимостью, крайне щепетильным отношением ко всему, с ее преданностью Вирджинии. – Но, Няня, ты же так любила маму. Не желала никогда слушать ни одного худого слова в ее адрес.
– И правильно. – Няня взяла отложенное вязанье и принялась быстро-быстро вязать. На Георгину она не смотрела. – Я была твоей маме подругой. Ей было очень одиноко.
– Но, Няня, ты же когда-то и за папой ухаживала, воспитывала его, ты ведь его наверняка любила.
– Да, любила. Я их обоих любила.
– Но, Няня… – Георгину внезапно осенила мысль, и с этой мыслью пришло чувство облегчения. – Если ты все знала, то, может быть, ты сможешь объяснить. Мы не знаем, ни Шарлотта, ни я, почему… папа не хочет говорить об этом…
– И правильно, что не хочет, – строго, почти официально проговорила Няня. – А почему он должен об этом говорить?
– Потому что мы… – Она чуть было не сказала «его дети», но остановилась и смолкла.
– Такие вопросы обсуждают со взрослыми, – сказала Няня, – а не с детьми.
– Няня, мы не дети. И мы должны знать.
– Ничего вы не должны, – возразила Няня. – Вам хочется узнать. Ты забыла то, что я тебе много раз говорила, Георгина: между тем, что должны, и тем, что хочется, есть большая разница.
– Я считаю, что мы должны знать.
– Я тебе все равно не могу ничего рассказать. Я обещала твоей матери, что никогда никому не скажу.
– Но мы же все равно знаем, Няня.
– Не больше, чем вы должны знать. И кстати, откуда это вы узнали? И когда? Надо вам было мне об этом сказать.
– Ну… до Шарлотты дошли какие-то сплетни. Она это услышала от Тоби Лейвенхэма. Спросила папу, и папа сказал, что это правда. Это было незадолго до того, как погибла мама.
– Я всегда не любила этого мальчишку, – заявила Няня. – Очень уж у него манеры гладкие. А отец сказал только то, что это правда? И ничего больше?
– Ничего.
– Правильно сделал.
– Няня!
Няня посмотрела на Георгину, и выражение ее лица вдруг смягчилось.
– Тебе, наверно, тяжело было это узнать. Жаль мне тебя. Я часто говорила ее светлости, что она сама должна вам все рассказать. Она говорила, что обязательно так сделает, как только вы станете постарше.
– Но не сделала, – с легкой горечью в голосе произнесла Георгина, – а как только мы узнали сами, ее не стало.
Она заплакала и ткнулась лицом Няне в колени; Няня отложила вязанье и стала нежно гладить ее по голове.
– Бедняжка, – негромко и сочувственно проговорила она.
Некоторое время спустя Георгина подняла голову и взглянула на Няню.
– Не могу поверить, что ты все знала. И знала все это время. Господи! И ты мне так ничего больше и не скажешь? Совсем ничего?
– Нет, – коротко ответила Няня. – Я не имею права тебе говорить. Это не я должна делать.
– Ну… ладно. Оставим это пока. Я вот что хотела сказать, Няня: все это время я себя чувствовала такой одинокой, потерянной. А теперь у меня ощущение, как будто я снова нашла себя. Потому что у меня есть ребенок. Ты это можешь понять?
– Нет, не могу. – Няня снова посуровела. – Я абсолютно не могу понять, как ты можешь даже думать о том, чтобы оставить ребенка. Без мужа. И в твоем возрасте.
– Не совсем понимаю, какое отношение ко всему этому имеет мой возраст, – поморщилась Георгина. – Но так или иначе, я могу его оставить, и я его оставлю. Я думала, Няня, ты обрадуешься тому, что, когда родится малыш, тебе снова будет за кем ухаживать.
– Я бы обрадовалась, если бы у него был отец. А кто его отец, Георгина? Кто-нибудь из той школы? Я никогда не любила школьную форму.
– Э-э… да, – уклончиво ответила Георгина, несмотря на свое восторженное состояние все-таки сообразившая, как трудно будет Няне справиться с сообщением о том, что отцом ребенка может быть любой из тех троих. – Да, из школы.
– Ну, так ведь он же на тебе женится, верно? Не знаю, успеем ли мы еще организовать свадьбу.
– Нет, Няня, он на мне не женится. Совершенно определенно нет.
– Он обязан жениться, – заявила Няня, – и я сама с ним об этом поговорю.
– Нет, Няня, не сможешь. Я тебе не скажу, кто он такой.
– Ну, отцу-то ты должна будешь это сказать.
– Да, – вздохнула Георгина, – он, конечно, захочет это узнать. Послушай, Няня, ему я скажу, я просто должна буду это сделать, я понимаю. Но дай мне еще денек или два. Хорошо?
– Ладно, – согласилась Няня, – ты ведь все равно ничего не ешь.
Подобная логика показалась непостижимой даже Георгине. Она поднялась и поцеловала Няню.
– Спасибо тебе, – сказала она.
Лидия Пежо позвонила на следующий день. Результаты анализов оказались положительными.
– Как я и думала. Так что, Георгина, надеюсь, вы со мной свяжетесь, когда почувствуете себя готовой.
– Спасибо, – ответила Георгина.
– И позвольте мне еще вам сказать – я, конечно, понимаю, вы можете возразить, что это не мое дело, – позвольте все же сказать, что девушка вашего возраста, даже столь благополучная в материальном отношении, как вы, не должна с легкостью бросаться в материнство. Было бы гораздо лучше… всерьез подумать о возможности прекращения беременности.
– Это действительноне ваше дело, – весело отозвалась Георгина, – хотя я на вас и не обижаюсь. Нисколько. Но честное слово, миссис Пежо, ни о каком прекращении беременности я даже думать не буду. Я очень, очень хочу этого ребенка.
– Не сомневаюсь, – проговорила Лидия, – и я вас понимаю. Но как вы думаете, он вас хочет? В вашем нынешнем положении? Подумайте об этом, Георгина. Пожалуйста.
– Подумаю. Но решения своего я не изменю.
Разговора со своим отцом она не испугалась. Георгина рассказала ему все. Что она не знает, кто отец ее ребенка; что в лучшем случае число потенциально возможных претендентов может ограничить тремя; и что по этой самой причине никому из них не может предъявить никаких претензий – да и как бы она могла это сделать? А также что собирается оставить ребенка и что отцу никоим образом не удастся убедить ее поступить иначе.
Александр выслушал все это молча. Он не кричал, не устроил скандала, не ругал ее. Он лишь напряженно и внимательно слушал, ни на мгновение не спуская с нее холодного, отстраненного взгляда. Никогда еще Георгина не видела Александра в таком состоянии. Она привыкла к тому, что он всегда относится к ней с теплотой и любовью, с юмором и доброй иронией; иногда он сердился на нее, как это было, когда ее исключили из школы, но в таких случаях его реакция была оправданна и всегда естественна. Теперь же она испугалась.
Наконец она произнесла последнюю фразу:
– И миссис Пежо обещала помочь мне с родами и со всем остальным, – и замолкла.
Тогда заговорил он:
– Георгина, я почти ничего не могу во всем этом изменить. Разумеется, ты можешь жить здесь, и твой ребенок тоже. Я не собираюсь выгонять тебя на улицу, как отец из какой-нибудь мелодрамы времен королевы Виктории. Но я тебя не прощу, и не ожидай этого. И любить твоего ребенка я тоже не смогу. Боюсь, что ты мне уже больше не дочь.
Странно, но ее глубоко задела его реакция.
– Разумеется, нет, – ответила она, – может быть, потому-то все так и вышло.
– Конечно, ты не моя дочь, – произнес он. – Ты не моя плоть и кровь. Но я всегда так тебя любил, так тобой гордился; да простит мне Бог это признание, но ты была моей любимицей. Существуют ведь не только гены и хромосомы, но и какие-то другие нити, которые объединяют и связывают людей. Для меня ты всегда была дочерью. Самой любимой дочерью. Подчеркиваю: была. Теперь, после всего этого, я к тебе отношусь иначе.
Александр повернулся и вышел из комнаты.
* * *
В конце концов она все-таки сделала аборт. Прикидывала так и эдак, терялась и мучилась в раздумьях, и это продолжалось до тех пор, пока под тяжестью чувства вины, горя и отчаяния она вообще не утратила способность что-либо соображать; тогда, в состоянии полнейшей безысходности, она позвонила Лидии Пежо и попросила ее о немедленной операции.
– Только не говорите, не говорите мне, что я поступаю правильно, – заявила Георгина, – а то я вообще с ума сойду.
– Не буду, – сказала Лидия, – обещаю. И никому другому тоже не позволю так вам говорить.
Все прошло легко, быстро и безболезненно. Георгина предпочла бы, чтобы лучше уж было наоборот. Ей казалось, что, убивая своего ребенка, которого так любила, она должна была, просто обязана была немного пострадать. То, что ребенка так легко и просто, без боли и мучений, даже без каких-либо неприятных для нее ощущений взяли и выбросили из ее теплого, кормившего и растившего его тела, показалось ей верхом предательства. Она проснулась после операции на узкой больничной кровати, лежала, кровоточа и душой, и плотью, и ей страстно хотелось, чтобы тело ее испытывало боль. Но оно не желало страдать.
– Я хочу, чтобы мне было больно, – говорила она пришедшей навестить ее Няне, прижимаясь к ее руке лицом, по которому градом катились слезы. – Ты это можешь понять или нет? Я хочу, чтобы мне было больно. Для меня невыносимо, что у меня совсем ничего не болит.
– Тебе и так больно. – Няня откинула ей со лба волосы. – У тебя только болит не так, как тебе хочется.
Георгина удивленно посмотрела на нее:
– Да, и в самом деле. Ты права. Мудрый ты человек, Нянечка. Что бы я без тебя делала? Что бы мы все без тебя делали?
Боли она в конце концов все-таки натерпелась. Она подхватила инфекцию, у нее резко подскочила температура, и она много дней пролежала в жару, зовя в бреду то маму, то Александра, то Няню.