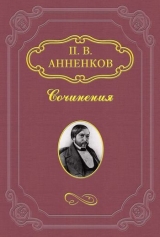
Текст книги "Пушкин в Александровскую эпоху"
Автор книги: Павел Анненков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 26 страниц)
Здесь кончаем заметки о приведенных нами программах Пушкина. Читатель, может быть, простит эту долгую остановку на плане не состоявшегося, не написанного еще романа, приняв в соображение, что она становилась необходимостью при желании проследить все литературные замыслы поэта перед концом его поприща, упразднившего их навсегда.
Эти же слова применяются и к плану большой фантастической драмы, оставленному Пушкиным, к которому теперь и переходим. Здесь поэт наш уже покидает область русского, реального, так сказать, творчества и переносится в другую, в область западных народных сказаний и представлений, где и прежде чувствовал себя совершенно полноправным гражданином. Натурализацию эту он купил инстинктивным художническим пониманием духа, умственного склада, психеи тех иноземных племен, к которым обращался за мотивами для своих произведений. Новая предполагаемая драма назначалась видимо умножить собою отдел драматических очерков и сцен, навеянных Пушкину жизнью и творчеством западной Европы. Известно, что на заимствованиях этого рода Пушкин созидал картины и образы глубокого содержания, ярко отражавшие, с одной стороны, нравственные особенности и культуру того народа, где происходит действие драмы, а с другой – обнаруживавшие в каждой такой специальной культуре элементы общего значения. По многим чертам программы можно заключать, что теми же родовыми признаками пушкинских заимствований отличалась бы и новая драма, не смотря на свой фантастический характер, каким и должна была окрашиваться одна из самых странных легенд Европы, легенда о папессе Иоанне. Выбор Пушкина имел однако ж в основании соображения реального характера. Но прежде чем подробнее говорить о причинах такого выбора, следует привести программу Пушкина,что и исполняем здесь. Она писана по-французски и уже подразделена поэтом на акты.
«Acte I.
«La papesse – fille d'un honnête artisan, étonné de son savoir. La mère vulgaire n'y voyant rien de bon. Gilbert (отец) invite un savant а venir voir sa fille – le prodige de famille. Préparatifs où la mère est seule а faire tout.
Jeanne devant saint Simon. Le savant (le démon du savoir) arrive au milieu de tout ce monde invité par Gilbert. Il ne parle qu'avec Jeanne et s'en va. Commérages des femmes – joie du père – soucies et orgueil de la fille. Elle fait tout pour aller en Angleterre étudier а l'université [107]107
Акт I. Папесса – дочь честного ремесленника, изумленного ее познаниями. Пошловатая мать не ожидает ничего доброго из этого. Жильбер (то есть, отец папессы) приглашает ученого человека побеседовать с дочерью – чудом семьи. Приготовления. Мать одна только и работает за всех.
Жанна перед св. Симоном. Ученый (демон знания) является посреди множества людей, наприглашенных Жильбером. Он говорит с одною Жанной и уходит. Пересуды женщин – заботы (NB: во французском тексте Пушкина видимо пропущены слова «de la mère») матери, гордость дочки. Последняя добивается, чтоб ее послали в Англию обучаться в университете.
[Закрыть].
Acte II.
Jeanne а l'université, sous le nom de Jean de Mayence. Elle se lie avec un jeune gentilhomme espagnol (amour, jalousie, duel – en récit).Jeanne soutient une thèse et est faite docteur.
Jeanne prieur d'un couvent; règle austère qu'elle y établit. Les moines se plaignent.
Jeanne а Rome; cardinal. Le pape meurt; elle est faite pape [108]108
Акт II. Жанна в университете под именем Жана Майнцского. Она завязывает сношения с одним молодым дворянином испанцем (любовь), ревность, дуэль – все в рассказе).Жанна защищает диссертацию и провозглашена доктором.
Жанна – настоятель монастыря. Строгий устав, который она водворяет там. Монахи ропщут.
Жанна в Риме – Жанна кардинал. Умирает папа; она провозглашена папой.
[Закрыть].
Acte III.
Jeanne commence а s'ennuyer. Arrive l'ambassadeur d'Espagne – son condisciple. Leur reconnaissance. Elle le menace de l'inquisition et lui d'un éclat. Il pénètre jusqu'а elle. Elle devient, sa maitresse. Elle accouche entre le Colisée et le couvent de… Le diable l'emporte» [109]109
Акт III. Жанна скучает. Является испанский посланник – прежний товарищ ее. Они узнают друг друга. Она грозит ему инквизицией; он грозит обличением. Он пробирается к ней; она становится его любовницей. Она разрешается от бремени между Колизеем и монастырем… Диавол уносит его (то есть, уносит ребенка, как следует догадываться по смыслу).
[Закрыть].
Вот какая страничка нашлась в тетрадях Пушкина. С первого раза можно подумать, что поэт хотел посвятить ее драматизированному шуточному рассказу во вкусе французских fabliaux или в кощунской манере Рабле, Боккаччио, Вольтера; но, пробежав далее несколько строк программы, убеждаешься, что тут развивается очень серьезная мысль. Пушкин имел в виду совсем не осмеяние или оскорбление великого западного института папства, под кровом которого Европа только и находила успокоение для своей мысли, а напротив, относится к нему, как к поруганной святыне в своей программе. Задача ее состоит в другом. В простом мещанском семействе, с тщеславным отцом и простоватою матерью, является чудо-ребенок в лице девушки Жанны, удивляющей народ пытливостью ума и наблюдения, ранними познаниями. Слои мещанского быта вообще беспрестанно выкидывали из себя на западе недовольные, критические умы, проверявшие основы гражданского и нравственного существования обществ. Старые, исторические порядки общежития боролись с ними тюрьмами и кострами, но те из реформаторов, которые успевали избежать их, переделывали мир. В чем же состояло призвание Жанны, не имевшей за собою ни великого подвига, ни плодотворной идеи? Легенда о папессе, в основании которой, как уже сказано, не лежит ни малейшего исторического факта, видимо, обязана возникновением своим народномувопросу, жившему в массах, и который может быть выражен так: если люди с развратными и даже злодейскими наклонностями могут сделаться избранниками Божьими и занимать самое святое место на земле, не теряя, благодаря одному этому месту, ни власти над душами, ни авторитета над совестью народов, то не все ли равно, кто бы его ни занимал? С юмором, свойственным вообще народному творчеству, легенда возводит на это место женщину и не чувствует позора, делая из престола первосвященника ложе для ее страстей и падений, так как он прежде служил таким же точно ложем для людей другого пола. Собственно легенда не есть еще протест против самого папства, но она уже возвещает его. Так понял ее и Пушкин, и собирался обработать в этом смысле.
Любопытно следить по программе за чертами полуреального и полуфантастического характера, которыми поэт думал овладеть своею темой и выразить ее сказочное и вместе жизненное содержание. Чувствуется невольно, что волшебный и бытовой элементы приняли бы в его руках такое химическое соединение, что составили бы одно конкретное тело. Так, демон принимает у него образ святого пустынника св. Симона для утверждения в Жанне ее стремлений к славе и могуществу посредством знания.И слова ложного святого, хотя и не упомянутые в программе, ясно отзываются в энергическом домогательстве честолюбивой Жанны на скорый отъезд в университет. Внушения ложного святого или демона были не что иное, как голос ее собственных помыслов. После приключений в университете с испанцем Жанна, на подобие своей соименницы Жанны Орлеанской, налагает на себя обет вечного целомудрия, умерщвляет свое сердце, становится суровым приором монастыря и, под покровом наружной святости, облекается в кардинальский пурпур и, наконец, восходит на папскую кафедру. Все черты программы до такой степени просты, ясны, правдоподобны, не смотря на странность положений, что кажутся сокращенными указаниями в какой-то главе из достоверной истории, в роде, например, истории о восшествии на престол Сикста V. В третьем акте программы является уже чисто фантастический элемент, но в виде как бы естественного продолжения драматического действия и жизни, им перерываемой. Ко двору Жанны является посланником испанец, бывший ее товарищ по университету и знающий ее секрет. Она борется с ним отчаянно, пока простое, грубое насилие со стороны сластолюбивого и мало благочестивого испанца не раскрывает ее слабую женскую природу. Жанна делается любовницей своего оскорбителя и рождает между двумя памятниками языческих и христианских воззрений, традиции которых в ней самой борются, между Колизеем и римским монастырем (Латеранским?), а диавол уносит этого ребенка, как свою законную добычу. Остается еще вопрос, о котором программа умалчивает совершенно. Зачем нужно было диаволу это чадо греха, и не сделал ли он из него лица, которое могло бы служить дополнением к драме, оставшейся покамест без вывода и заключения?
Читатель призван будет далее сам судить, какую степень вероятности и убедительности имеют наши доводы и предположения, на основании которых мы пришли к твердому убеждению, что из диавольского ребенка должно было образоваться лицо, пущенное Гете во всемирный оборот, именно – пресловутый Фауст, и притом не в качестве доктора философии и теологии, а в качестве предполагаемого изобретателя печатного станка. Драма Пушкина, кажется нам, не могла ограничиться тремя вышеприведенными актами, а должна была еще показать, переступая через пространство и время, в близком будущем, мстителя за оскорбление всех нравственных начал и народной совести. Мститель этот не мог иначе явиться, как в олицетворенном образе типографского искусства, которое, возвышаясь над частными протестами, упразднит самую средневековую науку целиком, потрясет народные верования, на ней основанные, и расшатает многовековой церковный престол, воспитавший и оберегавший их всех под своим кровом.
Программа драмы, которою занимаемся, сопровождается еще любопытною припиской, обращенною поэтом уже к самому себе. «Si c'est un drame», говорит приписка – «il rappellera trop le «Faust»; il vaut mieux en faire un poème dans le style de «Cristabel» ou bien en octaves»; то есть: если составить из этого драму, то она будет сильно напоминать Фауста; не лучше ли изложить дело в поэме и в стиле «Кристабеля» или написать октавами? [110]110
«Кристабель» («Christabel») есть название поэмы Кольриджа, английского поэта двадцатых годов, принадлежавшего к известной группе шотландских лэкистов. Она передает в отрывочном, фрагментарном виде и в ультраромантическом и распущенно-гениальном тоне разные, наиболее чудные сказания из средневекового мира, стилю которых и подражает. Она нравилась особенно изысканным вкусам любителей словесности, пресыщенных чтением поэм и романов, которые и называли произведение Кольриджа дьявольски-изящным и возмутительно-прекрасным; но оно также нашло и поклонника в лорде Байроне. Качества и форма «Кристабеля» обратили на себя и внимание Пушкина, когда понадобилось осуществить одну из самых фантастических легенд тех же средних веков.
[Закрыть]По-видимому, это заявление самого автора программы должно бы устранить всякую догадку о возможной участи Фауста в будущей драме; но при ближайшем рассмотрении оно вместо того подкрепляет догадку. Могло ли явиться у поэта намерение положить возможно большее расстояние между гетевским произведением и своею темой, если бы при составлении программы образ средневекового легендарного героя, осуществленного немецким художником, не витал постоянно перед глазами Пушкина? Как бы родилось опасение слишком близко подойти к созданию Гете, имея в руках воспроизведение народного сказания, совершенно различного по духу, содержанию и целям с задачами немецкой драмы, и в котором Фауст ни разу не упомянут и не введен в среду действующих лиц, если бы не было потаенного присутствия того же героя в намерениях автора? Имя знаменитого сказочного доктора явилось в приписке Пушкина потому, что оно существовало в его мысли, а желание избежать неприятной с ним встречи – потому, что оно прежде входило в творческие расчеты поэта. Правда, пушкинский Фауст нисколько не походит на гетевского: это был собственный, домашний, так сказать, Фауст нашего поэта. Он отличается от своего первообраза тем, что у Пушкина является в последней формации, совсем не человеком, измученным своею мыслью и сознаньем напрасно потраченной жизни на ее развитие, а просто гением открытий, изобретений, научного прогресса, который знаком был и средним векам, но еще более знаком нашему времени. О таком представлении Фауста здесь не место распространяться. Теперь мы представляем только объяснение вышеприведенной заметки Пушкина и, в подкрепление нашего о ней мнения, ссылаемся на другое произведение поэта, уже напечатанное и всем хорошо известное – «Сцены из рыцарских времен», где Фауст должен был явиться в дальнейшем не состоявшемся их продолжении с тем же выражением и в тех же функциях, какие автор хотел ему предоставить по своей собственной, оригинальной мысли и в драме, нас занимающей.
Не нужно, полагаем, напоминать русским читателям этих превосходных «Сцен». Для ясности последующего нашего изложения достаточно в немногих словах привести существенные их черты. У богатого ремесленника вырастает сын – менестрель, занятый веселою наукой стихотворства более, чем отцовским ремеслом, и мечтающий о привольном житье в рыцарских замках, о дамах и девицах, которые будут дарить его шарфами и увенчивать цветами. Отец выгоняет его из дома, передает все имущество своему подмастерью, но прежде еще благодетельствует из корыстных видов бедному алхимику Бертольду, который стоит на кануне открытия великого научного секрета и обещает разделить выгоды открытия с тем, кто последний даст ему средства докончить опыты. Между тем Франц пробирается в рыцарский замок в качестве конюшего к его обладателю и товарищу его по школе, рыцарю Альберту, в сестру которого страстно влюбляется. Униженный и оскорбленный ими, как непокорный и зазнавшийся слуга, он покидает замок, становится во главе сельского народного восстания и объявляет войну владельцам, баронам и феодалам. Шайка Франца скоро рассеяна рыцарями, и его самого везут в знакомый замок на виселицу. На кануне казни пирующие господа заставляют менестреля потешать их в последний раз своими песнями, но гордая Клотильда, дама сердца бедного поэта, умиленная его бесстрашием и его поэзией, выпрашивает ему прощение. Приговор к виселице заменен приговором к пожизненному заключению в башне замка. Здесь и кончаются «Сцены».
Прежде всего тут бросается в глаза близкое, как бы родственное сходство между программой о папессе и этими «Сценами» в главных, основных их мотивах. Как там, так и здесь, городское мещанское сословие порождает две беспокойные, честолюбивые личности, разрывающие все связи с родным кровом и окружающей их обстановкой и смело бросающиеся в безграничное море жизни, с надеждой завоевать себе новое положение. Но одна из этих личностей – женщина, выбирающая орудием для удовлетворения своих тщеславных замыслов науку и знание; другая личность – поэт, доверяющий силе своего творческого таланта для достижения всех тайных пожеланий своих. Обе личности эти, едва-едва намеченные поэтом, чрезвычайно ярко выражают однако ж различие своих характеров в выборе путей и средств, которыми думают освободиться из своего приниженного сословного состояния, но не смотря на то, в них чувствуется присутствие одного и того же психического двигателя, слышится общность душевных настроений. Искони веков знание и поэзия опрокидывали перегородки, устроенные бедною политическою мыслью для того, чтобы удержать каждого человека на раз определенном ему по рождению и происхождению месту. Избранники, отмеченные печатью знания или поэзии, не однажды свободно проходили через заставы, положенные кодексами и законодательствами с целью затруднить дорогу пылким и непокорным умам в жизни. У папессы и у менестреля вековая привилегия равнять людей, присущая науке и гению, породила убеждение в их праве занимать любое место на свете и находить границы своим вожделениям и посягательствам только в самих себе, а не в посторонних помехах и соображениях… Сходство нравственных положений обоих нововводителей, Жанны и Франца, увеличивается тем обстоятельством, что и она, и он одинаково имеют друга детства, школьного товарища, предназначенных служить орудием их гибели. И сластолюбивый вольнодумный испанец, и пустой горделивый рыцарь Альберт намечены, как в программе, так и в сценах, одним, так сказать, карандашом, по одному и тому же шаблону. Они призваны изображать тот эгоизм привилегированных сословий, который овладевает людьми с самых ранних лет и превращает их, тотчас за порогом школы, в сберегателей выгодного им порядка дел. Задачей их становится преследование тех гениальных проходимцев которые врываются силой в их сомкнутые ряды и нарушают вообще спокойное течение обычной заведенной жизни. Самые физиономии Жанны и Франца, не смотря на упомянутую уже разницу в жизненных целях, усвоенных обоими героями, и на разность их пола, поражают еще у Пушкина разительным сходством своим по отношению к сущности их природы. Бледные очерки этих фигур, данные поэтом, на столько однако же ясны, что позволяют распознать их выражение и мысль, в них заключенную. Сосредоточенная в себе, аскетически-мужественная Жанна погибает не на костре, как ее соименница Орлеанская, а в объятиях любовника; женственный менестрель Франц становится народным вождем, представителем поруганных прав человечества и в этом качестве осужден на гибель. Обоих сбивает с их путей и уничтожает в корне все их цели и замыслы общая им слабость – любовь. Это одно и то же лицо в двух видах, это – близнецы, сестра и брат, порожденные цельною мыслью, к которой поэт наш подходит только, в двух своих пробах, с противоположных сторон, не нарушая ее единства, бросающегося в глаза при внимательном ее осмотре.
Кроме всего сказанного, у нас есть еще и документ, осязательно, так сказать, свидетельствующий о родстве обоих драматических проектов. Мы видели, что «Сцены из рыцарских времен» кончаются пожизненным заключением Франца в башне феодального замка, но в мысли Пушкина «Сцены» имели еще продолжение, как оказывается из маленькой программы, которая до них касается. Этот небольшой и очень любопытный отрывок Пушкина гласит следующее:
«Un riche marchand de draps. Son fils – poète – amoureux d'une jeune demoiselle noble. Il fuit et se fait écuyer dans le château du père (de la demoiselle) – vieux chevalier. La jeune demoiselle le dédaigne. Le frère arrive avec un prétendant. Humiliation du jeune homme. Il est chassé par le frère, à la prière de la demoiselle.
Il arrive chez le drapier. Colère et sermon du vieux bourgeois. Arrive frère Berthold. Le drapier le sermonne aussi. On saisit frère Berthold et on l’enferme en prison.
Berthold en prison s'occupe d'alchimie. Il découvre la poudre. Révolte des paysans fomentée par le jeune poète. Siège du château. Berthold le fait sauter. Le chevalier – la médiocrité personnifiée – est tué d'une balle. La pièce finit par des réflexions et par l'arrivée de Faust sur la queue du diable (découverte de l'imprimerie – autre artillerie» [111]111
В переводе: «Богатый торговец сукнами. Сын его – поэт – влюбляется в молодую благородную девицу. Он бежит из дома и определяется конюшим в замок отца девицы, старого рыцаря. Молодая особа пренебрегает им. Является брат ее с женихом. Унижение молодого человека. Брат выгоняет его из замка по просьбе сестры.
Возвращение к торговцу. Гнев и выговоры старого буржуа. Появляется брат Бертольд – он и его бранит. Брата Бертольда схватывают и засаживают его в тюрьму.
Бертольд в тюрьме. Он занимается алхимией и открывает порох. Возмущение крестьян, поднятых юным поэтом. Осада замка. Бертольд взрывает его на воздух. Рыцарь – олицетворенная посредственность – убит пулей. Пьеса заканчивается размышлениями и прибытием Фауста на хвосте диавола (открытие книгопечатания – этой артиллерии своего рода).
[Закрыть].
Итак, вот какое содержание предназначено было этим «Сценам» по первоначальной программе Пушкина, хотя сами они еще составляют только «План», как были и озаглавлены, и притом, по нашему мнению, далеко не разработанный им вполне и не окончательный. Перемены, введенные поэтом против старой темы в свой новый «План», легко перечисляются: пропал старый рыцарь, владелец замка; о заключении Франца в башню нет и помина, а вместо него попадает в заключение алхимик Бертольд. Для дальнейшего развития плана, если такое имелось в виду у поэта, следует предполагать, что Франц освобожден из башни, может быть, и Клотильдой, побежденною его даром песен; что он снова воздвигает народное восстание против феодалов и теперь находит уже подле себя страшного, могущественного пособника в лице брата Бертольда, который сдержал обещание поделиться результатами своего открытия с семейством поэта. Но оставляя в стороне всякого рода предположения, мы приходим уже к одному достоверному заключению. Последнее слово обеих программ, как о папессе Жанне, так и о менестреле Франце, основная мысль, их породившая, заключалась в легендарном, символическом изображении двух великих изобретений, заключивших эру средних веков и открывших «новую историю» – пороха и книгопечатания, мифического алхимика-монаха Бертольда и мифического доктора Фауста. Они встречаются на развалинах феодального замка испытавшего на себе первое приложение новой силы, и владелец которого убит первою пулей, выпущенною на свет Божий. Фауст принесен на торжество науки, терпения и пытливого человеческого ума диаволом, который, по нашей догадке, как видели, подобрал его младенцем в Риме. Пушкин вспомнил об этом ребенке, покинутом им в конце одной программы, и перенес его в конец другой, на что уполномочивал его и общий характер их духа и содержания. Обе драмы последними заключительными сценами своими дают разуметь, что, по мысли автора, они должны были составлять двухчленную хронику, развивающую одну и ту же тему – разрушение старого мира изжившего вполне все свое содержание, налагающего руки на признанные свои святыни (первая часть хроники), оскорбляющего человечество надменностью и безнаказанностью своей пустоты и своего разврата (вторая часть хроники). И Бертольд с губительною зернью, и Фауст с типографским станком были тут на месте. Новое поколение, способствующее падению и гибели старого мира, все-таки вскормлено было тем же самым миром, а потому и носит на себе еще следы его немощей, которые составляют, не смотря на всю отвагу и решимость поколения, его бессилие в борьбе с жизнью. Измена своему призванию и слабости святотатственной Жанны, пустые увлечения и мечты Франца остались им по наследству от прошлого. Программы Пушкина показывают, что только два лица не принимают никакого участия в развитии драм, свободны от страстей и волнений людей, в них действующих, и как бы приберегают себя для довершения процесса разложения, начатого другими. Это – два великих исследователя, которые и призваны окончательно упразднить как дерзких, но несостоятельных борцов, так и предмет их ненависти и столкновений, строй общества. Они только и могут обновить мир, потому что стояли вне его и выше его; мысль поэта довольно ясна и нисколько не затемняется вмешательством диавола или нечистой силы, которые тут имеют совершенно невинный, иносказательный смысл. Мы совершенно свободно допускаем гипотезу, что в намерении поэта было показать и монаха Бертольда, и греховное дитя Фауста одинаково воспитанниками диавола или демона мысли и науки, и притом одинаково выращенными в суровом уединении. Оба они встречаются как старые друзья, ведь люди одного и того же закала, и демон, поставивший их лицом к лицу, как должно полагать, в равной степени коротко и хорошо знакомы еще с детства.
Какие бы возражения и замечания ни вызвали в последствии наши догадки и выводы (а отвлеченные соображения, основанные на духе произведения, а не на фактах, всегда их вызывают), но можно надеяться, что одно из наших положений встречено будет уже общим согласием. Никто, полагаем, из ознакомившихся с содержанием пушкинских программ, здесь приведенных, не усомнится признать, что в них заключен богатый материал для какого-то капитального произведения, задуманного поэтом. Обширные пространства для мысли и воображения открываются при одном разборе этих отрывочных слов, этих очерков, едва захватывающих края образов и представлений; предчувствие чего-то могущественного и поражающего сопровождает читателя, когда сквозь сетку недописанных фраз мерцает перед его глазами легендарный и бытовой средневековый мир, символические и реальные элементы сказания в удивительном, как бы натуральном соединении. Что бы вышло из всего этого? Как ни празден вопрос по своему существу, он невольно зарождается в уме при всяком соприкосновении с планами и намеченными идеями Пушкина.
Не выходя из области драматических опытов Пушкина, подобный же вопрос возникает и в виду того всем известного реестра драм, им написанных и только задуманных, который он сам составил. В реестре этом встречаются заглавия пьес, навсегда, кажется, пропавших для нашей публики. Таковы заглавия, возвещающие несуществующие пьесы: «Ромул и Рем», «Берольд Савойский», «Влюбленный бес», «Димитрий и Марина», «Курбский». От замыслов поэта, которые скрывались под ними, не осталось в тетрадях его ни одного клочка бумажки, ни одного листика, которые способны были бы бросить какой-либо свет на сущность и содержание этих будущих произведений его гения. К немногим из заглавий можно еще подойти с некоторым, правдоподобным изъяснением. Так, сцены: «Димитрий и Марина», «Курбский» позволительно признавать начальными очерками тех сцен, которые введены были потом автором в хронику «Борис Годунов»; так, еще загадочный «Берольд Савойский», на историю и происхождение которого потрачено было много гипотез, еще поддается заключению, что это не кто другой как монах-алхимик Бертольд, нам уже знакомый; но затем остальные драматические очерки, упоминаемые в реестре и не получившие обработки и осуществления при жизни поэта, осуждены навсегда представлять из себя вид молчаливых сфинксов, не отвечающих ни на какие расспросы. Еще одно слово. Знаменитый перечень пушкинских драм, о котором говорим, явился в печати нашей не совсем в полном виде. «Материалы для биографии Пушкина», 1855 года, впервые его опубликовавшие устранили из него два заглавия, которые необходимо привести теперь для того, чтобы дать полное понятие о разнообразии и характере литературных проектов Пушкина. Одно из этих устраненных заглавий носило имя «Иисус», другое после него – «Павел I». Не вдаваясь ни в какие рискованные заключения по поводу этих имен и соединенных с ними литературных проектов, заключаем статью повторением общего мнения русской публики, не раз ею выраженного: пуля, которая унесла Пушкина на тридцать-восьмом году его жизни, убила многое из того, что пережило бы, может быть, несколько поколений, а может быть, и целые исторические периоды.
1881 год.








