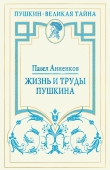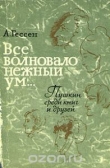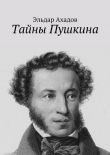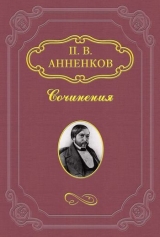
Текст книги "Пушкин в Александровскую эпоху"
Автор книги: Павел Анненков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
Когда что-нибудь делается общим мнением, то глупость общая вредит ему столько же, сколько и единодушие.
Греки между европейцами имеют гораздо более вредных поборников, нежели благоразумных друзей. Ничто еще не было столь народно, как дело греков, хотя многое в политическом отношении было важнее для Европы» …. На этом и кончается отрывок.
Хотя письмо имеет видимую цель оправдаться перед друзьями от незаслуженного подозрения в перемене своих убеждений, но некоторая сдержанность суждения, открывающаяся даже и в этих фразах, признаки резонерстваи оговорки,в них чувствуемые, показывают, что Пушкин уже не состоял в числе слепых энтузиастов восстания. Происходило это, по нашему мнению, совсем не от претензии на политическую дальновидность, которая была бы чем-то необычайным в это время. Дело объясняется проще: Пушкин следовал только внушениям наших ультралиберальных кружков, которые боялись, что турецко-греческая распря отвлечет внимание европейских народов от собственных их дел и что европейские правительства, пользуясь благоприятным случаем, направят мысль и одушевление народных масс в такую сторону, где массы эти становятся бесплодными для самих себя. Греция осуждена была также точно на упреки современного радикализма, как и консервативных дипломатов «Священного Союза», очень косо посматривавших, со своей точки зрения, на ее дело.
Перечислив все элементы, участвовавшие в образовании одного из самых мятежных периодов в жизни Пушкина, мы уже можем перейти к общим выводам относительно психического состояния нашего поэта за все время его течения. С самого его начала Пушкин становится подвержен частым вспышкам неудержимого гнева, которые находили на него по поводу ничтожнейших случаев жизни, но особенно при малейшем подозрении, что на пути к осуществлению какой-либо, более или менее рискованной, затеи встречается посторонний, мешающий человек. Самолюбие его делается болезненно-чутким и раздражительным. Он достигает такого неумеренного представления о правах своей личности, о свободе, которая ей принадлежит, о чести, которую она обязана сохранять, что окружающие, далее при самом добром желании, не всегда могут приноровиться к этому кодексу. Столкновения с людьми умножаются. Чем труднее оказывается провести через все случаи жизни своевольную программу поведения, им же самим и придуманную для себя, тем требовательнее еще становится ее автор. Подозрительность его растет: он видит преступления против себя, против своих неотъемлемых прав в каждом сопротивлении, даже в обороне от его нападок и оскорбительных притязаний. В такие минуты он уже не выбирает слов, не взвешивает поступков, не думает о последствиях. Дуэли его в Кишиневе приобрели всеобщую известность и удостоились чести быть перечислены в нашей печати; но сколько еще ссор, грубых расправ, рискованных предприятий, оставшихся без последствий и не сохраненных воспоминаниями современников! Пушкин в это время беспрестанно ставил на карту не только жизнь, но и гражданское свое положение: по счастью, карты – до поры до времени – падали на его сторону, но всегда ли будут они так удачно падать для него – составляло еще вопрос.
Сам Пушкин дивился подчас этому упорному благорасположению судьбы и давал зарок друзьям обходиться с нею осторожнее и не посылать ей беспрестанные вызовы; но это уже было вне его власти. Ко всем другим побуждениям нарушать обет присоединилась у него еще одна нравственная особенность. Он не мог удержаться именно от соблазна идти на встречу опасности, как только она представлялась, хотя бы в ней не были замешаны его честь и личное достоинство, хотя бы она даже не обещала ни славы, ни удовлетворения какому-либо нравственному чувству. Ему нужно было только дать исход природной удали и отваге, которые, по справедливому замечанию И.П. Липранди, так преобладали у него, что давали ему вид военного человека, не отгадавшего своего настоящего призвания. Он даже не мог слушать рассказа о каком-либо подвиге мужества без того, чтобы не разгорелись его глаза и не выступила краска на лице, а перед всяким делом, где нужен был риск, он становился тотчас же спокоен, весел, прост. К сожалению, можно предполагать, что в описываемый нами период Пушкин пришел к заключению, что человек, готовый платить за каждый свой поступок такой ценной наличной монетой, какова жизнь, имеет право распоряжаться и жизнью других по своему усмотрению. Таким представляется нам в окончательном своем виде русский байронизм, – эта замечательная черта эпохи, – развитый в Пушкине стечением возбуждающих и потворствующих обстоятельств и усиленный еще молодостью и той горячей полу-африканской кровью, которая текла в его жилах.
И что же? Были минуты, и притом минуты, возвращавшиеся очень часто, когда весь байронизм Пушкина исчезал без остатка, как облако, разнесенное ветром по небу. Случалось это всякий раз, как он становился лицом к лицу к небольшому кругу друзей и хороших знакомых. Они имели постоянное счастье видеть простого Пушкина без всяких примесей, с чарующей лаской слова и обращения, с неудержимой веселостью, с честным и добродушным оттенком в каждой мысли. Чем он был тогда – хорошо обнаруживается и из множества глубоких, неизгладимых привязанностей, какие он оставил после себя. Замечательно при этом, что он всего свободнее раскрывал свою душу и сердце перед добрыми, простыми, честными людьми, которые не мудрствовали с ним о важных вопросах, не занимались устройством его образа мыслей и ничего от него не требовали, ничего не предлагали в обмен или прибавку к дружелюбному своему знакомству. Сверх того, в Пушкине беспрестанно сказывалась еще другая замечательная черта характера: он никак не мог пропустить мимо себя без внимания человека со скромным, но дельным трудом, забывая при этом все требования своего псевдо-байронического кодекса, учившего презирать людей, без послаблений и исключений. Всякое сближение с человеком серьезного характера, выбравшим себе род деятельности и честно проходящим его, имело силу уничтожать в Пушкине до корня все байронические замашки и превращать его опять в настоящего, неподдельного Пушкина. Он становился тогда способным понимать стремления и заветные надежды лица, как еще они ни были далеки от его собственных идеалов, и при случае давать советы, о которых люди, их получившие, вспоминали потом долго и не без признательности. Таким образом, душевная прямота, внутренняя честность и дельное занятие, встречаемые им на своем пути, уже имели силу отрезвлять его от наваждений страсти; но была и еще сила, которая делала то же самое, но еще с большей энергией – именно поэзия.
Трудно себе и представить, каким орудием нравственного спасения было для Пушкина – чистое творчество, обнаруживая тайну его гения и указывая ему самому настоящие качества его ума и сердца. Пушкин перерождался нравственно, когда приступал к созданию произведений, назначавшихся им для всего читающего русского мира. Дух его как-то внезапно светлел и устраивался по-праздничному, возвышаясь над всем, что его сдерживало, томило и угнетало. Самые подробности жизни, тяготевшие над его умом, разрешались в тонкие поэтические намеки и черты, сообщавшие произведению, так сказать, запах и окраску действительности. Он должен был сам любоваться тем нравственным типом, который вырезывался из его собственных произведений, и мы знаем, что задачей его жизни было походить на идеального Пушкина, создаваемого его гением.
Но эти два Пушкина не всегда составляли одно и то же лицо, особенно в кишиневский период, и это еще раз заставляет нас упомянуть о промахе биографов, подменивающих настоящую реальную жизнь поэта лучезарными абрисами, какими она светится в его сочинениях. Последние всегда содержат указание только на то, чем она могла быбыть, по мысли поэта, а что она была в действительности, – насколько приближалась и отходила от его идеала, уже должен рассказать исследователь. Если бы судить о Пушкине по изящным, чистым произведениям лирического характера, выданных им с 1821 по 1823 г., то никому бы не пришло в голову, что они написаны в самую бурную эпоху его жизни, в период пыла и порывов, «Sturm und Drang», какой немногие изживали на веку своем. Но и тогда уже чистое творчество, которым они были навеяны, служило звездой, освещавшей ему выход из жизненной смуты, и живительным источником, возобновлявшим его душевные силы; в нем он давал спасительные уроки самому себе, в нем он обретал и создавал для себя созерцание жизни, далеко превосходившее то, которым отличался в свете. Чистое творчество хранило и берегло лучшую часть его нравственной природы, не позволяло ей загрубеть, составляло прикрытие его души, мешавшее ржавчине порока и страстей проникнуть до нее и разложить ее. Ему – чистому творчеству, обязан он был благороднейшими ощущениями и изящнейшими помыслами, которые одним своим появлением упраздняют, если не навсегда, то, по крайней мере, на все время беседы человека с самим собой – чудовищные софизмы, животные наклонности и дикие побуждения непосредственного чувства. Когда задачи чистого творчества стали разрастаться и умножаться перед глазами Пушкина, когда он все чаще и чаще начал относиться к жизни, как художник – «демонический» период его существования кончился. Это произошло именно с половины 1823 года.
Возрождение Пушкина совпадает и с другим важным событием. В том же 1823 г. совершился перелом в администрации Новороссийского края, которая перешла из рук Инзова в другие руки, указавшие совсем иные условия для деятельности всех призванных к устроению гражданского и политического существования страны. Наместником края назначен был граф М.С. Воронцов, который, сосредоточив все управление в выбранной им резиденции – Одессе, составил еще для своего управления общие неизменные правила, отстранявшие так же точно неряшливость и беспечность подчиненных, как и своевольные предначертания второстепенных агентов.
Усилив таким способом правительственный элемент, разбив и мало-помалу уничтожив окончательно все частные стремления, добивавшиеся власти и влияния в стране, он направил могущественные административные средства, ему предоставленные, на возвышение и устройство края, по собственной своей мысли. Замечательные государственные способности графа Воронцова и услуги, оказанные его управлением Новороссийскому краю, остались в памяти его современников и оценены по достоинству ближайшим потомством. Пушкин, с позволения Инзова, находился опять в Одессе (май, 1823) и вероятно так же, как и в первые разы, по любовным своим делам, когда пришло известие о назначении нового начальника. Тогда возникла у него впервые мысль перейти к нему на службу, которую он и не замедлил привести в исполнение. По просьбе Пушкина, он зачислен был в штат наместника, возвратился в Кишинев, чтобы окончательно распроститься с ним, и в июле 1823 г. поселился в Одессе. Пушкин ожидал очень многого от этой перемены местожительства и служения, но что вышло из этого на деле – увидим далее.
VI
На юге России
1823–1824
Пушкин в Одессе. – Романтизм. – Усиленные занятия. – Столкновения с обществом. – Моральные страданья Пушкина. – Неожиданная высылка в деревню и отъезд его.
Пушкин, кажется, сначала и не понял значения переворота, который свершился, как в жизни края, так и в его собственной жизни, с переменой администрации. Ему просто думалось, что он развязывается с надоевшим ему и начинавшим уже пустеть Кишиневом. М.Ф. Орлов с большей частью окружавшего его общества покинул Кишинев, так как он был призван в Тульчин для Высочайшего смотра 2-й армии (сентябрь 1823), после которого, убедясь в не благоволении к нему Государя Императора, и вышел в отставку, как известно. Промен Кишинева на Одессу казался очень выгодным Пушкину. Он сам описал привлекательную сторону тогдашней Одессы. И действительно, шумный приморский город с итальянской оперой, с богатым и образованным купечеством, с новинками и вестями из Европы, русскими и иностранными путешественниками, наконец с молодыми, способными чиновниками, прибывшими в край, по выбору его главного начальника – все это сулило Пушкину много новых развлечений, занятий и связей, каких Кишинев, потерявший, между прочим, и значение административного центра, уже не мог дать. Будущее представлялось в довольно светлом виде и обещало, в виду всех этих элементов и условий европейского общежития, возможность более широкого обмена мыслей, – а этим Пушкин всегда очень дорожил.
Преимущества Одессы имели, однако же, и свою оборотную, уравновешивающую сторону.
Очень скоро обнаружилось, во-первых, для Пушкина, что здесь уже не могло быть и помина о той свободе, простоте и даже фамильярности отношений к управлению, какая существовала в Кишиневе. Новый начальник с блестящей свитой чиновников и адъютантов, в числе которых был и Александр Н. Раевский, с первого раза поставил себя центром окружавшего его мира и самой страны. Образ его сношений с подчиненными одинаково удалял, как поползновения их к служебной низости, так и претензию на короткость с ним. Край впервые увидал власть со всеми атрибутами блеска, могущества, спокойствия и стойкости. Прежде всего требовалась теперь «порядочность»в образе мыслей, наружное приличие в формах жизни и преданность к службе, олицетворяемой главой управления. Многие весьма далеко уходили, усвоив себе одним внешним образом эти качества. Нельзя сказать, чтобы тот, сравнительно небольшой, круг талантливых людей, которые не могли или не желали устроить свою внутреннюю жизнь по данному образцу, испытывали какого-либо рода притеснения: государственный ум начальника края употреблял их так же, как и других в дело, спокойно ожидая их обращения. Нет сомнения, что и Пушкину предоставлена была бы свобода не признавать обязательности для себя никакой программы существования и поведения, если бы при этом он скромно и тихо пользовался своей льготой; но мало дисциплинированная натура поэта беспрестанно побуждала его к выходкам и поступкам, явно враждебным самой системе управления. Понятно, что не имея возможности выработать из себя «дельного» человека во вкусе эпохи, а вместе с тем и не поддаваясь ни на какую мировую сделку, ни на какое соглашение беречь про себя свое представление людей и порядков, Пушкин уже не имел особенно верных залогов успеха в новом обществе, куда попал по собственному избранию.
Другое отличие Одессы состояло в том, что узлы всех событий распутывались здесь уже гораздо труднее, чем в Кишиневе. Там легко и скоро сходили с рук Пушкину и такие проделки, которые могли разрешиться в настоящую жизненную беду; здесь он мог вызвать ее и ничего не делая, а оставаясь только Пушкиным. Тысячи глаз следили за его словами и поступками из одного побуждения – наблюдать явление, не подходящее к общему строю жизни. Собственно врагов у него совсем не было на новом месте служения, а были только хладнокровные счетчики и податели всех проявлений его ума и юмора, употреблявшие собранный им материал для презрительных толков втихомолку. Пушкин просто терялся в этом мире приличия, вежливого, дружелюбного коварства и холодного презрения ко всем вспышкам, даже и подсказанным благородным движением сердца. Он только чувствовал, что живет в среде общества, усвоившего себе молчаливое отвращение ко всякого рода самостоятельности и оригинальности. Вот почему Пушкин осужден был волноваться, так сказать, в пустоте и мстить невидимым своим преследователям только тем, что оставался на прежнем своем пути. Он скоро прослыл потерянным человеком между «благоразумными» людьми эпохи, и это в то самое время, когда внутренний мир его постепенно преобразовывался, место неистовых возбуждений заняло строгое воспитание своей мысли, а умственный горизонт, как сейчас увидим, значительно расширился. Опасность его положения в Одессе не скрылась от глаз некоторых его друзей, как например, от Н.С. Алексеева. Пушкин был гораздо ближе к политической катастрофе, становясь серьезнее, чем в период своих увлечений. Эта ирония жизни или истории не новость на Руси.
Единодушные свидетельства всех друзей и знакомых Пушкина не оставляют никакого сомнения в том, что с первых же месяцев пребывания в Одессе существование поэта ознаменовывается глухой, внутренней тревогой, мрачным, сосредоточенным в ней негодованием, которые могли разрешиться очень печально. На первых порах он спасался от них, уходя в свой рабочий кабинет и запираясь в нем на целые недели и месяцы. Мы и последуем туда за ним, так как кабинетный труд его один и остался в виду потомства, а все прочее давно унесено временем и позабыто.
Прежде всего следует заметить, что важную долю кабинетной деятельности Пушкина составляла его переписка, с братом и друзьями (Бестужевым, Рылеевым, Дельвигом, кн. Вяземским), преимущественно посвященная литературным вопросам и особенно развившаяся с 1823 г. Биографическое значение этой переписки очень велико: поэт является в ней со всеми качествами своего гибкого, замечательно-проницательного, подвижного ума. Общий характер ее может быть сведен на одну черту: вся она есть ни более, ни менее как томление по здравой, дельной критике и попытка отыскать теперь же ее настоящие задачи и затронуть предметы, которыми она должна будет заниматься. Начать критикув нашей литературе сделалось для Пушкина любимой, заветною мыслью. Постоянные вызовы на полемический спор, какие он стал посылать теперь друзьям, сначала много удивляли их, так как они привыкли считать его человеком, только бессознательного, непосредственного творчества, не призванным к роли литературного судьи. Они довольно долго относили критическая замашки Пушкина к капризу поэта, вздумавшего попробовать себя на новом и несвойственном ему поприще, что видно и из небрежных, часто иронических ответов на его письма, какие он получал от Рылеева, Бестужева, кн. Вяземского. В одном они отдавали ему справедливость – именно в способности чувствовать всякую литературную фальшь и усматривать промахи в логике, языке и создании у современных писателей. Между тем, можно сказать без опасения впасть в преувеличение и панегирик, что по предчувствию истины и по предчувствию нравственной сущности предметов – он стоял выше, как критик, не только заурядных журнальных рецензентов своего времени, но и таких корифеев литературной критики, как А. Бестужев, кн. Вяземский и др. Он, например, никак не мог примириться с заносчивой фразой первого, со своеволием его основных положений, но также точно не уживался и с благовоспитанным поклонением перед старыми избранными авторитетами, каким отличался второй, старавшийся скрыть снисходительность своих оценок остроумием изложения и подбором мыслей, более или менее искусно приложенных к разбираемому автору. Борьба Пушкина с мнениями Бестужева, Рылеева, Воейкова нам известна по рукописным снимкам с его посланий к ним, и в ней он является нам мыслителем-новатором, который имеет свое умное, никем еще не сказанное и часто очень меткое слово относительно людей и явлений русской литературы. Менее известны его горячие прения с кн. Вяземским, так как от его переписки с ним ничего не дошло до нас ни путем печатной, ни путем рукописной литературы; но вот какой характеристический отрывок из одного чернового письма еще уцелел в бумагах Пушкина. Пушкин опровергает в нем суждения кн. Вяземского о И.И. Дмитриеве и говорит: … «О Дмитриеве спорить с тобою не стану, хотя все его басни не стоят одной хорошей басни Крылова, все его сатиры – одного из твоих посланий, а все прочее – первого стихотворения Жуковского. По мне, Дмитриев ниже Нелединского и стократ ниже стихотворца Карамзина. Сказки его написаны в дурном роде, холодны и растянуты, а Ермак такая дрянь, что нет мочи… Грустно мне видеть, что все у нас клонится Бог знает куда! Ты один бы мог прикрикнуть налево и направо, порастрясти старые репутации, приструнить новые и показать истину, а ты покровительствуешь старому вралю…» [60]60
Резкость этого суждения может быть пояснена и участием в составлении его раздосадованного авторского самолюбия. Известно, что Дмитриев, при появлении «Руслана», сошелся во взгляде на поэму с постоянным своим врагом по всем другим вопросам, именно с М.Т. Каченовским, считая ее, одинаково с ним – пустой сказкой, довольно легко написанной и обязанной своим успехом всего более соблазнительным картинам, в ней заключающимся.
[Закрыть].
Вообще, Пушкин с 1823 г., после толчка, данного его мысли «Полярной Звездой», был уже недоволен всем, что творилось в русской литературе по части критики. Он стоял выше ее современного положения и как будто ждал человека, который даст ей твердое основание и направление, призывая к тому попеременно то одного, то другого из своих приятелей. Ответа на призыв, однако же, не являлось ни откуда, да еще и рано было ему явиться: литература только что просыпалась от долгого оцепенения и находилась в периоде попыток, пробований, исканий всякого рода. Мысль шла, так сказать, ощупью на первых порах и для дельного и серьезного исследования прошлого и настоящего литературы, предпринятого сгоряча нашими критиками, недоставало оснований, которые еще не были ими нажиты. Тем удивительнее становится встречаться с некоторыми мыслями Пушкина от Одесской и позднейшего ее ростка – Михайловской эпохи, которые составляют как бы предчувствие того, что будет говорить и подробно развивать последующая анализирующая критика, когда приспеет ее пора. Что, как не раннюю отгадку одной из ее тем представляет, например, известное утверждение Пушкина, что ребяческое состояние нашей критики всего лучше обнаруживается в общепринятом способе причислять одинаково к лику великих писателей Ломоносова, Державина, Хераскова, Сумарокова, Озерова, Богдановича, и проч., не разбирая, чего каждый стоит по себе и в каком отношении находится к европейским литературам, откуда каждый из них вышел. В 1825 г. Пушкин сам даже попробовал составить типический очерк для деятельности Державина, и сделал это с ясностью и мастерством, которые удерживают за очерком значение блестящего критического этюда и доселе (в неизданном письме к Дельвигу из Михайловского 1825).
Еще ближе подошел Пушкин к духу и обычным, смелым и откровенным приемам последующей нашей аналитической критики, когда набрасывал в Одессе наскоро следующий отрывок. Он замечателен во многих отношениях. Со своим скептическим и ироническим отливом, он показывает такую свободу отношений к именам, лицам и умственному состоянию общества, какая была редкостью в то время. Кажется, Пушкин и сам дорожил набросанными им мыслями, потому что вздумал воспроизвести их позднее в известной, дополнительной строфе к Онегину: «Сокровища родного слова», так что мы можем считать отрывок наш настоящей программой этого стихотворения. Вот он:
«Причинами, замедлившими ход нашей словесности, обыкновенно почитаются: 1-е, общее употребление французского языка и пренебрежение русского. Все наши писатели на то жаловались, но кто же виноват, как не они сами? Исключая тех, которые занимаются сплетнями литературными (sic), у нас нет еще ни словесности, ни книг]все наши знания, все наши понятия, с младенчества почерпнули мы в книгах иностранных; мы привыкли мыслить на чужом языке; метафизического языка у нас вовсе не существует. Просвещение века требует важных предметов для пищи умов, которые уже не могут довольствоваться блестящими игрушками,но ученость, политика, философия по-русски еще не изъяснялись. Проза наша еще так мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты для понятий самых обыкновенных, и леность наша охотнее выражается на языке чужом, механические формы коего давно уже известны. Но, скажут мне, русская поэзия достигла высокой степени образованности.Согласен, что некоторые оды Державина, не смотря на неправильность языка и неровность слога,исполнены порывами гения, что в «Душеньке» Богдановича встречаются стихи и целые страницы, достойные Лафонтена,что Крылов превзошел всех нам известных баснописцев,исключая, может быть, того же самого Лафонтена, что счастливые сподвижники Ломоносова»(Но здесь Пушкин оставил пустое место, вероятно, для подразумевавшихся имен Шишкова, Ширинского-Шихматова, Кутузова и проч.), «что Батюшков сделал для русского языка то же самое, что Петрарка для итальянского,что Жуковского перевели бы на все языки, если бы он сам менее переводил»…
Этот иронический возглас, передразнивавший литературных лжепатриотов тогдашнего времени их собственными надутыми фразами, Пушкин не докончил, оставив его и без ответа, да это в сущности и не его было дело. Его дело было показать примеры самостоятельного творчества и возродить в других людях идею свободного и глубокого поэтического созерцания жизни…
Может показаться странным, что мы находим признаки замечательной работы мысли в этом хождении вокруг старых и новых русских писателей и в этом взвешивании их литературного значения, но надо вспомнить, что такое была в это время и еще гораздо позднее литература наша. За неимением никаких других открытых поприщ для обнаружения независимой умственной деятельности, литература сделалась сама собой единственной ареной, призывавшей к себе всех, кто чувствовал наклонность и способность мыслить. Уйти от нее можно было тогда только в тайные политические круги, как многие и делали. Позднее арена эта еще разрослась, приобрела несвойственные ей размеры и поглотила все другие направления, которые искали случая поместить вокруг тех же старых имен наших писателей и насущных русских произведений свои заветные идеи. Пушкин был провозвестником замаскированной публицистики, породившей в последние годы его жизни сплошной ряд более или менее замечательных деятелей.
В Одессе же явился для Пушкина и новый предмет размышлений и исследований, которому он посвящал целые дни, а потом и целые трактаты, как оказывается по его бумагам. Мы говорим о романтизме. С точки зрения современной критики, уже знающей, какое место занимал романтизм в ряду исторических явлений нашего века, чем был порожден и куда его направлял, может также показаться, что занятия романтизмом ничего более не доказывают, как отсутствие крепких научных оснований в уме, который ищет своего спасения от внутренней пустоты в царстве фантазии. На деле было несколько иначе: романтизм имел у нас смысл и значение призыва к жизненной борьбе, а не отбоя или отступления от нее.
Трудно теперь и представить себе, что заключалось для наших людей эпохи 1820–30 г. в одном этом волшебном слове «романтизм», которое заставляло биться все сердца и работать все головы. Прежде всего романтизм освобождал писателей от гнета творчества и от множества стеснительных школьных предрассудков относительно назначения, так называемых, образцов отечественной словесности. Он уже предвещал эпоху возмужалой мысли, как бы еще сантиментально, туманно и капризно ни выражался иногда сам. С его появления возникает у нас предчувствие о новых неофициальных путях жизненной и творческой деятельности. Романтизм послужил прежде всего возвышению отдельной личности, давая ей право говорить о себе, как о предмете первостепенной важности, и уполномочивая ее противопоставлять свои нужды, страдания и требования, даже заблуждения и ошибки всяким, так называемым, высшим интересам и представлениям. Исповедь личности получила интерес политического дела, но под одним условием, чтобы исповедь эта находила сочувственные струны в сердцах других людей и отражала собственную их историю задушевных страданий, стремлений и надежд. До Пушкина, конечно, никто не давал ни малейшего образчика такой исповеди, но уже с Карамзина началось движение в сторону от торжественных родов поэзии, которые одни считались доселе заслуживающими внимания, на встречу к мелкимпредметам человеческого существования, к анализу сердечных движений, к описанию того, что угнетает, тревожит и поддерживает отдельное лицо, незаметную единицу в государстве. Ко времени Пушкина движение это выросло до того, что в конец изменило понятие о призвании литературы. Оно и теперь полагалось, как и прежде, при господстве од, высокопарных поэм и псевдонародных или патриотических трагедий, в служении общественному делу, но общественным делом становилось теперь частное воззрение, частное горе, частная жалоба. Для Европы все это могло быть безразлично или даже составлять остановку в ее развитии; для нас это было положительным выигрышем и шагом вперед. О других сторонах романтизма по отношению к русской жизни – скажем сейчас.
Пушкин имел еще свои особенные, личные причины заниматься определениями и объяснениями романтизма. Еще ранее публикации своей третьей поэмы «Бахчисарайский фонтан» (1823), он уже был признан у нас, как критиками, так и публикой – главой романтической школы. Он никогда не помышлял о завоевании себе этого титула или этого места, но, приобретая их по общему приговору, уверовал в свое призвание вести романтическую школу в своем отечестве, как передовой ее деятель, на высоту, какая ей будет под силу. Однако же для того, чтобы удержать за собой место главы романтической школы, необходимо было уже ближе познакомиться с сущностью и внутренним смыслом учения. Это необходимо было и по другой причине: следовало отделить понятие о романтизме от таких явлений, как слезливость последователей Карамзина, как фантасмагории и чертовщина последователей Жуковского, как пережитое им самим русско-байроническое настроение, что все еще слыло за романтизмом и прикрывалось его именем. Отсюда и выходили разыскания Пушкина.
Но на пути полного и обстоятельного определения романтизма Пушкин встретил непреодолимые затруднения, которых и победить не мог.
Напрасно прибегал он к возобновлению в памяти курса французской словесности и начинал историю романтизма с провансальской поэзии и труверов, отыскивая в их рифмованных сонетах, рондо, триолетах первые семена романтизма; напрасно противопоставлял свойства и приемы народныхдрам Кальдерона, Шекспира и проч. придворнымтрагедиям псевдо-классиков времен Людовика XIV, думая уловить в этом контрасте коренные признаки и отличия обеих школ; напрасно также наконец, как бы из отчаяния в неуспехе своих изысканий, советовал просто различать классические произведения от романтических не по духу и содержанию их, ибо тогда в ином классическом создании найдутся ясные элементы романтизма, как и наоборот, а только по их формам, которые уже не могут обмануть, будучи типически различными между собою – все напрасно! Построение какой-либо эстетической теории на романтизме – не давалось ему, что он ни делал. Некоторые из этих попыток Пушкина уяснить вопрос приведены нами были в «Материалах» 1855 (см. том I Сочинений Пушкина, изд. 1855, стр. 112, 262 и след.), но многочисленные, длинные его компиляции из курсов, но значительное количество образчиков пересказать их содержание своими словами и дополнить своими комментариями, туда не попали, как черновая работа, только внешне, механически принадлежащая поэту. Можно привести в дополнение к другим примерам его собственных мнений о романтизме еще следующий отрывок из письма к П.А. Вяземскому, набросанный предварительно поэтом вчерне: «Перечитывая твои письма, – говорит Пушкин, – берет меня охота спорить… Говоря о романтизме, ты где-то пишешь, что даже стихи со времени революции имеют новый образ от А. Шенье… Никто более меня не уважает, не любит более этого поэта, но он… из классиков – классик. C'est%n imitaeur. От него пахнет Феокритом и Анакреоном. Он освобожден от итальянских concetti,и от французских antithèses,но романтизма в нем нет еще ни капли… Первые «Думы» Рылеева (последние прочел я недавно и еще не опомнился: так он вырос!) – холодны… Lavigne – школьник Вольтера – и бьется в сетях Аристотеля. Романтизма нет еще во Франции, а он-то и возродил умершую поэзию. Помни мое слово – первый поэтический гений в отечестве Буало ударится в такую свободу, что – что твои немцы! Покамест во Франции поэтов менее, чем у нас… Что до моих занятий… Роман в стихах… в роде Д. – Жуана… Первая глава кончена – тебе ее доставлю… Пишу с упоением, чего уже давно со мною не было… О печати и думать нельзя. Цензура наша так своенравна, что невозможно размерить круг своих действий: лучше и не думать».