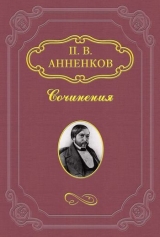
Текст книги "Пушкин в Александровскую эпоху"
Автор книги: Павел Анненков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
III
Новое издание сочинений Пушкина
г. Исакова под редакцией П. Ефремова (1880–1881 годов).
Начав просмотр нового издания Пушкина, мы были удивлены, как и многие другие прежде нас, тоном ожесточенной полемики, какую г. редактор открыл с первых же страниц своих примечаний к стихотворениям поэта против старого издания сочинений Пушкина 1855 года, вышедшего под редакцией П.В. Анненкова. Чем дальше следили мы за указаниями, толкованиями, выходками г. Ефремова, тем более убеждались, что вся эта работа унижения старого издания 1855 года без меры и часто без всякой причины не имеет ничего общего с критическим исследованием его достоинств и недостатков, а направлена к тому, чтобы особенно отрекомендовать новое предприятие в том же роде, давно ожидаемое публикой. Все усилия г. Ефремова клонятся к тому, чтобы заставить забыть досадное старое издание, изгладить о нем память в литературе, умалить или вовсе удалить воспоминание о всем том, что оно впервые дало или впервые исследовало. Отыскав правильную точку зрения на библиографические изыскания г. Ефремова, как на бойкую литературную рекламу, нам уже легко становится признать ее достоинства. Реклама отличается замечательною ловкостью, изобретательностью мотивов и неожиданностью заключений, а если она не всегда отвечает истинному положению дела, то кто же станет требовать от рекламы правильной и добросовестной оценки чужого труда? Но, признавая вполне законность литературной рекламы и в настоящем случае искренно желая ей успеха, если она поможет увеличить число читателей и поклонников Пушкина, мы должны однако же заметить, что есть пределы для рекламы, которые ей не следовало бы переступать в виду даже сохранения своего обаяния. Чего только не наговорил г. Ефремов и на себя, и на предшественников своих в двух первых томах нового сборника на 70-ти и на 42-х страницах своих примечаний, к ним приложенных! Дело доходит у него до азарта и до курьезов, способных смутить самого доверчивого читателя. Он аттестует, например, прежнего издателя «Сочинений Пушкина» 1855 года человеком, крайне небрежно пользовавшимся драгоценными рукописями поэта, которые находились в его руках, поверхностно, а не построчно сличавшим тексты, безграмотно прочитавшим некоторые стихи и проч. (т. I, стр. 509). Поводы к составлению подобного приговора до того мелки, что разлад между ними и непомерно торжественными и суровыми заключениями судьи мог бы привести в недоумение, если бы мы не знали источников этого разлада. Большею частью поводы эти заключаются в описках и опечатках, которые в первом систематическом издании сочинений Пушкина при разборе многочисленных документов, до них относящихся, были почти неизбежны. Впрочем, винить в легкомыслии г. Ефремова нельзя: он знал, что делал, когда резкостью выражения надеялся отвести глаза читателя от ничтожества своих заметок и укрыть за ними собственные свои промахи, которые уже менее извинительны, чем погрешности первоначального издания 1855 года. Также точно нельзя вменять ему в преступление и хвастливое возглашение на весь читающий русский мир о каждой перемене в тексте, о каждой незначительной добавке к нему, какие он почел за нужное сделать: обязанности редактора были бы очень тяжелы, если бы исполнять их скромно, как призвание. Гораздо менее извинительны некоторые суждения и афоризмы Ефремова, похожие на странности. Так, одна мелкая добавка к раннему лицейскому стихотворению Пушкина (о лицейских пьесах всего более и хлопочет г. Ефремов) вызвала у него замечание: «Г. Анненков, хотя имел рукопись, исправленную Пушкиным для издания 1826, но обратил внимание только на поправки поэта, а не прочел всего стихотворения (т. I, 516). По этому определению выходит, что г. Анненков открыл секрет вводить поправки в стихотворения поэта, не читая последних вовсе. Эта удивительная мысль не просто сорвалась с языка у г. Ефремова; он повторяет ее в различных вариантах на разных пунктах своих примечаний: так она ему полюбилась. Рядом с нею можно поставить следующий отзыв. Не находя в одной пустой стихотворной записочке Пушкина к приятелям (из семи строк) последнего стиха, вероятно, и не стоявшего в рукописи поэта, г. Ефремов пеняет г. Анненкову, впервые напечатавшему отрывочек, почему он не упомянул о недостающем стихе (т. I, стр. 553). О чем же было упоминать, когда дело само по себе представлялось достаточно ясным, а надобности в библиографической болтовне для пущей важности совсем не требовалось? Правда, что и здесь встречается оправдание для г. Ефремова. Он не мог подавить в себе рвения бросить еще один лишний раз злобный укор, хотя бы и мало мотивированный, старому изданию 1855 года, которым он, однако ж, в течение работы, пользовался весьма усердно: платить за услугу оскорблением, когда речь коснулась этого издания, сделалось потребностью его нравственной природы. Для удовлетворения ее он оказался способным позабыть на время даже и современную нашу историю и вот что пишет по поводу пьесы Пушкина «Паж, или пятнадцатилетний король», в которой «нашел пропуски, сделанные посмертным изданием», прибавляя к тому: «о чем г. Анненков, имевший подлинную рукопись, вовсе не упомянул, а это, при его обычае постоянно указывать пропуски, сделанные самим поэтом или редакторами посмертного издания и постоянно же умалчивать о цензурных исключениях, дает повод полагать, что строфы эти не явились по особым причинам» и т. д. Можно подумать, что в 1853–1854 годах, когда изготовлялось старое издание, молчание о цензурных исключениях исходило просто из обычая, усвоенного редактором, и зависело от его доброй воли! Но стоило ли думать о подобных мелочах?
Критический анализ различных редакций пушкинского текста замечателен еще у г. Ефремова и во многих других отношениях. Ни у одного комментатора произведений знаменитых авторов нельзя найти столько игривости, такого расположения к шутке и фельетонной шалости. Обширная сеть цитат, выписок, поправок его вся пропитана, за малыми исключениями, блестками сомнительного остроумия, фальшивой иронии. Он умеет высказывать длинные замечания тоном водевилиста и может быть по справедливости назван творцом нового рода увеселительной библиографии. По-видимому, приемы эти ему были нужны в виде вознаграждения читателя за пустоту многих его соображений. Нужно ли, например, г. Ефремову указать на ошибку известного библиографа В.П. Гаевского, полагавшего, что одна эпиграмма дяди нашего поэта Василия Львовича Пушкина имела в виду знаменитого его племянника Александра Сергеевича Пушкина, г. Ефремов делает свое указание в следующей форме: «Сомнительно, чтобы Вас. Льв. (Пушкин – дядя), мог написать эпиграмму на не родившегося еще племянника, ибо она напечатана в 3-й книге Аонид на 1799, а поэт родился только в мае этого года» (т. II, стр. 430). Это прелестное «сомнительно» окрашивает простую заметку в приятный ругательный цвет. В другой раз, по поводу шуточной цьесы Пушкина «Ода графу Хвостову», редактор без всякой причины и какой-либо связи с произведением бросает комок грязи в г. Гербеля, издателя Шиллера и Шекспира в русских переводах (т. I, стр. 569). И сколько таких юмористических блесток разбросано г. Ефремовым по всем частям и составам его труда! Зачем все это, и главное, у места ли в издании классического писателя?
Роли редактора произведений великого отечественного деятеля г. Ефремов совсем не понимает. Он перенес в строгую область библиографических и филологических исследований говор приятелей, личные свои предрасположения и проч., бесцеремонно перемешав все это с прямою своею задачей – восстановления правильного чтения пушкинских произведений. Он точно обрадовался возможности показать себя в качестве публициста, умеющего постоять за свои определения, хотя бы и подсказанные капризом мысли. На почве сравнительной критики текстов и под покровом великого имени художника идет у него мутная волна каких-то страстей и расчетов. У подножья величавого образа Пушкина раздаются задорные крики, шум полемических гипербол, неумеренных слов, которые возбуждают невольно вопрос: в чем же состояла цель нового издания – в добросовестном ли пояснении пушкинских текстов, или в доставлении средств развернуться на просторе бесцеремонному балагурству его редактора?
В числе приемов, употребляемых г. Ефремовым, следует сказать еще несколько слов об упомянутом уже выше постоянном его обычае возводить в литературные преступления простые типографские недосмотры, явные описки, иногда спорную расстановку запятых (т. I, стр. 515, 516). Расчет верен: чем страшнее покажется вина, тем почетнее сделается ее обличение. Во всех случаях, где г. Ефремов встречает промах, часто, требующий одной черты карандаша для полного исправления своего, он торопится принять внушительную позу спасителя пушкинской мысли, мстителя за нанесенное ей оскорбление, хотя дело обыкновенно идет о словах, буквах, перестановке фраз и т. п. Ревность о чистоте текста служит тут предлогом для тщеславной потехи. Редактор устраивает себе нечто подобное судейской кафедре, с высоты ее судил весь литературный мир и все публикации о Пушкине за их корректурные, орфографические и издательские прегрешения. Но самая большая часть суровых приговоров редактора опять-таки падает на долю старого издания Пушкина 1855 года; поэтому мы и осуждены поневоле беспрестанно обращаться к его толкованиям на издание 1855 года, так как в них-то именно заключаются наиболее крупные перлы его комментаторской деятельности.
В своих «Материалах для биографии Пушкина» 1855 года г. Анненков приводит цитату в четыре стиха из превосходного стихотворения «Наперсница волшебной старины», им же и найденного и впервые опубликованного. К сожалению, второй стих цитаты он, по недосмотру, написал так: «Мой юный ум напевами пленила» вместо: «Мой юный слух…», как следовало бы и как значится действительно в пьесе, целиком приводимой через несколько страниц г. Анненковым в тех же своих «Материалах». Ошибка в цитате дает г. Ефремову случай показаться в полном блеске библиографической эрудиции своей и приступить к довольно забавному следственному процессу. Он задается вопросом: не было ли двух списков стихотворения, и порешив его отрицательно, переходит к главному пункту обвинения: «Кроме того, г. Анненков, по-видимому, плохо читал или плохо переписывал рукописи поэта для издания, потому что нередко одно и то же стихотворение воспроизводилось в разных местах издания в разных же видах (I, 509). И затем следует указание ошибки. Каким образом на примере одной погрешности в цитате из четырех стихов, отъятой от пьесы, имеющей их 26, г. Ефремов мог придти к заключению, что старое издание 1855 года печатало цельные стихотворения, с одного и того же списка, разно в различных местах, – не надо спрашивать: все это только средство разыграть, под прикрытием якобы серьезного труда, комедию скандального характера. Можно только пожалеть, что она дается на страницах, посвященных деятельности гениального русского человека. Таких фальшфейеров библиографической эрудиции, освещающих пустоту, у г. Ефремова множество. Если бы разобрать всю массу примечаний, собранных им только в двух первых томах своего издания, можно бы удивить читателя тою долей натянутости толкований, искусственных выводов из самых простых данных и посылок, какую они заключают в себе. К счастью его, подобная, столь же обширная, сколько бесполезная работа не скоро найдет охотников. Добраться в указаниях и заметках г. Ефремова до истинного значения фактов, заняться извлечением из этой груды всяких существенных и пустых подробностей какого-либо серьезного материала для истории нашей печати представляется делом в высшей степени трудным. Кажется, что г. Ефремов даже и рассчитывал на эту трудность и на сопряженную с нею относительную безответственность для себя.
Иногда преувеличения его и непонимание прямого смысла того, что он читает, по истине поразительны. Тот же составитель «Материалов для биографии Пушкина» касается в одном позднейшем своем труде известного общества «Зеленой лампы», членом которого состоял одно время наш поэт, и определяет общество это, как простое оргиаческое, не имевшее никакой политической окраски, занимавшееся преимущественно театральными делами и устраивавшее у себя пиры и зрелища далеко не целомудренного характера. Определение это не понравилось г. Ефремову и отразилось в его уме и понимании следующим образом: «…Анненков неосновательно свел (общество «Зеленой лампы») на степень развратно-грязного и шутовского, смешав его даже с татариновской сектой» (прим. 1, т. I, 559). Ничего подобного не делал г. Анненков, но что нужды? Надо же поместить наперед изготовленное, крепкое слово на предназначенное ему заранее место. В тех случаях, когда по отсутствию документов и предлога к употреблению такого слова оно становится затруднительным, г. Ефремов прибегает к восклицательным и вопросительным знакам. В этом роде весьма замечательна пара знаков удивления, пристегнутая им к словам г. Анненкова о кишиневском послании поэта, 1821 года, В.Л. Давыдову. Одна часть послания, им же г. Анненковым и найденного в бумагах поэта, была приведена им в статье о Пушкине («Вестник Европы» 1874 г., № 1), а от сообщения другой биограф отказался, ограничившись передачей стихов, где поэт извещает о своем говений у Инзова, и заменил все следовавшее затем словами: «и так далее до последних пределов глумления». Передавая эти строки г. Анненкова, г. Ефремов сопровождает их двумя знаками восклицания в скобках (т. I, стр. 558). Что означают они, какому движению мысли г. Ефремова призваны отвечать? Сомневается ли он в том, что в минуты страсти поэт мог нисходить до глумления над очень важными предметами, – на это есть свидетельства, которые г. Ефремов лучше знает, чем кто-либо другой, – или г. Ефремов негодует на непочтительное обозначение словом глумление произведений такого рода, как вышеупомянутое послание В.Л. Давыдову? Нелегко понять редактора нового издания в роли защитника, как и в роли обвинителя. Но все это еще безделица в сравнении с тем, что является в других местах под пером редактора нового издания.
Привычка подменять мысли и намерения, встречаемые автором, теми, которые приходятся более по вкусу самого редактора, должна была довести его до неблагонадежных заявлений. Пример такого печального результата библиографических разысканий г. Ефремова мы видим в примечании, которым он сопровождает два знаменитых послания Пушкина «К цензору». Выписываем существенную его часть целиком: оно дает образчик всей манеры г. Ефремова относиться к своей задаче редактора.
«Два послания цензору», говорит он, – «…в сокращенном виде явились в VII т. издания г. Анненкова, который имел мужество заявить, что они под его рукою стали лучше, ибо очищены им: «Очищенные от намеков, касавшихся современных поэту лиц и событий, они теряют всякий признак сатирического или полемического направления и только могут служить образцом строгого и высокого понимания одного из важнейших общественных служений». Действительно, мы видим цензурную рукопись VII тома и не нашли в этих стихотворениях ни одного цензурного исключения, так что вся честь очистки принадлежит г. Анненкову, который и заглавие им дал «Посланий к Аристарху…» (I, стр. 572).
Читатель уже догадывается, чего надо ожидать в конце от позорного обвинения. По справке, наведенной нами в VII томе издания г. Анненкова, нет не только ничего похожего на заявление, что оба великолепных послания сделались еще лучше от выпусков, в них произведенных, но нет еще и признака нити, которая давала бы возможность связать слова г. Анненкова с тем толкованием их, которое представил г. Ефремов. Редактор старого издания 1855–1857 годов очень сдержанно говорил в своем примечании к обоим посланиям Пушкина, которые он первый и успел провести в печать: «Решаемся представить публике эти два послания, писанные в Михайловском уединении 1824 года и хорошо известные почитателям нашего поэта. Очищенные от намеков, касавшихся современных поэту лиц»… и так далее, как в цитате г. Ефремова. Тут, очевидно, выступает намерение успокоить враждебные силы, мешавшие до того появлению стихотворений в печати, и успокоить их указанием на выпуски, – но где же хвастовство искажением текста, будто бы произведенным редактором с целью его улучшения? Мужество, о котором говорит г. Ефремов, гораздо более проявляется у него самого, когда он находит возможность приписать подобные намерения г. Анненкову. Нельзя требовать, чтобы г. Ефремов помнил, с какими условиями печати, теперь уже неизвестными современным писателям, боролся прежний издатель, но одно обстоятельство могло бы, кажется, остановить его внимание. В том же VII-м томе старого издания потребовалось замещение полных имен гг. Булгарина и Греча одними инициалами Б. и Г. в памфлете Пушкина «Несколько слов о мизинце г. Б. и о прочем», хотя их полные имена красовались уже на страницах журнала «Телескоп», где памфлет был впервые помещен. Не скажет же г. Ефремов, что и это изменение произошло по инициативе и вследствие тайного предрасположения издателя к этим почетным лицам прежней русской журналистики? Впрочем, почему бы ему и не сказать этого после всего, что мы уже от него слыхали? Странно только, что литератор, хвастающийся знакомством с мельчайшими явлениями старой периодической нашей печати, не знает истории ее за последнее, ближайшее к нам время. Сохрани он какое-либо понятие о ней, он, может быть, не стал бы удивляться, что послания «К цензору» не могли предстать на суд к наследнику и преемнику, того же самого цензора, о котором в них говорится, под своим настоящим заглавием и потребовали его изменения в послания «К Аристарху». Может статься, он понял бы также, что произведенные выпуски из посланий сделаны по указаниям цензурной администрации, видевшей в этих образцовых произведениях глубокомысленного, патриотического и консервативного характера, не более как противоправительственную сатиру. Что касается до типографской тетрадки, с которой печатался VII-й том старого издания, и в которой г. Ефремов не нашел цензурных помарок, то они не могли там встретиться после предварительного соглашения с ведомством о печати на счет формы, какую следовало придать обеим пьесам для получения права явиться на свет. После всего сказанного спрашивается: имел ли г. Ефремов повод и основание к дикому обвинению?.. Оскорбительно и печально встречаться с подобными явлениями при разборе издания сочинений Пушкина!
Переходим к самим этим сочинениям, то есть, к плану, принятому г. Ефремовым дляраспределения произведений Пушкина в издании. В. виде нововведения он отбросил прежнюю общепринятую редакторскую систему расчленять громадный литературный материал, оставленный Пушкиным, на его естественные, так сказать, очевидные бесспорные отделы в роде отдела стихотворений, поэм и драм и предпочел другую, состоящую в печатании сплошь под одним годом, не разбирая формы произведений, всего, что в этот год было создано поэтом. В принципе строгая хронологическая последовательность не может встретить возражений, но она имеет тоже свои границы. Редактор должен был подумать о последствиях и неудобствах, какие встретятся при ее абсолютном приложении к делу. И старые издания, принявшие разделение произведений Пушкина на большие группы, ни мало не нарушали хронологического порядка, принятого ими за основу своих изданий, а только облегчали читателю способ классифицировать огромную, многостороннюю деятельность поэта и легче отдавать себе отчет в ней. Здесь видим совсем другое. Прежде всего система редактора не выдержана вполне во всех частях издания, да и не могла быть выдержана. Для этого следовало бы, руководясь одним хронологическим принципом, решиться на помещение рядом со стихотворными произведениями Пушкина и произведений его в прозе, перерезать лирические пьесы рассказами, повестями, трактатами, написанными в один год с ними, а потом начинать снова, под следующими годами, тот же пестрый полонез из всех произведений, стоящих на очереди в данный момент. Пред этим результатом своей системы отступил и редактор, допустив особый отдел прозы Пушкина. В самом зачислении некоторых поэм в ряды пьес одного точно определенного года уже есть несообразность: многие из них, как «Руслан», «Евгений Онегин», «Медный Всадник», «Галуб», писались автором несколько лет сряду, и объявлять их ровесниками каких бы то ни было других произведений значит погрешать неточностью, которую так преследует редактор везде, где ее находит или где ее предполагает. Но главная ошибка этого плана заключается в том, что по милости его смешение важного с неважным, высокохудожественного создания с шуткой и безделкой, не позволяет читателю укрепиться в одном художественном настроении. Для того, чтобы понять, какое противоэстетическое впечатление производит это нагромождение пьес, различных по форме, в одну кучку и друг на дружку, достаточно указать, что под 1825 годом хроника «Борис Годунов», начатая, как известно, еще ранее, помещается рядом с «Графом Нулиным», что тотчас же за «Полтавою» следует пародия: «Ты помнишь ли, ах, ваше благородье», что под 1829 годом поэма «Галуб» красуется между двумя альбомными стишками и т. д. Как бы для довершения смуты и путаницы, редактор присоединил еще к пушкинскому тексту новооткрытые эпиграммы, памфлетные выходки, частные развязные записочки и легкие импровизации поэта, которые г. Ефремов, за неимением никакого другого нового и серьезного материала под рукой, выдает за важные приобретения и помещает в соседство со всеми высокими проявлениями пушкинского гения. Последствия этих распорядков отразились на издании тем, что оно приобрело в двух еще первых своих частях вид какого-то огромного складочного магазина, какие бывают у оптовых торговцев, где до предметов первостепенной ценности надо добираться через груду остатков, не доделанных или испорченных вещей мастера.
Остановимся на этих новых приобретениях. Если дурно понятый принцип хронологического порядка в издании привел редактора к такому неудовлетворительному результату, то другой и тоже дурно понятый принцип достижения наивозможно большей полноты в издании наделал ему пущих бед. Редактор не подумал, что полнота полноте рознь, и бывает не только не желательная, но и положительно вредная полнота для сборников, та именно, которая способна помрачить установленный, всеми признанный лик писателя или дать ему другое выражение, чем обыкновенно носимое им или приписываемое ему, – разве только это изменение нравственной физиономии автора входит в намерения самого издателя и составляет цель его сборника. Но без такого намерения перехватывать каждое слово, пущенное на ветер поэтом в минуту искусственного воодушевления и записанное его неразборчивыми друзьями, следить за каждою его застольного импровизацией, заниматься, как важным делом, каждою минутною, нецеремонною его шуткой, все это уже представляется заблуждением страстного библиографа, но не делом эстетического вкуса и понимания. Нет сомнения, что увлечения, порывы уклонения Пушкина от прямой своей дороги, в которых он так часто раскаивался при жизни, должны были найти себе место в собрании его сочинений, но не иначе, как отделенные от цикла созданий, стяжавших ему славное имя, и не иначе, как в виде паразитов, открытых на светлом фоне его поэзии, и с целью поучительного примера. Здесь мы видим совсем другое. Благодаря необдуманному исканию полноты, редактор принял их в состав издания на одних правах с самыми возвышенными произведениями поэта, как бы признавая в этих случайных ошибках его гения одну из принадлежностей его творчества [97]97
Старое издание 1855 года поступило гораздо осторожнее, приняв за правило относить к концу года эпиграммы, записочки, шутки Пушкина, написанные в течение его.
[Закрыть].
Как бы ужаснулся сам Пушкин, если бы мог предчувствовать при своей жизни, что наступит время, когда каждая строка, сбежавшая с его пера и им позабытая, каждое слово, сорвавшееся с языка и преданное им забвению, предстанут снова на свет без пояснений, часто даже обезображенные поправками, и притом в виде добавки к его жизненному подвигу!.. Известно, что Пушкин сам записал в тетрадях своих некоторые очень резкие и яркие проблески своей пылкой, увлекающейся природы, и записал, видимо, с целью сохранить перед глазами для будущих лет всю прошлую свою жизнь во всей ее наготе. Впоследствии он черпал из этой скорбной хроники потрясающие мотивы для стихотворений, в которых слышался вопль раскаяния, да вероятно, при более долгой жизни, рассказал бы по той же хронике и все болезни и страдания своей души, с ее падениями и возвращениями к свету, в поучение современникам и потомству. Наша задача, как ближайших его потомков, совсем другая; мы не можем следовать примеру Пушкина и приводить печальные документы его жизни просто как документы, не освещая их мыслью и оценкой обстоятельств и среды, из которых они выросли. Зная уже теперь вполне нравственную сущность великого человека, все психические элементы, образовавшие его личность, все благородные стремления его души и непогрешимую чистоту всех его мыслей и поэтических замыслов, мы имеем право и должны сказать, что те низменные проявления раздраженного, буйного и скандалезного творчества, о которых здесь идет речь, Пушкину не принадлежат в обширном смысле слова, хотя бы от них остались несомненные автографы, хотя бы они были записаны собственною его рукой на страницах его тетрадей. Они не выражают ни настоящей его природы, ни его развития, ни даже подлинного его настроения в минуту, когда были писаны. Они ничем не связаны с его действительною мыслью, не имеют корней во внутреннем его мире, не отвечают никакой склонности его ума или сердца. Все они суть детища брожения и замашек его времени, должны считаться эхом того говора и шума толпы, которая следила за ним по пятам всю жизнь, произведениями таланта, неверного самому себе, совести, изменившей собственным своим началам. Почет, оказанный им новым редактором, принявшим их за серьезные произведения пушкинской музы, есть одна из самых крупных ошибок издания.
А почет оказан, действительно, немалый: г. Ефремов нашел возможным ввести в пантеон пушкинской поэзии такие пьесы, как «Платонизм», «Еврейки», «Сиротка», «Иной имел мою Аглаю», «Город Кишинев», присоединив к ним шутки, эпиграммы, записочки в роде «С позволения сказать», «От всенощной вечор идя домой», «Дедушка игумен», «Эпитафия духовнику», «Пародия», «Княжне Хованской» и проч. Некоторые из них он подверг исправлениям, которые потом сделались притчей у фельетонной нашей печати (и напрасно, скажем мы от себя: переделки эти, каковы бы ни были, все-таки свидетельствуют о сохранившихся еще остатках уважения к публике); а в других заменил особенно резкие слова и стихи точками, – но поправленные и оставленные с одними пропусками одинаково отдают крепким букетом литературного скандала. Перенося их из рукописных частных сборников и школьных тетрадок доброго старого времени прямо на страницы своего издания, посвященные пушкинскому тексту, редактор не подумал, что все старания его замаскировать их содержание тем или другим способом только увеличивают соблазн и силу ядовитых их намеков. Разбирать смысл этих произведений по чертам, какие они сохранили еще на себе, просто значит упражняться в неблагопристойностях. Но если уже дело сделано, то возникает другой вопрос: почему не воспользовались гостеприимством редактора все другие пьесы Пушкина того же рода, которые стоят еще за вышеприведенными и имеют право завидовать своим собратам-близнецам, удостоенным чести занять место в собрании избранных пушкинских стихотворений? Билет на вход тоже принадлежал им по праву и во имя великого принципа полноты, Ведь переделывать их и проводить, на сколько то возможно, в порядочный вид, требуемый печатью, было не труднее, чем при туалете их предшественников. Но тут мы встречаемся с необъяснимою загадкой: загадки всегда являются в деятельности человека, который лишен ясного представления целей, к которым идет. От одной части этих пьес, оставленной за бортом издания, редактор отделывается голословным и весьма спорным валовым приговором, по которому они будто бы Пушкину не принадлежат. Знатоки русской потаенной литературы, видевшие список отверженных им пьес, который приложен был в «Русской Старине» к самому объявлению о выходе в свет нового издания (!) («Русская Старина» 1880, т. XXVIII, июль, стр. 590), заметили однако же, что приложить список не значит еще приложить и доказательство, и что существуют сильные поводы сомневаться в точности этого цинического реестра. Как бы там ни было, но исключив, по своему усмотрению, недостоверные цинические эпистолы и проч., редактор добродушно принял в состав издания некоторые подобные им и уже заведомо Пушкину не принадлежащие, в чем и принужден был сознаться. Так-то обманчива, ненадежна и подвижна болотная почва секретных литературных грехов, на которую с легким сердцем вступил наш библиограф, думая отыскать на ней материалы для сообщения сборнику сочинений Пушкина еще небывалой у нас полноты. В погоне за этим пустым призраком г. Ефремову удалось только представить зрелище, по истине редкое даже и в летописях русского книгопечатания, прославившегося, как известно, своим неряшеством. Словно по приговору какой-то Немезиды является у г. Ефремова ряд невольных противоречий и промахов, покрупнее всех тех, которым он посвятил в своих примечаниях самые желчные, грубые слова, какие только у него находились в распоряжении. Приписав неосновательно Пушкину безобразную балладу «Тень Баркова», он прибегает к вырезке страницы, на которой красовалось это стихотворение, и забывает, к удивлению, исключить в примечании и в алфавите ссылку на него и на страницу, уже не существующую, где оно было приведено (т. I, стр. 511 и 576). В другой раз он публично предуведомляет читателей о точно такой же вырезке и по тому же поводу произведенной им в каком-то томе, прося их вместе с тем перепутанные листы этого же тома с прозаическим текстом Пушкина обменивать на другие более правильные, заготовленные ad hoc («Новое Время» 1880 г.). Но все это, повторяем, может считаться еще мелочью в сравнении с тем, что добытые с такими жертвами и катастрофами блеклые цветы пушкинской секретной производительности редактор вплел в один венок с самыми роскошными, чистыми, благоуханными цветами не умирающей его поэзии. Так, соблазнительные пьесы: «Олиньке Масон» и «Платонизм» идут рука об руку с художественными антологическими: «Дорида», «Дориде»; за непристойною «К Еврейке» следует, через одно стихотворение, «Наполеон»; вдохновенное «К Овидию» соприкасается, поверх двух маленьких отрывков, с циническою «Иной имел мою Аглаю», и вообще контрасты, режущие глаза, встречаются беспрестанно в издании и составляют его отличительный характер.








