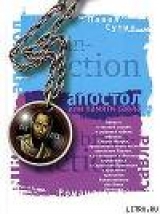
Текст книги "Апостол, или Памяти Савла"
Автор книги: Павел Сутин
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Ма, я поработаю пару часов, – сказал Дорохов, заглянув на кухню, где замечательно шкворчало. – Ма, я буду курить, честно предупреждаю.
– Что ты хочешь на обед? – спросила мама. – Кабачки хочешь? Или голубцы?
– Я все хочу, – сказал он. – И кабачки, и голубцы. И борщ хочу. А соленые огурцы есть?
– Конечно, – мама улыбнулась. – Господи, я как подумаю, как ты там по столовкам. Огурцы есть, капуста есть. Тетя Валя принесла грибы. Она чудесно маринует белые.
Дорохов представил, как за новогодним столом выпьет ледяной водки из хрустальной рюмки и наколет на вилку желто-коричневый ломтик в маслянистом прозрачном маринаде.
– Все хочу! – плотоядно сказал он. – Home, sweet home! Я немного поработаю, потом пообедаем. Потом я с папой в шахматы сыграю. Вечером поставлю елку и буду смотреть фотографии.
В большой комнате, в шкафу лежали толстые альбомы с фотографиями. Семейные автомобильные путешествия – Иссык-Куль, Боровое, Прибалтика.
– Как трогательно, – насмешливо сказала мама и вынула из холодильника банку со сметаной. – Не забудь заглянуть к первой учительнице. Старушка будет рада.
Он хмыкнул, почесал нос и ушел в свою комнату. Сел за стол, заправил в машинку свежий лист и закурил.
«Итак, начнем, благословясь. Где я его оставил? Он у меня, значит, вернулся от инспектора…»
* * *
«…принят для беседы Севела Малук, торгового сословия, сын Иегуды Малука, квартал Хасмонеев. Ручателем выступил предъявитель жетона „Hermes, XXXIV“. Предъявитель находился в то время в Эфраиме, в отпуске. Знаю, что ручатель – уроженец города Эфраима и хорошо знает семью Малуков.
Впечатление от беседы сложилось наиблагоприятнейшее. Малук – образованный и серьезный молодой человек. Его мотивация вызывает уважение.
По разумению тессерария Клодия Деста очень верно, что наместник Вителлий обязал иных из здешних риторов (их прозывают kohen) обучаться праву. Были устроены семинары о Двенадцати Таблицах. Преподавал юстист Веллей Патеркул. Риторы учатся увлеченно и прилежно. Замечено, что особый интерес у них – к спискам речей консула-суффекта Домиция Афра. Видно, молодым риторам нравятся лаконизм и логика почтенного Домиция.
Луций Мирр.
Эфраим. Городская инспектура».
* * *
Они прекрасно встретили Новый год. Все было, как в прошлый раз, и как в позапрошлый, и как пять лет тому назад. Мама сделала салат, который в семье называли «кафедральным». Много лет назад мама на Восьмое марта приготовила такой салат у себя на кафедре. С тех пор салат с яблоками, соленым огурцом и говядиной называли в семье «кафедральным». Были также пельмени, холодец, соленые огурцы (огурцы и помидоры солил отец, Дорохов не знал солений вкуснее, чем отцовские), форшмак, тертая редька и маринованные белые грибы.
Они послушали поздравление генерального секретаря, бой курантов, Дорохов открыл «Советское» шампанское. («Пап, ну не бред? Советское шампанское… Антисоветское бургундское. Христианско-радикальное анжуйское.)
На тонкой желто-коричневой коре выступили янтарные капельки. Тускло поблескивали большие шары с поблекшим рисунком. Подберезовики с прищепкой и сосульки на нитяных петлях. Невесомые снегурочки со свекольным румянцем и гирлянды. «Мы в пух и прах наряжали тебя, мы тебе верно служили. Громко в картонные трубы трубя – словно на подвиг спешили».
Отец каждый шар, каждого попугайчика, каждую стеклянную ракету и часы, показывавшие без пяти двенадцать, аккуратно заворачивал в обрывок газеты, когда убирал сосну седьмого или восьмого января. И обрывки тоже сохранялись годами. Позавчера Дорохов украшал сосну и, стряхивая сигарету в пепельницу-сувенир – шину с алюминиевым сердечником и надписью «Шинный завод, Белая Церковь» (отец не курил, но из командировок привозил пепельницы «Шинный завод, Бобруйск», «Шинный завод, Ярославль»), читал пожелтевшие программы телепередач на двадцать пятое декабря семьдесят пятого года из «Вечернего Сибирска», фельетоны из «Сибирской правды» семьдесят седьмого и прогнозы погоды из «Молодого Сибиряка» восемьдесят первого. Забавно было теперь, в декабре восемьдесят шестого, читать программы телепередач и радио. «Утренняя почта», 10–00. «Сельский час», 11–30. «Ленинский университет миллионов», 13–00. Художественный фильм «За облаками небо», 19–30. По второй программе «Экран развлекает», 20–00. Киноэпопея «Освобождение», 21–00… Статья «Непокоренные» из «Известий». Статья поместилась на обрывке почти целиком, и Дорохов заинтересовался: кто это там у них такой был «непокоренный» в сентябре восемьдесят второго? Присел на пол, прочитал. Оказалось – палестинские партизаны в Ливане, бандиты. Ну да, осень восемьдесят второго, оккупация части Ливана Израилем. Дорохов хмыкнул, вспомнив, что даже тогда, в восемьдесят втором, он уже знал, что операция сил самообороны Израиля называлась «Мир Галилее». Израилю надоели нападения с территории Южного Ливана. И Сашка ему потом дал номер «Израиль сегодня», там написано было, что сирийцы хозяйничали в Южном Ливане как у себя дома. Интересная страна Израиль, ага. Сколько лет арабцы воюют еврейцев? С самого начала, с сорок восьмого года. И чего? А ничего. Еврейцы неизменно чистят арабцам рыло. Сколько раз полезли магометане – столько раз получили в рыло. Не фартит арабцам, нет, видимо, за ними исторической правды. Дорохову, в общем, до фонаря было, кто там кого одолеет, не было у него там близких родствеников. Арафат – подонок, та еще сволочь, по вислогубой роже видно, что жулик… Дорохов расправил обрывки и сложил их в стопку, на дно фанерного ящика, где хранились елочные украшения.
В одиннадцать позвонил Сеня. Потом звонил Вова Гаривас. Поздравил, сказал, что они будут встречать у Сени, на Метростроевской, что он только что отстоял жуткую очередь за красной икрой в «Смоленском», купил три банки. А сейчас переоденется, и они с Олей (новая девушка Гариваса, Дорохов ее еще не видел, знал только, что учится на журфаке) поедут к Сене. Будут Никон, Тёма Белов, Борька Полетаев и Гена. А Саня Берг уехал в горы, будет в Терсколе своем любимом встречать Новый год. Бравик встречает дома, с родителями и братом Пашкой. Еще Гаривас добавил, гаденько хихикая, что с той докторицей у Тёмы, увы, ничего не вышло. На Метростроевскую Тёма приедет один, так он сегодня мрачно сказал Гаривасу. Дорохов передал всем поздравления.
«Мы тебе еще позвоним», – пообещал Гаривас.
Дорохов озабоченно подумал, что они, черти, действительно позвонят ему в три часа ночи, в соответствии с разницей во времени между Москвой и Сибирском. Надо будет забрать телефон в большую комнату. Поддадут и вспомнят про друга во глубине сибирских руд.
Когда пробило двенадцать, Дорохов взял фужер за тонкую ножку, легко прикоснулся к родительским фужерам. Выпили холодное шампанское, а потом он сразу налил себе коньяка. Он знал, что папа хранил бутылку «Арарата» год, наверное. Берег к его приезду.
– Ну, сын, давай поговорим о планах, – сказал отец, когда мама вышла на кухню, чтобы поставить чайник.
– Ты же все знаешь про мои планы, пап, – Дорохов закурил.
Экселенца отец видел два раза – в позапрошлом году и перед Дороховской защитой. В первый раз Дорохов привез отца в институт, провел по лаборатории, познакомил с Хорей, Костровым и Сержем. Потом они пили чай в комнате Дорохова, и вошел Риснер. Он приоткрыл дверь, заглянул, заломил бровь и вошел. Позже Дорохову подумалось, что экселенц с порога сообразил, кто этот невысокий крепкий мужчина с внимательными темными глазами. Может, это и было совпадением, но Дорохову показалось, что гениальный экселенц при первом же взгляде на отца выбрал верную манеру. С чьим-нибудь другим отцом Риснер мог бы повести себя легко и чуточку запанибрата. Но папу Риснер просчитал с порога. Он уважительно приподнял брови и сделал несколько неторопливых шагов, пока отец поднимался из кресла.
– Юрий Александрович? – с расстановкой, даже немного торжественно сказал Риснер (как будто все предшествующие годы он жил в нетерпеливом ожидании Юрия Александровича). – Очень рад познакомиться с вами. Риснер.
И протянул руку.
– Дорохов, – спокойно ответил отец и пожал протянутую руку.
Все это звучало привычно для отца – четко и веско. Как на совещаниях в министерстве. Как при встрече с начальниками цехов. Короткое и солидное «Риснер». И ответное доброжелательное и деловое «Дорохов».
Экселенц любезно осведомился: не хочет ли гость кофе?
Отец сказал, что сын только что поил его чаем.
Риснер церемонно показал ладонью на кресло.
Они присели друг напротив друга.
Экселенц чуть хмурился от важности момента.
Отец пристально смотрел на Риснера.
Риснер сплел пальцы на колене и сказал, что Михаил – перспективный и целеустремленный ученый. (Как будто знал, что это специально для отца слова: «перспективный» и «целеустремленный».) Дорохов какое-то время беспокоился, что отец заиграет в мужичка из провинции (мог папа, мог!), станет прятать неловкость за наигранной простотой. А Риснер в ответ будет суетливо расхваливать аспиранта. Нет, экселенц с отцом сразу друг друга просчитали и друг другу понравились.
– Работает хорошо, – сказал экселенц. – Задачу перед собой поставил. Сроки мы с ним наметили.
Отец удовлетворенно кивнул. Мудрый змий экселенц как будто знал, что отец хочет слышать именно эти слова – ясные и короткие. «Задача поставлена», «сроки намечены». Отец с Риснером проговорили больше часа. Дорохов вскоре ушел в комнату к Великодворской.
– Родительская инспекция? – сочувственно спросила Танька. – Да ладно, чего ты смущаешься? Обычное дело. Вы, кстати, с отцом здорово похожи. А кто он у тебя?
– Главный инженер шинного завода, – сказал Дорохов и, непонятно, зачем, добавил: – Кавалер ордена Трудового Красного Знамени.
– Серьезно? Да ты не волнуйся. Экселенц тебя расхвалит.
– Не мели ерунды, – сказал Дорохов. – Чего мне волноваться?
Когда Дорохов вернулся в комнату, отец с Риснером опять жали друг другу руки.
– Был очень рад познакомиться с вами, Юрий Александрович.
– И я рад. Рад, что сын в хороших руках.
Дорохов поморщился.
Старый князь Волконский дает сыну письмо для Кутузова.
Д’Артаньян-пэр вручает сыну письмо к де Тревилю.
Впрочем, отец и тут остался верен себе. Независимость и достоинство он всегда полагал главными качествами мужчины. Но и признавал определенные «правила игры».
«Хлеб за брюхом не ходит, – говорил отец. – Все под кем-то росли… Это не я придумал. Стелиться перед руководителем ни к чему, но лояльность – это другое дело. Не плюй в колодец – пригодится воды напиться».
– У тебя прекрасные перспективы, – сказал отец. – Московская аспирантура, энергичный научный руководитель. Сейчас очень важно не упустить время.
Опять двадцать пять. Сколько раз Дорохов слышал эту тягомотину? Раз пятьсот. Дорохов иногда даже мечтал услышать что-нибудь этакое, к примеру: «Сын, елки-палки! Трудиться на благо советской науки – дело почтенное. Но имей в виду главное: чем скорее ты защитишь докторскую, тем скорее получишь соответствующий оклад. Получишь лабораторию или отдел. Или даже институт. А это – независимость! Независимость от всяких партийных и общественных прохиндеев. Возможность в полной мере удовлетворять собственное любопытство за государственный счет. Это „Жигули“ седьмой модели. Это поездки на международные симпозиумы. Это хорошая квартира в Ясенево или Чертаново. Это нормальная жизнь. Не отдельно взятая квартира, нет! И не отдельно взятые симпозиумы! Но все вместе. Жизненный успех. А успех – он везде успех. Что в Стэнфорде, что в Калтехе, что на Марсе. Поэтому рви пуп, сын!» Но ни разу ничего подобного он не услышал.
Как-то папа объяснял Дорохову, что такое «ньютон». Дорохов учился в шестом классе, и физика у него шла туго.
«Слушай внимательно, – терпеливо говорил отец. – Один ньютон это сила, которая сообщает телу массой один килограмм ускорение один метр в секунду за секунду. Тебе понятно?»
Шестикласснику Дорохову не было понятно.
«Ну, – уныло бормотал шестиклассник. – Ну, а это… Сколько он весит? Сколько весит ньютон?»
«Слушай внимательнее, – невозмутимо говорил отец. – Ньютон это сила…»
И так далее. А надо-то было папе рявкнуть: «Чучело! Ньютон не может весить! Как не может весить секунда! Ньютон – еще одна единица измерения! Вот раньше в твоей пустой голове были секунды, метры, килограммы. А теперь вот тебе еще ньютон, чучело!»
Вот тогда бы Дорохов все понял.
Ребенком Дорохов не дружил с отцом. Тот всегда был на работе. Когда приходил – закрывался в кабинете и подолгу изучал непонятные бумаги. И когда летом выезжали на заводскую базу отдыха (за их семьей много лет был закреплен коттедж с хлипкой дверью, вибрирующим холодильником «Саратов» и черно-белым телевизором «Рекорд»), отец два-три раза в неделю возвращался в город. Его звали к телефону из административного корпуса, потом на песчанную дорожку, усыпанную сухими сосновыми иголками, медленно, шурша шинами, выезжала серая «Волга». Отец отбывал «наводить порядок» – как он с виноватой усмешкой говорил маме.
Дорохов дружил с мамой. Она выписывала журнал «Советский экран», читала стихи Ахмадулиной и Асадова, интересовалась дороховскими школьными любовями и с механической регулярностью выводила отца в театр. В театре отец скучал, но в походах в театр был некий семейный порядок. Культурные события были так же обязательны, как бритье или замена тормозных колодок у «Москвича». Папа повязывал югославский галстук, надевал синий финский костюм-тройку (на работу он ездил в сером, гэдээровском) и шел с мамой на «Валентина и Валентину» или «Утиную охоту».
В раннем детстве папа был родной, от него пахло «Шипром», они ходили в цирк. Папа покупал сливочный пломбир в картонном стаканчике, ничего вкуснее не было этого пломбира. Сверху была розочка из крема, мальчик расковыривал ее плоской деревянной палочкой и слизывал густое мороженое. Папа приходил за ним в детский сад. Мальчик, звонко хлопая подошвами сандаликов, выбегал из «группы», отец приседал на корточки, мальчик бросался к нему на шею. «Сынуля, – тихо говорил отец и осторожно гладил по макушке. – Мой ты золотой». Или в воскресенье папа сидел на диване, читал газету «За рубежом», в ванной шумела стиральная машина, работал пластмассовый репродуктор, передавали «Последние известия» или «Радионяню». Мальчик забирался по диванной спинке к папе на плечи и утыкался лицом в короткие, тронутые сединой волосы. Отец прихватывал за маленькую спину, мягко стаскивал на колени, дул в ухо и целовал в шею.
А потом эта нежность ушла, забылась, растаяла. Дорохов подрос. Отец проверял дневник, выговаривал. Отец не понимал, что нет никакой возможности идти в парикмахерскую, что в классе все пацаны стригутся так, чтобы уши закрыты были. Отец не понимал, зачем надо носить большой круглый значок (покупался большой пластиковый значок с какой-нибудь ерундой, стеклышко аккуратно вынималось, ерунда выбрасывалась, вставлялся вырезанный из «Кругозора» кружочек с Джоном Ленноном или Высоцким) – «Что это за образина бородатая? Зачем это тебе?».
В семидесятых они ездили на вишневом четыреста восьмом «Москвиче» в Боровое, на Иссык-Куль, в Байанаул. Отец делал удочки из ивы, учил плавать. В гараже в ожидании лета хранилась целая туристическая индустрия – польская палатка, надувные матрасы, резиновая лодка, раскладные столик и стулья, бензиновая плитка. Отец в поездках отлично все организовывал: брал лодки на лодочных станциях, легко получал места в кемпингах. Если случалась какая-то заминка, не пропускали машину в заповедник или вдруг не оказывалось мест в пансионате – отец неторопливо шел к телефону, находил начальство. Спокойно представлялся: Дорохов Юрий Александрович, Сибирский шинный завод, депутат Сибирского городского Совета. Сразу находились места, машину всюду пропускали, выделяли катер для экскурсии по озеру, маму катали на водных лыжах. По утрам Дорохов просыпался раньше всех, забирался к маме под одеяло, шептал: «Мы поводим сегодня с папой, ма!». Торопливо съедал манную кашу или картошку с тушенкой и нудел: «Ну пап! Ну ты уже побрился! Давай, поехали!»
Отец заводил припудренный пылью «Москвич», они уезжали на пустынную проселочную дорогу. Отец сажал Дорохова на жесткие колени, обтянутые индийскими джинсами «Милтонс», и они «водили». Колени скользили под дороховской попкой, когда отец выжимал сцепление или притормаживал. Отец включал вторую передачу и легонько подгазовывал. А Дорохов, сопя от удовольствия, цепко держался за гладкий, с пупырышками, руль.
А потом начался сложный возраст, когда родители раздражают, когда они враги и тюремщики. Отец хмурился из-за тройки по физике, из-за того, что Дорохов не хотел идти в парикмахерскую, не желал носить школьную форму – дурацкую темно-синюю курточку с белым пластиковым шеврончиком на правом рукаве и алюминиевыми пуговицами, плохо скроенные брюки.
«Все в ателье шьют. Лута с Рыбой в джинсах ходят. Луте отец штатовские купил, „Супер Райфл“. Ты мне всю дорогу „Рилу“ покупаешь, а она не трется. Ну привези мне нормальные из Москвы. Шестьдесят рублей стоят, итальянские, „Риорда“».
Когда Дорохову было пятнадцать, он снял флаг. Впоследствии это событие упоминалось родителями, как катастрофа. От этого события велся временной отчет в обе стороны. «Мы ездили в Пицунду за год до того, как Мишка снял флаг». «Да ну глупости же, Юра! Ты все забыл. Леночка развелась с ним в семьдесят восьмом, через год после того, как Миша снял флаг».
Накануне Первомая Дорохов прогуливался вечером с Валеркой Ковбоем. Его родители в семьдесят седьмом переехали в Москву. Отца Валеркиного перевели из НИИ аэрофотосъемки в институт «Гидропроект». Проезжая на троллейбусе от «Динамо» к «Соколу», Дорохов, завидев высотку «Гидропроекта», иногда вспоминал Валеру. Ковбой в семьдесят девятом поступил на физфак МГУ, а потом распределился в Курчатовский институт на Октябрьском поле. Но в Москве Дорохов со старым дружком так ни разу и не встретился.
Так вот, они с Ковбоем гуляли вечером возле телецентра. Черт их попутал снять один из красных флажков, что натыкивают в гнезда на фонарных столбах в преддверие народных праздников. Ковбой подсадил Дорохова, тот вынул из гнезда узкий флажок, кое-как приколоченный обойными гвоздиками к круглому, свежеошкуренному древку. Они решили, что завтра пойдут на демонстрацию с собственным флагом. Из вахты телецентра выглянул милиционер и дружелюбно сказал: «Э! Ребята! А ну – подойдите-ка на минутку».
Они подошли. Сержант завел их в проходную, быстро запер дверь и вызвал по телефону «пэ-эм-гэ». Навсегда Дорохов запомнил, что такое ПМГ – «передвижная милицейская группа». И тут началось такое, что здорово напугало пятнадцатилетнего Дорохова. Составили протокол, позвонили Валеркиной маме, она пришла, выслушала лейтенанта, кусая побелевшие губы, и расписалась в протоколе. На следующий день в школе устроили судилище. Три комсомольских собрания провели. А после третьего Дорохову стало страшно по-настоящему. Во-первых, он понял, что игры закончились. Екатерина Константиновна, учительница литературы, открыла книжечку с надписью «Конституция СССР» и со слезой прочла статью про советский флаг. Дорохов не просто снял со столба флажок. Он посягнул на главную советскую святыню. Петр Федорович, географ, однорукий фронтовик, очень любивший отнюдь не по-отечески хлопнуть по тугому заду иную девятиклассницу, угрюмо сказал, что он под Сталинградом с этим знаменем ходил в атаки (Дорохов представил, как Петя-Федя бежит под пулями, сжимая в кулаке маленький нейлоновый флажок со свежеоструганным древком), а теперь всякие паскудыши позорят память героических отцов. А вот Серега Пашкин, комсорг, сказал дело. Они курили с Серегой в туалете, на перемене, и Серега сказал: «Слышь, Миха, если из комсомола исключат – кранты. В институт не поступишь». «Во-вторых» было куда гаже. Через много лет после того, как Дорохов снял флаг, Гаривас принес к Сеньке стенограмму приснопамятной сессии ВАСХНИЛ сорок восьмого года. Зрелые люди, с седыми бородками, в очках, с научным «томов многопудьем» за плечами, находясь в здравом уме и твердой памяти, произносили мертвящий бред. Тёма, Генка, Гаривас, Сеня – они ту вакханалию поняли вполне адекватно, омерзительно им было читать эту жуть. Но не дети были, все знали, не первую такую книгу приносил им Гаривас. Так что они даже и веселились. Даже коллекционировали словечки из того палаческого абсурда.
«Это, Тёма, извиняюсь, вейсманизм-морганизм какой-то», «Вы чо на меня навалились-то, блин, как белочонкинские банды?», «Слышь, Никон! И прямо протокол составили, да? Но зуб-то мужику выбил? Выбил, колись? О! Выбил. Так что органы, брат, никого просто так не арестовывают».
А Дорохов не веселился ничуть. Он массовое безумие видел собственными глазами, когда ему было пятнадцать лет, и никаких веселых воспоминаний у него от этого не осталось. Одно только омерзение и страх. Сопляком был, а понял, как легко превратить людей в стадо. Раз плюнуть.
С Волосатовым он ходил в детский сад, и с Кешенковым, и с Мухаметшиным. С Олежкой Путинцевым три года занимался плаванием, вместе «второй взрослый» получали. С Аркашей Самсоновым вместе собирали концерты «Deep Purple», ходили на толкучку, таясь от дружинников, меняли «Take the heat off me» и Сюзи Куатро на «Made in Japan». Класс был дружный, жили в двух соседствующих дворах, почти все ходили в один детский сад. К тому времени, как Дорохов снял флаг, уже собирались на «вечера», танцевали, обжимались. Пары создавались-распадались, всякие там записочки, выяснения отношений. На Восьмое Марта отряжали выборных за гвоздиками для девчонок. С седьмого класса между собой не «стыкались». Если кто входил в пики, то Пашкин с Лутой мигом растаскивали: «Хорош! На своих не залупаться!». В начале восьмого класса Шкаровский и Козин из девятого «А» отметелили возле столовой Леху Беркасова. Леха возбухнул, Шкару не пропустил без очереди. Козин сделал ему «смазь», а Шкара подсек (самбист был, умел), разбили нос Лехе, и очки разбили. И портфель еще его потом пинали по всему коридору. Леха опоздал на географию, зашел – сопатка в крови, руки трясутся. Пашкин встал, хлопнув крышкой парты: «Кто?..» Все поднялись без разговоров, даже тихий Купреев, даже Пайков. После географии отправили парламентера: в три за гаражами, стыкнемся, чо вообще себе позволяете? Девятый «А» удивился: нюх потеряли, мелкие? Но пришли, восемь на восемь, как предложено. Махаловка была душевная. Боре Удовенко порвали ухо, Путинцеву вмяли внутрь верхние зубы, их потом выправляли, полгода ходил со скобками. Дорохову Шкаровский так навесил по яйцам, что чуть не вырвало от чудовищной боли. Но и старшим перепало, ей-богу, перепало. Шура Раков отгрузил Козину в торец, тот на спину просто повалился. Пашкин с Рыбой уделали Зудельмана, нос сломали. Дорохов, когда очухался, выскочил против Барановского, провел хороший правый прямой в голову. Аж плечо загудело. Барановский поплыл, Дорохов шагнул влево, примерился и завалил Барановского, натурально завалил. Полгода, наверное, потом вспоминали пацаны: «А как Миха тогда Барановского на жопу посадил…». Потом мирились, братались и жили со старшими душа в душу до самого их выпуска. Короче, дружный был класс.
А на третий день собраний и проклятий Дорохов увидел, как глаза у пацанов словно подергиваются поволокой. И Пашкин, и Слащев, и Игорек Рыбин под требующим взглядом завуча завороженно бормотали: «Поступок, это… Порочащий… Звание, ну… комсомольца…» Дорохов стоял у доски, как у расстрельной стены, и изумленно глядел в пустые глаза пацанов. Подняли Пайкова, он сказал: «Исключить из комсомола».
Отец узнал только на пятый день. Он грохнул кулаком по столу, рыкнул: «Ты что, ребенок маленький, что ли? А Валера чем думал? Вы порознь-то хороши, а вместе…».
Отец приехал в школу. Перед этим он переговорил по телефону со своим директором Колоколовым, членом бюро обкома.
«Гаси это в самом зародыше, – сказал Колоколов (Дорохов подслушивал по параллельному телефону). – А то они там все будут сейчас… святее папы. Испакостят мальчишке будущее».
«Подросток совершил необдуманный поступок, – тяжело сказал отец в учительской. – Но преподавательский коллектив, кажется, хочет представить случившееся как идеологическую диверсию?»
Потом отец выдержал паузу и внимательно оглядел завуча, директрису и биологичку-парторга. Те смешались. Отец был сед и величав. На лацкане пиджака поблескивал депутатский значок.
«Вы хотите опорочить мое доброе имя коммуниста? – с легко обозначенной угрозой спросил отец. – Я в партии с сорок шестого года. Что за судилище вы тут устроили?»
Судилище прекратилось на следующий же день. Колоколов организовал звонок из обкома: «Не стоит устраивать из подростковой шкоды политический демарш». Дорохов отделался выговором в учетной карточке (сняли через полгода). Отец сказал, вернувшись из школы: «Уже не маленький, осторожнее пора быть. Можешь всю жизнь себе поломать подобной глупостью. Думай, когда что-то делаешь».
Вот тогда Дорохову хотелось обнять отца. Пятнадцать лет ему было всего, но он тогда понял: мудрый папа взял его, сопляка, за шкирку и вытащил из крупных неприятностей.
А сейчас отец опять завел тягомотину. И чтобы поменять тему, Дорохов спросил:
– Пап, а чего ты не остался в Ленинграде?
– Когда не остался? – недоуменно спросил отец. – Зачем мне там оставаться? Я там и без того проторчал неделю. Там, понимаешь, в «ка-бэ-три» правая рука не знает, что левая делает. Погоди, ты про что?
Отцу, наверное, показалось, что Дорохов говорит о ноябрьской командировке.
– Я вообще, – сказал Дорохов. – Глобально, так сказать. Вот, пап, скажи – почему ты там не остался после аспирантуры?
– Господи, воля твоя, – отец досадливо поморщился. – Чего это ты вдруг об этом заговорил? Да у меня тогда другие планы были. Я и не думал там оставаться.
– Какие планы, пап?
– Была возможность устроиться в отраслевой институт во Львове. Там хорошие возможности роста намечались, докторская. Ты думаешь, что я так тебя терзаю насчет докторской? – отец усмехнулся и провел рукой по седому ежику. – Свою-то докторскую я так и не написал.
– Зачем она тебе? Ты и так…
– Э, не скажи! – отец покачал головой. – Я, если хочешь знать, своего потолка достиг. А если бы я был доктором наук, то это уже другой уровень. Ну конечно, мне не раз предлагали. Сам знаешь, как у нас некоторые замминистра становятся докторами наук. Но это же липа. Это не для меня, – отец коротко повел подбородком. – А для полноценной докторской у меня ни сил, ни времени нет. И не будет.
– А я бы остался в Ленинграде, – сказал Дорохов. – Из кожи бы вон вылез, а остался.
– Пустой разговор, – отец опять поморщился. – Ты же не представляешь, что это было за время. Господи, да голодуха же была! Я тогда думал не о том, чтобы в столичном городе зацепиться. Мне были нужны перспективы. В Оренбурге намечалось хорошее место, начальником цеха. Давали комнату. Приехал туда, вижу – с жильем плохо, одни обещания. А я уже на маму виды имел, – отец улыбнулся и подмигнул. – Человек я ответственный, для семьи нужно жилье. И тут, представляешь, счастливый случай! На коллегии министерства обсуждался кадровый вопрос Сибирского завода. И мой научный руководитель, Николай Кузьмич Петраков. Член-корреспондент, лауреат Сталинской премии – не шутка!.. Он меня рекомендовал на должность начальника технического отдела. У меня был производственный опыт, кандидатская степень. В те времена кандидатская степень очень много значила, особенно для производственника.
Отец отломил корочку, намазал паштетом.
– Приехал в Сибирск. С поезда сразу на завод, представился руководству. Получил через полгода отдельную квартиру. Знал бы ты, что такое в те времена была отдельная квартира для молодого специалиста! Начальники цехов в коммуналках жили…
Отец цыкнул языком, сказал «эх!» и махнул рукой.
– Через полгода мама закончила институт. Мы подали заявление, маму в Сибирск распределили. А ты говоришь – Ленинград. Ну что мне тогда Ленинград? У меня кандидатская – передовой в то время станок!
Отец широко улыбнулся. Словно то время приблизилось к нему. Словно он вновь увидел двадцатипятилетних главных инженеров и тридцатилетних директоров. Увидел цеха, за считанные месяцы выросшие в чистом поле. Увидел молоденьких итээровцев, которые приехали в Сибирск из столичных вузов. Увидел, как мама стоит на пероне с фибровым чемоданом в руке, в суконных ботиках.
Отец оттянул вниз узел галстука и расстегнул верхнюю пуговицу на сорочке.
– Какой там Ленинград, к чертовой матери, – пренебрежительно сказал он. – Тогда, если хочешь знать, молодые специалисты… Ну, те, кто самостоятельнее, кто о будущем своем думал. Так вот тогда молодые специалисты не столичные города на себя примеривали, а строящиеся комбинаты и градообразующие предприятия! Потому что там были перспективы. Страна после войны на ноги вставала, Мишка! Голодное время было, трудное. Тогда такие биографии делались, такие большие дела делались! А, ладно. Что-то я в патетику ударился. Ты в Москве остался – приветствую. И с комнатой удачно получилось… Со временем у тебя будет и квартира, и все будет. Главное – не упусти возможность научного роста! С шефом тебе повезло, серьезный человек. И под себя не гребет. А это, Мишка, нечасто бывает. Я поначалу хотел, чтобы ты остался в МИТХТ. Хотел, скрывать не буду. Но тут Татьяна позвонила, говорит: я его устрою. Честно сказать, я тогда сомневался. Протекции протекциями, но надо смотреть вперед. Чтобы кроме благожелательного руководителя была еще стоящая научная тема. А теперь я рад, что так получилось. В высшей степени удачно.
– Я бы на твоем месте пуп порвал, но остался бы в Ленинграде, – упрямо сказал Дорохов.
– Мальчишка ты еще, – снисходительно сказал отец. – Помнишь поговорку: «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме»?
– Надо в Риме в первые пробиваться, – пробормотал Дорохов сквозь зубы. – И черт с ней, с деревней.
– Послушать тебя, так вне Москвы жизни нет, – недовольно сказал отец, вытер лоб салфеткой, скомкал ее и бросил на стол. – Это тоже, между прочим, как это сейчас модно говорить, комплекс. Комплекс провинциала.
– «Провинция – категория несвободы», – сказал Дорохов. – Пап, я же не московские магазины имею в виду. Ты же понимаешь.
– Не умничай. Ты не первый раз так говоришь, мне это не нравится. Да, ты любишь Москву, это я понимаю. Сам люблю, знаешь, прогуляться по Волхонке, по Горького… Помню, восход с мамой встречали на Ленинских горах. У тебя увлечения, друзья. Ты рос начитанным парнем, компания у тебя хорошая. Стоящие ребята, я рад, что ты с ними дружишь. Однако есть еще кроме Москвы большая страна! И страну эту построили неглупые люди! Промышленность создали, науку создали. Москва это хорошо. Но и ты будь сам по себе! Один статус москвича тебе жизненного успеха не обеспечит. Напиши докторскую, заработай на кооператив, семью создай.








