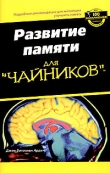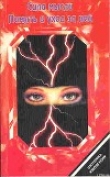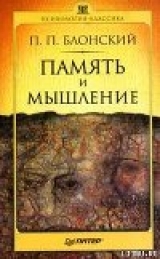
Текст книги "Память и мышление"
Автор книги: Павел Блонский
Жанры:
Психология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц)
«В учении о духе и в систематизации интеллекта положение и значение памяти и понимание ее органической связи с мышлением составляют один из самых трудных пунктов, до сих пор мало обращавших на себя внимания», – замечает очень правильно Гегель. Действительно, как мы видели, до него занимались скорее противопоставлениями памяти и мышления, опыта и рациональной науки, чем установлением органической связи между ними. Память в качестве способности, присущей и животным, резко противостояла такому исключительно человеческому достижению, как наука.
Именно потому, что Гегель прежние силы и способности стал рассматривать в данном случае как ступени саморазвития одного и того же духа, он, в противоположность своим предшественникам, обратил очень большое внимание на понимание органической связи памяти с мышлением и сделал этот вопрос одним из основных вопросов психологии. Но для понимания этой связи оказалось необходимым произвести более тщательный, чем это делалось раньше, анализ того, что обычно понимается под памятью. Так, понимаемая память у Гегеля распалась на «воспоминание», «воображение» и «память», причем все это рассматривалось как последовательные ступени развития. В высшей степени характерно для Гегеля, что под «памятью» он понимает только то, что мы сейчас называем вербальной памятью, и притом понимает ее не только как воспроизводящую память, но именно в самую первую очередь как творческую, продуктивную память. «Высшим созданием продуктивной памяти является язык». В этом смысле на этой стадии язык не орудие, а продукт памяти.
Но нет мышления без слов: «Поэтому желание мыслить без слов, как это пытался однажды сделать Месмер, есть неразумное предприятие, едва не приведшее Месмера к безумию, по его собственным словам». По Гегелю, мышление может возникнуть лишь из наполненного своими продуктами интеллекта, т. е. из памяти, продуктами которой являются слова, необходимые для наших мыслей. Уже в слове Gedachtnis (память) выражаются непосредственное родство и связь между памятью и мышлением (Denken). Если материалист Гоббс только намечал, что речь, слова составляют как бы звено от памяти к науке, но не видел в этом органической связи и движения, то диалектик Гегель, установивший огромную роль памяти для языка и понявший, что нет мышления без слов, смог понять и то, что между памятью и мышлением существует органическая связь, и то, что есть движение, переход от памяти к мышлению, так как относятся они друг к другу, как две смежные ступени развития одного и того же процесса – процесса познания[ 20 ]20
См.: Гегель. Введение в философию. Пер. С. Васильева. М., 1927, §129-163; «Энциклопедия философских наук», § 440-464.
[Закрыть].
3. Проблема памяти в современной психологии.
Пожалуй, нигде влияние Гегеля не было таким слабым, как в психологии. И до сих пор психология игнорирует те интересные мысли, которые, будучи засыпаны идеалистической шелухой, хранятся в психологии Гегеля. И до сих пор психология конструируется обыкновенно как эмпирическая психология, находящаяся, сознательно или бессознательно, под влиянием эмпирической философии. Поскольку эмпирическая психология в борьбе против метафизической спиритуалистической психологии пускала в ход оружие, взятое у английских (отчасти и французских) материалистов, в нее проникал в известной мере материализм, но материализм механистический. Настроенным отчасти материалистически, но в духе механистического материализма представителям эмпирической психологии гегелевская психология, сконструированная в духе диалектического идеализма, конечно, импонировать никак не могла. Зато очень импонировал своим детерминизмом и возможностью материалистических интерпретаций ассоциационизм. Развившийся в среде английских эмпириков второй половины XVIII в. (Гартли, Пристли, Юм), ассоциационизм становится в XIX в. господствующим течением в психологии. Джемс Милль, Бэн и Джемс – наиболее видные представители его.
По Бэну[ 21 ]21
Бэн, Александер (1818-1903) – английский философ и психолог, один из главных представителей ассоциативнойпсихоло-гии; вся психическая жизнь, согласно ассоциативной психологии, основывается на соединении элементарных психических процессов во все более и более сложные психические образования.
[Закрыть], «основные действия ума суть: 1) сознание различия, 2) сознание сходства и 3) удержание в уме, или память. Всякое собственно умственное отправление содержит в себе одно или несколько из этих действий и ничего больше». Различение – проявление общего закона относительности. Процесс отождествления, основанный на сходстве, называется также законом ассоциации (или воспроизведения) по сходству и служит очень важным средством восстановления или воспроизведения в уме. Наконец, умственная способность запечатления или удержания в уме, называемая памятью, имеет две степени: а) она означает, во-первых, устойчивость или сохранение психического возбуждения после исчезновения вызвавшей его причины; б) собственная, высшая стадия памяти состоит в воспроизведении, в форме идеи, прошлых, теперь уже исчезнувших впечатлений посредством одних лишь умственных факторов. В этом и состоит настоящая память – способность, известная нам только в связи с животной организацией – мозгом и нервной системой. «Удерживающая способность духа (память) называется также ассоциацией по смежности». По Бэну, «явления удержания, за исключением немногих, сводятся к проявлению одного принципа, называемого законом смежности, или «ассоциацией по смежности»... Принцип смежности можно формулировать так: действия, ощущения и чувства, возникающие одновременно или в непосредственной преемственности, стремятся соединиться или связаться так, что, как только одно из них впоследствии появится в уме, и остальные бывают готовы восстановиться в виде идей». Приблизительно в том же духе определяет память и Джемс, оказавший исключительно сильное влияние на современную американскую психологию: «Память есть ассоциирование какого-либо наличного в настоящее время в уме образа с другими, которые известны нам, как относящиеся к прошлому»[ 22 ]22
А. Бэн. Психология. Пер. Белкина. Т. I. M., 1902, с. 241-245.
[Закрыть]. Изучение памяти сводится, таким образом, к изучению законов ассоциаций.
Уже почти с самого начала (Гартли, Пристли) ассоциативный процесс понимался рядом авторов материалистически как соответствующий нервный процесс. По мере развития взгляда на нервную систему как на систему связей почти сама собой напрашивалась параллель между ассоциациями и неявными связями. Знаменитый невролог Мейнерт эту чрезвычайно популярную концепцию так формулировал еще в 1865 г., говоря об «анатомии полушарий мозга как носителей жизни представлений»: «Если одна клетка возбуждается посредством репродукции, то это возбуждение распространяется по соединяющим волокнам на выведенную однажды вместе с ней из состояния равновесия клетку, представление которой также но этому волокну снова переносится к порогу сознания»[ 23 ]23
W.James. The Principles of Psychology. V. 1. London, 1901, p. 598. К Leidesdorf. Lchrbuch der psychischen Krankheiten. Erlangen, 1865, S. 53.
[Закрыть]. Зависимость репродуцируемых представлений друг от друга он представляет осуществляемой посредством нервных волокон. Такое представление стало общераспространенным. Оно давало как бы наглядный ответ на вопрос, каким образом возобновляется запечатленное когда-то.
Во второй половине XIX в. эмпирическая психология становится экспериментальной психологией, и наряду с проблемой восприятия проблема памяти становится той проблемой, над которой усиленно работает экспериментальная психология. Эпоху создает здесь вышедшее в 1885 г. экспериментальное исследование Эббингауза «О памяти»[ 24 ]24
Эббингауз, Геккон (1850-1909) – немецкий психолог, экспериментальным путем изучавший высшие психические процессы. Особенно известен исследованием закономерностей памяти.
[Закрыть]. Эббингауз исходит из ассоциационизма. В основу своего учения о памяти он кладет «всеобщий закон ассоциации», который формулирует так: «Если какие-либо любые психические образования однажды наполнили сознание одновременно или в близкой последовательности, то затем возвращение некоторых членов прежнего переживания вызывает и представления об остальных членах, причем нет нужды в том, чтобы были налицо первоначальные причины». «Общую способность души к этому называют памятью... Репродукция и память относятся между собой примерно так, как работа и энергия». С этой точки зрения ставится экспериментальное изучение памяти. Оно ставится как изучение ассоциаций. Так, например, ставятся такие проблемы: «1) возникновение ассоциаций через одновременное нахождение их членов в душе и повторение их (испытывание и выучивание – Erfahren und Lernen), 2) судьба ассоциаций... их пребывание и исчезновение (удержание и забывание), 3) процесс репродукции»[ 25 ]25
Я. Ebbinghaus. Grundziige der Psychologic. В. I, § 60, 1905.
[Закрыть]. В соответствии с этим общим принципиальным взглядом на память были выработаны и многочисленные технические приемы экспериментального изучения проблемы памяти. Многочисленнейшие исследования памяти, наполняющие психологические журналы различных стран, и до сегодняшнего дня обыкновенно ведутся в этом же духе даже теми, которые в других своих работах заявляют себя критикующими ассоциационизм.
Ассоциативная экспериментальная психология с самого начала с особенной энергией занялась изучением проблемы выучивания и забывания. Проблема репродукции выступила на передний план несколько позже, причем, если можно так выразиться, совершенно затмила проблему воспоминания. Уже Эббингауз настаивал на изучении именно репродукции, каковой термин «обозначает в самом общем виде процесс возвращения представлений раньше бывших налицо переживаний», и противопоставлял репродукцию воспоминанию, «когда ранее бывшие налицо и сейчас возвращающиеся в качестве представлений содержания сопровождаются в то же время также сознанием их раньше бывшего переживания и, может быть, еще представлениями определенных побочных обстоятельств»[ 26 ]26
Я. Ebbinghaus. Grundziige der Psychologic. B. I, § 60, 1905, S. 634.
[Закрыть]. Столь обобщенная и, пожалуй, упрощенная проблема подверглась энергичному изучению главным образом посредством так называемого «ассоциативного эксперимента». Интересна судьба трех вышеназванных проблем Эббингауза. В то время как работа над проблемами выучивания, удержания и забывания, несмотря на то что чуть ли не с самого начала многие исследователи их работали с явно выраженной практической установкой на педагогику (например, Мейман[ 27 ]27
Мейман, Эрнст (1862-1915) – немецкий психолог и педагог, отстаивавший необходимость основывать педагогический процесс на данных научной психологии.
[Закрыть]), в общем оказались малопрактичными, ассоциативный эксперимент со времен Юнга[ 28 ]28
Юнг, Карл (1875-1965) – швейцарский психолог и психиатр. Разработал методику ассоциативного эксперимента, получившего широкое распространение при изучении эмоциональных состояний.
[Закрыть] нашел широкое практическое применение в психопатологии (психоанализ) и действительно дал немало материала по памяти психопатов.
Экстраординарное обыкновенно привлекает к себе внимание. Нет поэтому ничего удивительного в том, что патологические явления памяти не раз заинтересовывали исследователей, но собранный соответствующий материал представляет собой скорее груду фактов простых эмпирических наблюдений, еще не объясненных мало-мальски удовлетворительной теорией. Как и во время обобщающего труда Рибо[ 29 ]29
Рибо, Теодуль Арман (1839-1916) – французский психолог и философ, труды которого охватывали чрезвычайно широкий диапазон психологических проблем – память, чувства, воля и др.
[Закрыть] «Болезни памяти» (1881), мы и сейчас далеки от понимания патологических явлений памяти. Тем понятней увлечение ассоциативным экспериментом, когда оказалось, что он пробил некоторую брешь в столь загадочной проблеме памяти, в частности репродукции, у психопатов. Однако эта брешь с тех нор все же не расширяется, и надежды на ассоциативный эксперимент поблекли.
Ассоциационистское понимание памяти как связи – чрезвычайно широкое понимание, толкающее на очень большие обобщения, и уже у Бэна (и его предшественников) мы видим, как говорится, без особого различения, вместе положения об ассоциациях представлений, чувств и движений. Память как ассоциация представлении и привычка как ассоциация движений относятся, таким образом, к одной и той же проблеме – проблеме ассоциаций. А постановка экспериментального изучения памяти как выучивания, сохранения и забывания толкала на то, чтобы распространить это изучение со слов на движения, тем более что обычно в экспериментальной практике «слова» были всего-навсего лишь бессмысленными слогами (для того чтобы уравнять положение испытуемых, элиминировав смысл слов), т. е. по существу изучаемая память была памятью на речевые движения, а не на мысли и представления.
Это отождествление памяти и привычки менее всего затрудняло представителей американской «психологии поведения». Два обстоятельства особенно сильно облегчали им это. «Мышление, собственно говоря, есть речевой процесс», и речь и мышление трактуются как «открытые и скрытые речевые навыки»; по мнению крупнейшего представителя психологии поведения Уотсона[ 30 ]30
Уотсон, Джон Бродес (1878-1958) – американский психолог, основоположник бихевиоризма.
[Закрыть], «мышление в узком значении этого слова, если включить в него обучение, есть процесс, протекающий по методу проб и ошибок, – вполне аналогично ручной деятельности». С другой стороны, бихевиоризм скептически относится к существованию образных представлений так, как они обычно понимаются в психологии. Все это облегчает возможность крайне широкого понимания памяти: «В нашем понимании память – это общий термин для выражения того факта, что после некоторого периода неупражнения в известных навыках функция не исчезает, а сохраняется как часть организации индивида, хотя она может вследствие неупражнения претерпевать большие или меньшие нарушения»[ 31 ]31
Д. Б. Уотсон. Психология как наука о поведении. М.-Л., 1926, с. 277.
[Закрыть].
Вполне последовательно было поэтому развить экспериментальное изучение выучивания, сохранения и забывания движений, а так как результаты одинаково поставленных проблем не могли в основном не совпадать, то это еще более укрепляло во мнении, что память и привычки, в сущности, одно и то же, и, например, Пьерон в коллективном «Трактате психологии», представляющем собой как бы сводку воззрений современных виднейших французских психологов, трактует в одной и той же главе «привычку и память». В американской психологии соответствующие проблемы объединяются в одну общую проблему «выучивания» (Learning), и, например, в коллективном труде современных виднейших американских психологов «Основы экспериментальной психологии» фигурирует очень большой отдел «Learning» там, где раньше в изданиях подобного рода занимал бы место отдел «Память». Симптоматичен с этой точки зрения и тот факт, что в обзорном американском журнале «Психологический бюллетень» еще в 1930 г. фигурирует обзор «Память», а уже в 1934 г. в том же журнале тот же автор озаглавливает очередное продолжение этого отдела как «Выучивание и удерживание вербальных материалов». Такое широкое понимание памяти дало возможность сблизить ее с условными рефлексами, и еще Леб ставил знак равенства между «ассоциативной памятью» и условными рефлексами в учении Павлова. Возможность сведения памяти к условным рефлексам казалась и легкой (посредством элементарного рассуждения: память то же, что привычка, но привычка то же, что условные рефлексы), и соблазнительной, так как рассчитывали таким образом получить простое физиологическое объяснение памяти.
Но даже такое расширенное понимание памяти не могло остановить исследователей в их все возрастающих обобщениях. Еще в 1870 г. Геринг[ 32 ]32
Геринг, Эвальд (1834-1918) – немецкий физиолог. В 1870 г. на сессии Академии наук в Вене выступил с докладом «Память как всеобщая функция организованной материи», получившим широкую известность и положившим начало важному направлению исследований в области памяти. Наиболее яркое разви тие идеи Геринга получили в книге «Память» (Лейпциг, 1920) немецкого биолога Рихарда Земона. Жане, Пьер (1859-1947) – французский психолог, психиатр, невропатолог, выявивший ряд важных закономерностей развития психики в норме и патологии. Особое внимание уделял разработке проблем специфически человеческой памяти. Подробное изложение истории развития взглядов на проблемы памяти дано Блонским в книге «Память и мышление».
[Закрыть] выступил со статьей «О памяти как всеобщей функции организованной материи». Впоследствии этот взгляд развил Земон в ряде работ, особенно в книге «Die Mneme als erhalten des Prinzip im Wechsel des organischen Geschehens». Сущность мнемических явлений он видит в том, что «они, рассматриваемые как репродукция прежних явлений, наступают без полного возвращения условий, которые были необходимы для вызывания этих прежних явлений, их предшественников». Земон устанавливает два главных мнемических закона. Первый – закон энграфии:« Все одновременные возбуждения внутри организма образуют связный совместный комплекс возбуждения, который в качестве такового действует энграфически, т. е. оставляет связный и постольку образующий единое целое комплекс энграмм[ 33 ]33
Энграмма – остаточная возбудимость нервной системы, след памяти.
[Закрыть]». Второй – закон экфории: «Экфорически действует на совместный комплекс энграмм частичный возврат той энергетической ситуации, которая раньше действовала энграфически». «Ассоциация, кратко выражаясь, есть результат энграфии, проявляющийся в случае экфории[ 34 ]34
Экфория – репродукция, воспроизведение, реактивация энграммы.
[Закрыть]»[ 35 ]35
R. Semon. Die mnemischen Empfindungen. Leipzig, 1909, S. 370-372.
[Закрыть]. С точки зрения столь широкого понимания наряду с индивидуально приобретаемой мнемой, «которую мы также могли бы назвать областью высшей памяти», в «мнеме» заключаются мнемические протекания развития зародыша, регенерации, регуляции, периодических процессов, инстинкта. Все эти явления также мнемические.
Казалось, уже почти достигнуты самые широкие обобщения, и оставалось лишь сделать самый последний шаг – найти мнемические явления и в мире неорганическом (например, гистерезис[ 36 ]36
Гистерезис – длительное действие существовавших прежде условий; известен магнитный гистерезис – явление остаточного магнетизма, т. е. отставание изменения магнитного состояния металла от изменения магнитного поля, вызвавшего это состояние.
[Закрыть]). Но... в 1928 г. выходит книга крупнейшего французского психолога и психопатолога П. Жане" «Эволюция памяти и понятия времени». В этой книге в самом резком противоречии со всем вышеописанным течением психологии Жане заявляет: «Память предстала пред нами как особое действие, специальное действие (action), изобретенное людьми в их прогрессе, и в частности действие, совершенно отличное от простого, автоматического повторения, составляющего сущность привычек и тенденций». Основываясь главным образом на психопатологических фактах, он проводит резкую разницу между «реминисценцией», состоящей в возвращении к исходному (restitutio ad integrum), и «воспоминанием», и только последнее считает памятью. Животные «имеют привычку, которая вполне достаточна и которая не есть память». «Память есть социальная реакция при условии отсутствия. Действительно, память – человеческое изобретение». «Память – человеческая, она существует только у людей, и даже не у всех... У ребенка имеется память только начиная с трех или четырех лет... Так же, как есть эпоха в начале жизни, когда нет памяти, будут, и это печально, эпохи в конце жизни, когда у нас больше не будет памяти... Есть тьма болезней, во время которых теряют память»[ 37 ]37
P.Janet. L'Evolution de la memoire et de la notion du temps. Paris, 1928, p. 205,219,221,223,224,225.
[Закрыть].
И вот в конце нашего обзора истории проблемы памяти мы стоим перед прямо противоположными утверждениями: с одной стороны, память – «всеобщая функция организованной материи», с другой стороны, «память – человеческая, она существует только у людей, и даже не у всех». Что означает это противоречие? Как преодолеть его?
На почве эмпирической психологии это неразрешимо. Представители ее либо сводили все виды памяти, игнорируя своеобразие их, к чему-либо одному (так поступали ассоциационисты), либо, игнорируя связь их, ограничивались лишь противопоставлением. Иначе и быть не могло в недиалектической психологии. Но и диалектический идеализм Гегеля не случайно не удовлетворил психологию: поставив нужный вопрос о связи и взаимных переходах между памятью и мышлением, он не решил его, подменив изучение реального процесса, протекающего в реальных исторических условиях, идеалистическими конструкциями саморазвития духа. Решение вопроса дает только диалектический материализм, и только ленинская теория отражения ставит эту проблему с головы на ноги.
Основные предположения генетической теории памяти
1. Основные виды памяти.
Разногласия между исследователями памяти можно, конечно, объяснить субъективными причинами. Теории различных исследователей с различной степенью совершенства, соответственно квалификации исследователей, отражают одно и то же явление – память. Но разногласия настолько велики и в то же время настолько велика квалификация многих из этих исследователей, что, пожалуй, закрадывается подозрение, в субъективных ли несовершенствах исследователей только причина их разногласий.
Наш обзор истории проблемы памяти показывает, что с самого начала научной разработки этой проблемы память рассматривается в теснейшей связи с воображением, а объектом памяти считаются образы. Так рассматривала память античная психология. Такого же взгляда на нее, полностью или частично, придерживается ряд представителей новой психологии. Условимся называть память, имеющую дело с образами, образной памятью. Тогда мы можем сказать, что многие исследователи изучали, исключительно или преимущественно, образную память, и именно с изучения этой памяти началась история проблемы памяти. Но совершенно ясно, что те, которые изучают выучивание движениям, изучают совершенно другой вид памяти. Если первые исследователи сближали память с воображением, то эти сближают память с привычкой. Условимся эту память называть, как это нередко делают, моторной памятью (la memoire motrice).
Техника экспериментального изучения так называемой механической памяти обычно состоит в предъявлении тем или иным способом бессмысленного вербального материала, который испытуемым известное количество раз вербально повторяется. Правда, не всегда, не во всех случаях давался вербальный материал, и не всегда испытуемый вербально повторял. Но огромное большинство исследований производилось именно так, и именно на них были получены все основные положения экспериментальной психологии памяти. Ясно, что такие исследования были, собственно говоря, исследованиями выучивания определенных речевых движений, поскольку влияние смысла тщательнейшим образом элиминировалось. Понятно поэтому, что эти исследования принципиально мало чем отличались от исследований, например, выучивания ручным движениям. Речь идет все о той же моторной памяти, памяти-привычке.
Но именно эту память устраняет из своего исследования Жане, и не ее он считает памятью в подлинном смысле этого слова. Наоборот, то, что Жане понимает под памятью, во многих отношениях прямая противоположность привычке. Если пользоваться общепринятыми терминами, то память у Жане больше, чем на что-либо иное, похожа на то, что обыкновенно называют логической памятью, и является как бы своеобразной разновидностью ее.
Таким образом, когда различные исследователи изучали память, то одни изучали главным образом или даже исключительно образную память, память-воображение, другие – моторную память, память-привычку, а третьи, пожалуй, – логическую память, память-рассказ или память-мышление, как иногда интерпретировали эту память. Не удивительно, что, изучая совершенно различные виды памяти, исследователи приходили к различным результатам, думая, однако, при этом, что все они изучают одно и то же. Еще большая неразбериха получалась, когда один и тот же исследователь или компилятор (чаще всего так поступали именно авторы учебников или сводных работ о памяти) в одной и той же работе, при этом не отдавая себе в том отчета, смешивал воедино подобные различные, порой даже противоположные результаты.
Моторная память, или память-привычка, образная память, или память-воображение, логическая память, или память-рассказ (на уточнении терминологии мы пока не останавливаемся), – вот три основных вида памяти, как они устанавливались из анализа истории проблемы памяти. Так, например, Аристотель изучал главным образом образную память, Уотсон – память-привычку, а Жане – память-рассказ. Наряду с этими тремя основными видами памяти некоторыми исследователями называется еще один вид памяти – аффективная память, память чувств. Особенно Рибо настаивал на существовании этой памяти, хотя не было недостатка и в тех исследователях, которые отрицали ее. Откладывая разбор дискуссии по этому вопросу до одной из следующих глав, допустим пока в виде предположения существование и этого – четвертого – основного вида памяти.
Итак, разногласия между исследователями памяти объясняются в значительной степени тем, что они исследовали различные виды памяти. Таким образом, противоречия исследователей в этом отношении являются отражением реальных противоречий в самой изучаемой ими действительности – памяти, отражением тех противоречий, которые реально существуют между различными видами памяти.
Но что представляют собой эти виды памяти? Диалектик Гегель, как раз разбирая проблему представления, указывал на то, что способности представления или силы души, о которых учит обычная психология, на самом деле являются рядом ступеней развития представления. Нельзя ли попробовать применить эту точку зрения и к видам памяти? Не являются ли различные виды памяти лишь различными ступенями развития памяти?