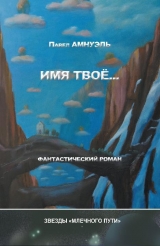
Текст книги "Имя твоё..."
Автор книги: Павел (Песах) Амнуэль
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава тринадцатая
Туфли действительно жали, хотя и вполне терпимо. Я успел их разносить, купив еще года два назад, однако надевал редко – на официальные мероприятия, дни рождения знакомых и театральные премьеры, коих за это время посетил ровно три раза – и потому чувствовал себя в этой обуви не вполне комфортно. Я вообще не понимал, зачем нацепил именно эту пару, не зная, как долго придется ходить.
Я не понимал, кроме того, почему мысли мои оказались заняты какой-то паршивой обувью, когда думать мне нужно было о другом и для начала – о том, что со мной и Алиной происходит, и где я оказался, надев туфли – не те, что были на ногах сейчас, а те, что расшнуровала мне Алина и что неимоверно – до слез – жали и мучили.
Я стоял на песчаном пляже, и, по идее, в нескольких метрах от меня должна была находиться береговая линия. Ее и сейчас легко было различить, но море почему-то мгновенно отступило, оставив лишь влажный песок и блестящие камни, еще минуту назад находившиеся под водой и не успевшие просохнуть в жарких лучах вечернего солнца. Впрочем, солнце с таким же успехом могло быть и утренним – оно стояло низко над горизонтом в той стороне, которую я сам для себя определил как морскую, и лишь потому решил, что сейчас вечер: в Израиле солнце опускалось в море, а поднималось со стороны гор, я привык к этому, море для меня ассоциировалось с западом.
Вечер или утро – какая разница? Я был на пляже один, во все стороны тянулся белый песок, никаких следов цивилизации, и там, где в Тель-Авиве взгляд наталкивался на белые каменные фонтаны отелей, тоже тянулся песок до самого горизонта, и единственным, что создавало хоть какое-то разнообразие в абсолютно безжизненном пейзаже, были странные следы, четко отпечатавшиеся на песке бесконечного пляжа. Следы тянулись вдоль кромки бывшего прибоя и были похожи на отпечатки огромных ботинок – правый, левый, правый, левый, – будто здесь прогуливался гигант ростом с отель «Дан-Панорама». Прошел он с юга на север – если, конечно, в стороне бывшего моря находился именно запад.
Я тоже направился в ту сторону, туфли немедленно заполнились песком, но мне в голову не приходило снять обувь – она стала непременной принадлежностью моего туалета, почему-то я знал, что только обутый могу передвигаться в этом мире. Если вообще имело смысл куда-то передвигаться.
Когда человек находится в состоянии шока, он все делает автоматически, не думая, время для него теряет направленность, стрела времени, будто стрелка компаса в районе магнитной аномалии, беспорядочно вращается, устремляясь то в будущее, то в прошлое, то вообще в какое-то никем не представимое настоящее, которого на самом деле и не было вовсе. Себя воспринимаешь плохо или не воспринимаешь вообще, и весь мир, не имея верной ориентации во времени, тоже кажется не настоящим, нарисованным, придуманным и ненужным.
Я шел, зачерпывая песок, и если бы на моем пути появился кто-то, дернул меня за рукав и спросил «Эй, ты куда идешь?», я не только не нашелся бы с ответом, я бы и самого спрашивавшего воспринял как деталь пейзажа, которую нужно обойти, чтобы продолжить движение. Зачем?
Не спрашивать меня нужно было, а влепить пощечину или вколоть препарат, выводящий из шокового состояния. Однако ни то, ни другое сделать никто не мог, и я шел, как робот, и остановился, когда солнце упало, наконец, за влажный от впитанного моря горизонт, а на небе, будто по сигналу с далекого пульта, вспыхнули звезды.
Тут и во мне будто что-то переключили. «Алина», – только и сумел выдохнуть я и повалился на песок. Песчинки сразу облепили мне лицо, проникли в ноздри, мне уже было знакомо это ощущение, и должно быть именно оно вернуло мне способность осознавать себя и рассуждать – не здраво, конечно, но хотя бы на уровне попыток понять и оценить произошедшее.
Я был уверен, что мир, окружавший меня, – реальность, а не плод фантазии. Мне не нужно было щипать себя или считать до сотни – туфли все еще жали, и одно это создавало непередаваемое и острое ощущение реальности.
Я был в своей квартире, но что-то изменилось в мире (или во мне?), и я оказался здесь. А до того я был в Москве, пытался спасти Алину от обвинения в убийстве – почему я тогда не думал о том, что все происходившее физически невозможно? Только потому, что Москва была такая, какой я ее знал сам, мне было страшно, но шока не возникло. А здесь…
Я никогда не вернусь! Не знаю, где я, но мне никогда не вернуться обратно.
Эта очевидная мысль лениво шевельнулась и свернулась кольцом в моем сознании. Кольцо повторяло себя: не вернусь, не вернусь, не вернусь…
На двадцатом обороте включился голод и следом – жажда. Ужасно захотелось пить, а в желудке возникло ноющее ощущение пустоты.
Я сел на песке, поджав под себя ноги, и посмотрел на звезды. Мои познания в астрономии были невелики, но Большую Медведицу я мог бы отыскать легко. И Орион. А еще Кассиопею – перевернутую и скособоченную букву М. Ничего похожего на эти знакомые очертания я в небе не обнаружил, из чего неминуемо следовало, что я не на Земле.
А если так, то почему я легко дышал и даже ощущал очень слабый запах нефти – будто в Баку, где сначала погружаешься в воздух, будто в воду, тонешь в нем, и возникает желание выплыть, но через минуту легкие привыкают, и запах исчезает, хотя и остается в то же время…
Все пропало. Алина там, я здесь. Неважно почему. Неважно как. Важно, что мы не вместе. И совершенно ясно, что это не случайно. Кому-то было нужно, чтобы я не мог прийти Алине на помощь. А она не могла прийти на помощь мне. Потому что вдвоем мы – одно. А врозь мы просто две фишки на игровом поле судьбы.
И если так (а это было так!), то все равно, куда идти. Можно не идти никуда. Даже нужно никуда не идти – если мы всего лишь фишки, пусть игроки передвигают другие фигуры, я подожду.
Господи, где здесь вода? Я не йог, не могу прожить без воды, и хотя бы ради того, чтобы найти оазис, нужно встать и идти… куда? Прочь от береговой линии, это ясно, потому что пресной воды не найти там, где еще недавно бушевал прибой.
Если бушевал, конечно.
Я был один, я хотел пить и есть, я хотел вернуться, хотел быть с Алиной, хотел понять, что же все-таки происходило с нами. Я все это хотел – и ничего не мог.
Кроме одного – встать и пойти. Да, я фишка, и кто-то передвигает меня по игровому полю. Но я пойду не туда, куда меня хотят передвинуть. Не пойду я туда, и все тут!
В жизни своей я не так уж часто совершал поступки, которые были предопределены не обстоятельствами, а моими собственными желаниями, зависевшими исключительно от моего внутреннего состояния. В лабораторию я попал потому, что сошлись несколько обстоятельств: в Пермском институте физики, куда я попал по распределению, не оказалось для меня места («Да, заказывали специалиста, но обстоятельства изменились, готовы дать вам открепление»), а в первый отдел моего родного факультета столь же неожиданно поступил запрос на молодого техника-физика без определенной специализации, но с развитой научной фантазией. Странное было предложение, в первом отделе его не сразу и поняли, а тут подвернулся я, вернувшись из Перми в состоянии легкой эйфории от нежданного избавления. «Пойдете?» – спросил меня вечно поддатый Андрей Степанович, отставной подполковник, сидевший в своем зарешеченном, будто тюрьма, закутке, по-моему, двадцать четыре часа в сутки. «Ну, я-то, может быть, – промычал я, – но ведь там проверка, наверное…» – «А у вас что, родственники в гестапо работали?» – вяло пошутил Андрей Степанович, это была его коронная и единственная шутка, такая же смешная, как объявление о предстоящем дожде с градом. «Нет, – пробормотал я, – но…»
Меня проверяли недели две. И взяли. Наверно, потому что евреем я был всего лишь по матери, а по отцу – русским, так и в паспорте у меня было написано. Евреем по Галахе я стал в Израиле, а до отъезда на вопрос о национальности отвечал в зависимости от обстоятельств. В институт пришел русским, если это вообще имело какое-то значение, а не было порождением моей фантазии, взращенной на общеизвестной в те годы истине, что евреев в секретные учреждения не берут. Не знаю. Никто мне за все годы работы ни разу не намекнул на то, что национальность моя не соответствует профилю института.
И в Израиль я уехал не потому, что таково было мое, лично мое, ни от чего не зависевшее решение. Все ехали, вот и я сорвался. Гордиться тем, что я такое решение принял, не было у меня никаких оснований. Я и не гордился.
Что же я сделал сам в своей жизни? Сам, только сам и исключительно сам?
По жизни меня вели, а я всего лишь не сопротивлялся. Линию жизни направляли внешние обстоятельства, а я колебался с этой линией, как коммунисты колебались вместе с линией партии. И потому мне так просто было встать с песка и пойти прочь от бывшей воды – ноги вели меня сами, не я управлял их движением, и только после того, как я прошел почти километр, мне удалось остановиться. Ноги дрожали, что-то тянуло их дальше. Что-то? Я знал что – это была сила судьбы. Как в опере Верди с таким же названием, которую я слушал и смотрел в амфитеатре Кесарии, это был один из моих немногих походов в театр, билеты распространяли в клубе для новых репатриантов, и меня прельстила не столько незнакомая музыка, сколько объявление: «Льготные цены – скидка 70 %!» Кто-то покупал билет за пятьсот шекелей, а мне он достался за полтораста, и это вдохновляло.
Сила судьбы. Третий закон Ньютона действует, видимо, даже в этических системах, формирующих понятие судьбы или рока. Силе тупой стихии нужно противопоставить равную ей силу собственного духа. Или еще большую. Если она есть.
Если существует придуманная мной Вторая вселенная, вселенная физических полей, и если есть Третья вселенная, мир без материи, связанный с первыми двумя, – этическая вселенная, вселенная духа, а не разума, то и Силу судьбы в каждом из мирозданий можно понимать по-разному. Как и силу духа. И то, и другое – вполне определимые физические понятия, для каждого из миров очевидно ясные, как ясно в нашем материальном мире, что два массивных тела притягивают друга с силой, обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними…
Я заставил себя повернуться. Переставил правую ногу, за ней левую и пошел на север. Почему на север? Неважно, только не на восток, не туда, куда шел до сих пор.
Как это было тяжело! Ноги не слушались, увязали в трясине – по щиколотки, по колена, по бедра… Я вытягивал одну ногу, затем вторую, туфли жали, но это была приятная боль, она свидетельствовала о том, что я жив, ощущаю себя, существую. Живешь не тогда, когда мыслишь и вовсе не потому, что мыслишь. Живешь – когда ощущаешь себя. Собственное тело, голову и сдавливающую виски боль, и ноги, висящие тяжелыми гирями, и среди прочих движений – крови в сосудах, сердечной мышцы, сжимающейся с неподотчетной частотой, затекших уставших ног, – кроме всех этих материальных движений ощущаешь еще и искаженные сознанием движения мысли и понимаешь, что мысль твоя (или чужая? но все равно твоя, потому что ты ее сейчас думаешь, как книгу, тобой или кем-то написанную, читаешь с увлечением или внутренней неохотой) на самом деле вовсе не такая, какой ее извлекает на свет твое сознание. Мысль первична, сознание вторично, и как это соотносится с ответом на основной вопрос философии?
Почему я вообще думал об этом? Да потому же, почему в сосудах текла кровь, а пальцы ног судорожно сжимались, скованные тесной обувью – я думал так, потому что иначе думать не мог вообще.
Сила судьбы.
Я брел на север, хотя судьба вела меня на восток. И думать я должен был сам. Об Алине, о том, что север – направление, которое выведет меня к ней. Почему север? Почему эти холмы, появившиеся на горизонте?
Не надо спрашивать – почему. Надо идти. К Алине.
Я шел и не знаю, сколько времени это продолжалось. Жажда и голод исчезли – должно быть, перешли в какое-то новое качество. Исчезла боль в пальцах ног – должно быть, обратилась в иное ощущение, которое я пока не мог опознать. Постепенно исчезло все, кроме ощущения направления – это была линия в пространстве, одно-единственное измерение, которое вело меня и в то же время не вело никуда, потому что двигаться куда бы то ни было можно лишь во времени, и, следовательно, нужна для этого вторая координата – время. Линия же была одномерной, и потому я не мог сказать, иду ли я вперед, стою ли на месте, я даже не знал, линия это или всего лишь точка, в которую я обратился, исчезнув из трех измерений, в которых привык существовать.
Потом это, конечно, кончилось, потому что в точке вне времени все кончается сразу, едва начавшись. Я сидел, развалившись, перед своим компьютером в своей комнате в своем мире, и, если смотреть со стороны, то, возможно, никуда и не уходил. Но я-то знал, что это не так. Я был и вернулся. И теперь, вернувшись, ощущал в себе некую энергию – будто бассейн, долгое время пустовавший, наполнился водой.
«Алина», – сказал я, уверенный, что она меня услышит.
«Веня! – ахнула Алина. – Ты! Где? Почему тебя не было так долго?»
Долго? Я бросил взгляд на часы, которые показывали половину двенадцатого – если это был тот же день, а не следующий или какой-нибудь еще, то со времени смерти Валеры прошло три с половиной часа. Мне казалось, что прошла вечность, и я понимал, что казалось мне правильно, хотя и абсолютно неверно с точки зрения природных законов мира, в который я вернулся.
На вопрос Алины я отвечать не стал – мне нужно было знать, что произошло за время моего отсутствия.
Очень многое. Уходя из дома на встречу с матерью, Алина позвонила в милицию, и минут через пять ее, конечно, задержали – она и до автобусной остановки дойти не успела. Обращались с ней вежливо, но неприязненно – ни милицейский следователь, ни оперуполномоченный не понимали поведения этой женщины, а утверждения ее вообще не могли соответствовать истине.
Она оказалась в камере с тремя женщинами, из которых две были карманными воровками, а одна – проституткой, не ценившей ни себя, ни мужчин, ни вообще жизнь на белом свете. К Алине отнеслись настороженно, в разговоры не вступали, почувствовали, должно быть, в Алине нечто, чего не следовало касаться.
Больше всего Алину беспокоило, что случилось с мамой. А потом – что стало со мной.
Я знала: ты не ушел, ты не мог уйти, но почему-то перестала тебя ощущать, ты молчал, и только поэтому я поступила так неправильно, я не должна была этого делать, Веня? Но и иначе я не могла – мертвый Валера мешал мне быть с тобой, его нужно было убрать из моей жизни, из моей квартиры. Был ли другой способ?
Погоди, Алина, сейчас тебя вызовут на допрос, и следователь Бородулин скажет, что Валеру убили не сегодня утром, а вчера вечером, и тело его всю ночь лежало в твоей квартире – нам нужно объяснить этот феномен, это сейчас самое важное.
Вчера? Ты же знаешь, Веня, где я была вчера и… Конечно, знаю, но эксперты утверждают… Я поняла… Объяснение может быть только одно: за считанные минуты наступило трупное окоченение, которое в обычных условиях занимает несколько часов. Из тела будто высосали энергию, и я подозреваю, кто это мог сделать… Я тоже так думаю, это ведь мы, да? Его жизненная энергия перешла к нам? Не знаю, Алина, как это называть; жизненная энергия – определение не научное, что-то вроде живой силы, но, логически рассуждая, тепло его тела рассеялось в пространстве гораздо быстрее, чем это возможно по физическим законам.
Господи, какие законы? По каким законам нож, который был в кармане Валеры, оказался в его груди?
Это вторая проблема, Алина, давай разберемся с первой. Разве это так важно? Да, Алина, сейчас это важнее всего. Потому что, если Валера был мертв со вчерашнего вечера, а в милицию ты сообщила только утром, значит, это было убийство с заранее обдуманным намерением, просто ты не сумела за ночь избавиться от тела и только поэтому запаниковала. И еще – мама становится соучастницей: она не могла не знать о смерти Валеры, однако утром спокойно отправилась на работу и вела себя так, будто ничего не произошло. А потом ты вызвала ее, и это, с точки зрения следствия, выглядит как продолжение все той же цепочки – вы не смогли избавиться от трупа и решили скрыться, но не удалось.
Я понимаю, Веня. Что же делать? Можем ли мы с тобой что-то сделать на самом деле или только пытаться объяснить то, что объяснению не поддается?
Я думаю, Алина, я все время думаю об этом. Да, я знаю, чувствую твои мысли, они перемешиваются с моими, и мне бывает трудно… Сейчас ты подумал… Ты прав, Веня, как было бы хорошо, если бы ничего этого не произошло. Чего – этого? Если бы Валера не пришел ко мне утром, чтобы выяснить уже несуществующие отношения. Или если бы в его кармане не оказалось ножа.
Веня, если ты прав… Если мы правы… Тогда…
Нет, Алина, назад ничего не вернуть. Лента времени разворачивается только в будущее. Скоро тебя вызовут на допрос, и следователь Бородулин захочет, чтобы ты призналась в преднамеренном убийстве. Бородулин? Тебе известна его фамилия? Да, Алина, потому что я уже видел этот допрос, слышал твои ответы, следствие не могло ими удовлетвориться, потому что факты… Мы не можем с тобой изменить прошлое. Но давай сделаем что-то в настоящем… Что?
Мне показалось, что с моих плеч свалилась тяжесть. Будто я нес в котомке огромный камень, а потом остановился и сбросил его, и он покатился, подпрыгивая, я проследил взглядом за его падением, я стал будто даже выше ростом – наверное, потому, что расправил плечи, и из-за этого изменился мой взгляд на мир. Человек с согбенными плечами смотрит на мир иначе, не так, как человек, стоящий навытяжку.
Что-то произошло, Веня, что-то для нас важное. Да, – сказал я, – но я не понимаю: что именно.
«Грибова, к следователю», – сказал чей-то гнусавый голос, и я увидел – не своими глазами и потому, наверное, туманно, будто сквозь матовое стекло – женщину-охранницу, открывшую дверь камеры ровно настолько, чтобы я могла пройти, и я прошла, ноги не держали, я шла, опираясь на Ленину руку, хорошо, что он был рядом, хотя я и не могла его видеть, но я и не хотела ничего видеть, мне это было не нужно, я взяла Леню под руку, так мы и вошли в кабинет, следователь, фамилию которого я знать не могла, но все равно знала, жестом указал мне на стул, и я села, продолжая держать Леню за руку, он стоял рядом, невидимый, от него исходило тепло, которого мне так недоставало, если бы не он, я бы сломалась, как ломается тонкая палочка, и тогда… Не знаю, что я могла бы сказать.
– Ваша фамилия Грибова, – произнес человек за столом, нацелив в меня острый, как лезвие ножа, взгляд. Как лезвие ножа, Господи помилуй…
– Да, – сказала я.
– Алина Сергеевна?
– Да.
– Проживающая по адресу…
– Да…
– Распишитесь вот здесь в том, что анкетные данные в протокол занесены правильно.
Я протянула руку и расписалась, хотя, возможно, не должна была этого делать, буквы расплывались перед глазами, может быть, там было записано вовсе не то, что спрашивал меня следователь по фамилии…
– Моя фамилия Бородулин, – сказал человек за столом. – Я веду ваше дело. Дело об убийстве гражданина Мельникова Валерия Даниловича.
– Я не убивала!
– Для начала изложу факты, – скрипучим голосом продолжал Бородулин, и я ждал момента, когда он скажет, что тело пролежало в прихожей с вечера, а убийство произошло не позднее двадцати двух часов. Сейчас я знал, что ответить на это заявление, сейчас я знал, как изменить ход допроса и наше с Алиной будущее. Я скажу… То есть ты, Алинушка, скажешь, что…
Зазвонил телефон, и следователь Бородулин с недовольным видом поднял трубку. Он не произнес ни слова, но я видела, как медленно расширялись его зрачки – странное ощущение, я даже не подозревала, что смогу разглядеть это неуловимое движение; возможно, впрочем, я и не видела его расширившихся зрачков, а только почувствовала его неожиданное напряжение, его удивление, перешедшее в страх, странный страх, не имевший ко мне никакого отношения, то есть, имевший, конечно, потому что услышанное каким-то образом было связано и со мной, и с Веней, и с Валерой, и с нашим общим будущим, хотя какое будущее могло быть у Валеры, у него и прошлого не было вот уже несколько часов.
Бородулин опустил трубку на рычаг и перевел на меня пустой взгляд. Взгляд человека, настолько погруженного в свои мысли, что окружающий мир теряет свое трехмерие и становится плоской картинкой, реальность которой определяется исключительно желанием или нежеланием видеть изображение.
– Что? – спросила я.
Бородулин смотрел на меня, но, похоже, не видел. Допрос пошел не так, как должен был, точнее – не так, как я видел его, хотя я-то видел не с самого начала, но все равно – теперь разговор и не мог пойти в том же ключе. Что-то произошло.
– Что? – спросил я.
Взгляд Бородулина стал, наконец, осмысленным, по крайней мере настолько, чтобы следователь понял, что задержанная все еще находится в комнате и с ней нужно что-то делать.
Он думал о чем-то и не мог принять решения.
– В коридоре, – пробормотал он. – Подождите в коридоре.
Он не боялся, что я убегу?
Я вышла в коридор и села на длинную узкую скамью – милиционер, доставивший меня на допрос из камеры, сел рядом, а напротив сидела женщина в милицейской форме и смотрела на меня, как удав на кролика, она не позволила бы мне не только сбежать, но даже подняться со скамьи без специального распоряжения следователя Бородулина.
– Что? – спросила я, и оба представителя органов правопорядка сделали вид, будто не слышат меня и не видят: два живых истукана. Но мой вопрос им и не предназначался.
Что я мог ответить? Я не слышал собеседника Бородулина, не знал, какую информацию получил следователь, и чем эта информация могла нам грозить. Единственное, что я знал, так это то, что, выпроводив Алину из кабинета, следователь принялся звонить сначала своему непосредственному начальству, потом куда-то еще, и отовсюду получал достаточно невразумительные ответы на вопрос, который оставался для меня скрытым.
Коротко тренькнул звонок, и женщина-милиционер сделала мне знак: ну-ка, мол, давай опять на допрос. В кабинете за прошедшие несколько минут атмосфера изменилась радикально: бумаги следователь убрал в ящик, перед ним лежал небольшой бланк, уже наполовину заполненный, и Бородулин ощущал такую неуверенность в себе и своих поступках, что мне даже стало его немного жаль – чисто женская реакция на мужскую слабость.
– Садитесь, Алина Сергеевна, – сказал он странным осипшим голосом.
Когда я села, он долго смотрел на меня взглядом, смысл которого я не могла понять – не осуждающе, не зло, а с каким-то внутренним страхом, вызванным неизвестно чем и потому непонятным.
– Я вам подпишу пропуск, – сказал он, наконец, – и вы пойдете домой. Прошу никуда из дома не отлучаться. Вам позвонят или придут. Или…
Он сделал паузу, в которую я вклинила свой вопрос:
– А мама?
– Что? – переспросил он. – А… Ну да… Нет, ваша мать сейчас дома… То есть, она и была…
Так они маму не задержали? Она все это время сидела дома, бедная, я могла себе представить, как она нервничала, как звонила во все инстанции, ничего не понимая, а может, она была не одна, а кто-то, участковый инспектор, например, находился с ней, охраняя или, наоборот, следя, чтобы не сбежала?
Бородулин протянул мне подписанный пропуск, дверь открылась, и следователь сказал возникшей на пороге сотруднице:
– Кира, отвези сама домой Алину Сергеевну.
– Слушаюсь, – ответила Кира, не поняв произошедшей перемены. Мы обе ничего не понимали, да еще я – третий.
Я встала, взяла из руки Бородулина пропуск и не удержалась от вопроса:
– Что случилось? Меня уже не обвиняют в…
Произнести слово «убийство» было свыше моих сил.
Глядя куда-то в сторону окна, Бородулин ответил:
– Вас ни в чем не обвиняют. Э… За неимением убитого.
– Что вы сказали? – поразилась я.
– Вы, конечно, не в курсе, – с неожиданно злой иронией произнес следователь. – Вы, конечно, и сейчас понятия не имеете… Вы… – он буквально захлебывался ненавистью то ли ко мне лично, то ли к обстоятельствам, вынудившим его поступить вопреки здравому смыслу и всякой логике. – Вы… Вы действительно не знаете, что Мельников жив?
Мои ноги приросли к полу.
– Как? – растерянно сказала я. – Как жив? А где нож?
Наверное, это был самый глупый из вопросов, какие я могла задать. Однако следователь воспринял мои слова как вполне естественные и ответил:
– В кармане у него нож. В кармане.
– А… А тело?
– Какое тело? – крикнул Бородулин. – Что вы мне комедию разыгрываете? Не знаю, какие у вас там отношения, и что вы с этим Мельниковым задумали! Жив он. Лежал в морге на столе, а потом встал и пошел. Идите! Идите, ради Бога, дайте мне подумать.
Подумать и мне – нам – было о чем. Я вышла из кабинета следом за женщиной, она даже головы в мою сторону не повернула, так мы и шли до лестницы, а потом на первый этаж и к выходу, где дежурный проверил мой пропуск и удивился, должно быть, не меньше, чем был удивлен следователь, услышав странную информацию по телефону.
Домой меня довезли на милицейском «жигуле» – вероятно, том самом, на котором доставили в отделение несколько часов назад.
– Поднимитесь к себе, – сказала сопровождающая, – и из квартиры не выходите. Вам понятно?
Я кивнула.
Мама бросилась мне на грудь, как только я вошла – мне даже показалось на мгновение, что поперек прихожей все еще лежит тело человека, – и обе мы зарыдали, не сдерживая эмоций, а я, хотя и чувствовал себя лишним, но не уходил, не мог уйти, я был слишком поглощен раздумьями, чтобы правильно реагировать на происходившее.
– Есть хочу! – сказала я, успокоившись, а точнее – выплакав запас слез, будто истощился какой-то источник, и я почувствовала страшный голод. – Мама, как я хочу есть!
– Сейчас-сейчас, – заторопилась мама, тоже пришедшая в себя, едва услышав мои слова: как же, доченька проголодалась, все остальное неважно, да все и миновало, а что миновало, то уже не повторится, а что не повторится, то не стоит внимания.
В гостиной я повалилась на диван, скинула с ног туфли, закрыла глаза и отключилась от реальности, чтобы побыть вдвоем с моим Веней, с любимым моим Веней, единственным, кто все это время был со мной, хотя и не рядом, я набросилась на него, и это тоже был голод, который следовало утолить.
Где мы были? Я не знаю. И я тоже, да какая разница. Нет, согласись, Алинушка, это не просто интересно, это очень важно понять… Это совсем не важно, Венечка, а важно совсем другое – то, что мы действительно ощутили себя единым существом, мы говорили о себе «я» и не могли отделить наши «я», мы были вместе, и это было не сексуальное ощущение близости, а гораздо более глубокое. На самом деле просто другое, и такие сугубо геометрические понятия, как глубина, ширина или величина, не имели к нам никакого отношения.
Мы были вместе и узнавали себя, объединяя обрывки воспоминаний, создавая удивительную, но цельную цепь нашей общей памяти, которая до последнего времени распадалась на две составляющие, а сейчас разнородные звенья сцепились и стали неразделимы, будто так и было всегда.
Оказывается, мы ходили в один детский сад и даже спали днем на одной раскладушке – она сильно скрипела, когда ее раскладывали, и натянутая материя на ней была ярко-зеленого цвета с темными маленькими клеточками, мне почему-то казалось, что это настоящие клетки, которые не выпустят меня на свободу, когда я захочу встать, мы быстро накрывали раскладушку белой, в синюю полоску, простыней и будто становились свободными – настолько, что могли не спать, а просто лежать, закрыв глаза, подсматривать, что происходило в большой комнате, где, кроме нас, спали еще тридцать детей, и думать о том, как вечером Алик позовет меня играть во дворе в машины-развозки (нет, не Алик, почему Алик? Рита позовет, и не в машины играть, я никогда не играла в машины, а в дочки-матери или в классы, в классы мне не нравилось, потому что прыгала я плохо и всегда проигрывала, но Рита именно поэтому обожала классы, и мне приходилось сдаваться – заранее сдаваться, еще до начала игры, потому что само согласие означало мое поражение).
Да, вечера у нас были разными, но как могло оказаться, что детский сад был один и тот же? Мы жили в разных городах, да, конечно, и не могли быть в одном детском саду хотя бы из-за разницы в возрасте, но почему тогда наши воспоминания совпадали до такой мелочи, как, например, светлая половица в прихожей – все половицы там были покрашены темно-коричневой краской, а одна почему-то осталась светлой, и добро бы располагалась она у стены, но нет, это была третья половица слева, если смотреть со стороны входа. А еще у нас была воспитательница, которую звали Ирина Павловна, дети за глаза называли ее Жучкой, потому что у нее был хриплый прокуренный голос, а кашель напоминал лай замученной дворовой собаки.
Концерты в родительские дни у нас устраивались в большой игровой комнате, все игрушки мы сваливали в угол, где вырастала огромная гора, а напротив окна плотник дядя Миша сколачивал из старых досок невысокую сцену, и мы пели для родителей, танцевали и читали стишки о счастливом детстве.
Как это могло быть? Даже нянечку, разносившую еду из кухни, звали у нас одинаково – Еленой Борисовной, и была она женщиной еще не старой, не старше пятидесяти, если подумать, но казалась не просто древней, но уже и неживой, будто сошедшей со старинной картины. Мы боялись к ней подходить, хотя нам очень хотелось потрогать подол ее платья и убедиться в том, что она не кукла, не робот, не манекен.
Почему у нас обоих сохранилось это воспоминание? И еще мы помнили, как в пятилетнем возрасте упали во дворе и сильно порезали пятку, потому что бегали босиком, а на асфальте лежала сломанная пивная бутылка. Кровь текла ручьем, я так кричала, что услышал отец и прибежал даже раньше, чем подружки успели поднять меня на ноги. Кровь текла ручьем, верно, но я не кричал, я все-таки старался быть мужчиной, хотя мне было очень страшно, но я сам поднялся домой на второй этаж, оставляя темный след на лестнице, и кто закричал, так это мама, когда увидела, в каком виде я ввалился в квартиру.
Но швы нам обоим накладывали в третьей поликлинике, и оба мы помнили женщину-хирурга, которая все время приговаривала: «Ну что же ты, ну ты же умница, и больно совсем не будет, очень даже не больно, ну что же ты»…
И воспоминание о первом классе школы тоже оказалось у нас одинаковым, хотя это вовсе было удивительным и невероятным. Я ходила в школу в квартале от дома, а меня устроили в лучшую в городе Шестую школу, куда нужно было ехать полчаса на троллейбусе. Окна класса выходили в глухой и очень зеленый переулок, где с утра сидели пенсионеры, читали газеты и с интересом слушали наши вопли на переменах. Я сидел на первой парте, и у правого моего локтя была вырезанная ножом и замазанная черной краской надпись «Вика ду». Что именно не успел вырезать неизвестный автор, было совершенно ясно, и ко мне эти слова вроде бы не имели никакого отношения, но я все равно чувствовала себя в чем-то виноватой перед неизвестной мне Викой. А я наоборот, внимательно смотрел на надпись каждое утро, ожидая почему-то, что за ночь она допишет себя сама, а может, и подпись автора появится, и я узнаю, наконец, как звали того смельчака, который остался в классе после уроков и усердно работал ножиком, пока его не обнаружил кто-то из учителей.








