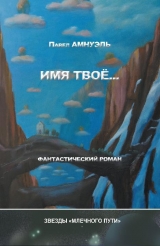
Текст книги "Имя твоё..."
Автор книги: Павел (Песах) Амнуэль
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Ты не должна так думать. Я не должна, знаю, прости, подумалось само.
Значит, Аня и Оля. К кому из них?
Я знал, что ни к кому. Аня вышла замуж год назад, и муж ее Костя, которого она боготворила, на самом деле был прилипала и альфонс, так мне казалось, и Оля тоже так думала, но мы не могли спасти Аню, потому что она не нуждалась в спасении, ей было хорошо, она светилась, отдавая всю себя томному прощелыге, я не могла прийти к ней и сказать: «Анька, мне нужно пожить у тебя пару дней, потому что меня будет искать милиция».
И к Оле я пойти не могла, но совсем по другой причине. Я знаю, Алина, можешь не вспоминать, я вспомнил сам, видимо, подумал твоей мыслью. Но должен быть выход. Оставаться здесь нельзя, уходить некуда.
Господи, я сама не знаю, как у меня получилось. Я даже не подумала, только захотела, чтобы он… Чтобы его не было в моей жизни… И его не стало. Но почему так?
Прекрати. Да, я больше не буду. Я не вижу выхода. Я тоже не вижу, но выход должен быть. Должен. Обязан быть.
Зазвонил телефон, и я не сразу понял – где именно. В Москве? Или здесь, на моем столе? Я слушала звонок и не узнавала – мой телефон звонит громче, надрывнее, будто у него всегда беда, и только с бедой он обращается ко мне, требуя, чтобы я подняла трубку.
Я сделала несколько шагов к гостиной, но я уже понял, что телефон звонит у меня, и это понимание, абсолютно сейчас не нужное осознание реальности вырвало меня, буквально выдрало с мясом из московской Алининой квартиры, из мыслей ее, из ее сознания и бросило в начавшуюся жару, а телефон надрывался, и я точно знал, что звонит Лика, не выполнившая своей угрозы дождаться послеобеденного времени.
Нить, связывавшая нас, разорвалась. Я был один в своей квартире, у меня дрожали пальцы, а мысли слиплись, как вялые карамельки.
– Да, – сказал я, взяв телефонную трубку обеими руками и поднеся ее, как мне почему-то казалось, к обоим ушам одновременно. – Слушаю.
– Веня, – беспокойным голосом сказала Лика. – С тобой что-то случилось? Почему у тебя такой голос?
– Какой? – пробормотал я, соображая, как поскорее закончить ненужный разговор, и с ужасом думая о том, что могу не вернуться к Алине, ничего не знать, ничем не смочь…
– Какой! – возмутилась Лика. – Я же слышу. Извини, я вчера вела себя, как свинья. Ты не работаешь? Я по голосу чувствую, что не работаешь. Я сейчас приеду…
Только Лики мне сейчас не хватало.
– Не нужно, – поспешно сказал я. – Я действительно не очень хорошо себя чувствую. Хочу полежать, отоспаться, ночью почти не спал, жара…
– Ты уверен? – с сомнением сказала Лика. – Отоспаться, конечно, нужно, но сейчас такая духота… Ты хотя бы окна не открывай и шторы закрой, особенно в спальне, она у тебя на солнечной стороне. Я забегу чуть позже… хорошо?
Должно быть, что-то в моем голосе было, заставившее Лику задать – пусть и после паузы – этот вопрос. Вчера она и спрашивать не стала бы, поставила бы перед фактом: приду, жди.
– Хорошо, – сказал я, это был единственный известный мне способ избавиться от Лики хотя бы на время. Она все-таки даст мне поспать хотя бы час, в этом я мог быть уверен, и явится как раз к обеду, чтобы проявить обо мне материнскую заботу – приготовить на скорую руку голубцы из полуфабриката, почему-то это было ее любимое блюдо, и она думала – мое тоже.
Положив трубку, я попытался сосредоточиться. Мне нужно было вернуться к Алине, я обязан был к ней вернуться, но будто жесткая пружина отталкивала меня, когда я наваливался на эту стену: мне казалось, что между мной и Алиной единственная преграда – стена, белая, бесформенная, будто ватная, но все равно жесткая и больно бившая в грудь каждый раз, когда я бросался на нее, пытаясь пробить.
Нужно сохранить силы.
Почему я так подумал? Зачем мне сейчас сохранять силы, когда Алина в Москве стоит перед трупом и не знает… Вот именно. Когда я рядом с ней, часть ее паники передается мне, и вместе мы беззащитнее, чем каждый в отдельности. Нужно сесть и подумать. Решить, а тогда уже пробивать лбом стену.
Я сел на диван – на то место, где четверть часа назад (неужели так недавно?) сидела Алина. Спокойно, – сказал я себе. Подумай спокойно, если ты на это способен. А если не способен, то подумай, как стать способным. Досчитай до тысячи. Нет времени? Тогда до ста. Или до десяти.
Что произошло? Первое: Алина была здесь, она физически в этой комнате присутствовала, потому что, когда она исчезла, складки на диване распрямлялись так, будто там сидел человек. Я это видел. Ненадежное свидетельство для посторонних, но для меня – безусловно верное.
Второе: Алина не убивала Валеру, но все равно убила его именно она, а, если быть совершенно точным, то убили мы вместе, вдвоем, одна Алина не решилась бы, не было в ее душе такой ненависти к Валере, чтобы убить, а у меня ненависть была, очевидная ненависть ревности, и, если сделать следующий шаг в рассуждениях, то нужно признать, что убил Валеру именно я, хотя меня не было в Москве, и в мыслях Алины меня тогда тоже не было, но все равно мое я находилось в ее подсознании.
Тогда из второго вытекает третье: где бы ни находился в каждый момент любой из нас, поступаем мы, как одна личность. Мы не можем друг без друга, и мы не существуем друг без друга. Мы – одно.
Да, сказал я себе. Да, сказала я себе.
Мы опять были вместе в узком коридорчике московской Алининой квартиры, поперек которого лежало тяжелое тело с темно-красным пятном на белой рубашке. Я подумала…
Нет, подумал я, ощутив неожиданно собственное мужское тело и увидев краем глаза стоявшую у зеркала Алину, а за ней – множество ее отражений, ни одно из которых не было мной. Нет, подумал я, такого быть не может, я в Израиле, а не в Москве, я у себя в квартире, я только думаю об Алине и о том, что можно сделать и чего делать ни в коем случае нельзя.
Тело утверждало иначе. Я протянул руку и коснулся руки Алины, но между нами лежал Валера, и у меня не хватало сил переступить через него. Один шаг, но я не мог его сделать.
– Господи, – сказала Алина, глядя на меня своими глубокими темно-синими глазами, – как хорошо, что ты пришел, Веня, я бы сошла с ума без тебя.
Я бы действительно сошла с ума. Да, я знаю, Алина, пожалуйста, не смотри на меня так, я не могу думать, когда ты так на меня смотришь. Как ты оказался здесь, Веня, это замечательно, что ты здесь оказался, но – как?
Не спрашивай меня ни о чем, ведь ты тоже недавно была у меня, сидела на моем диване, да, это правда, и мне там было хорошо, я бы ни за что не ушла, но оказалась здесь, и мне очень страшно.
Да, подумал я, мне страшно тоже, но помолчи, пожалуйста, мне нужно подумать.
Сказать в милиции, что произошел несчастный случай? Валера пришел пьяный, полез на Алину с ножом, она с ним боролась… Не поверят. Нужно очень тщательно имитировать следы борьбы, пальцы Алины и Валеры на рукоятке ножа, причем пальцы Алины поверх Валериных, и еще – угол, под которым нож вошел в грудь. Я не знаю, какой там угол, откуда мне это знать, а если он такой, что сразу наведет следствие на мысль: не могла Алина так ударить, она ниже Валеры на полголовы? Или наоборот – угол может оказаться противоположным, удар снизу, и это меняет картину борьбы, а нужно придерживаться одного, заранее выбранного варианта.
А я? Где будет мое место? Алине придется давать показания, может быть, ее арестуют, а что буду делать в это время я? Смогу остаться в Москве, или та же сила, что вернула Алину, вышвырнет из этой жизни меня?
Никакой другой мысли, кроме самой примитивной – исчезнуть! – не приходило мне в голову. Кроме того, я не должен был дотрагиваться до тела и вообще ни до чего в квартире, иначе у милиции возникнет уверенность, что у Алены был сообщник (да, был, но зачем кому-то знать об этом?), и тогда убийство будет выглядеть еще более страшным, еще более безобразным.
– Позвони маме, – сказал я. – Позвони и скажи, что случилось страшное, какое-то время тебя не будет дома. Скажи…
– Я знаю, что сказать маме, – перебила я Веню. Он ничего пока не понимал в наших с мамой отношениях, а рассказывать было некогда – поймет, когда будет слушать, незачем тратить время на объяснения.
Я закрыла глаза и вдоль стены, прижимаясь спиной к одежде, висевшей на вешалке, прошла, а впечатление было такое, будто просочилась, в гостиную. Телефон стоял на журнальном столике, я его вчера туда переставила с обычного места на тумбочке у окна. Я чувствовала, как тяжело дышит Веня, он тоже вошел в комнату и стоял, прислонившись к дверному косяку – не хотел оставлять следы, так он думал, и, возможно, это было правильно.
– Света? – сказала я, услышав в трубке низкий, с хрипотцой, голос. – Это Алина, здравствуйте.
– О, Алина! – Света, бухгалтер в маминой конторе, всегда брала трубку раньше, чем другие успевали сообразить, что звонит телефон. – Что-то случилось? У тебя странный голос…
Неужели это было так отчетливо слышно?
– Я бы хотела поговорить с мамой.
– Конечно, – Света, похоже, обиделась на то, что я не стала делиться с ней не очень, видимо, приятной новостью. В свои сорок пять Света обожала выслушивать чужие новости, особенно если они не были предназначены для всеобщего обсуждения. Если с ней не хотели делиться, она обижалась навеки, но вечность для нее продолжалась не больше часа или двух, а потом любопытство брало верх над обидой, и рассказывать ей приходилось вдвое больше подробностей, чем хотелось. Я знала Свету давно, после занятий я, бывало, приходила к маме в контору и выпаливала с порога все новости, а женщины поднимали головы от своих гроссбухов и калькуляторов и слушали меня, как криминального репортера западного новостного агентства. А уж их советы…
– Лина? – голос у мамы был встревоженным, Света, похоже, успела сказать о своих впечатлениях. – Слушаю тебя, доченька.
– Мама, – я старалась, чтобы голос звучал как можно более твердо и убедительно. – Ты можешь отпроситься с работы?
– А что…
– Не спрашивай, пожалуйста, там слишком много ушей. Я буду ждать тебя через полчаса в сквере у памятника Грибоедову.
– Хорошо, – сказала мама после секундной заминки, и я с облегчением положила трубку.
Когда я обернулась к Вене, его не оказалось у двери в прихожую. Его вообще не было со мной, я поняла это совершенно определенно, и тогда мне стало страшно, так страшно, как никогда в жизни. Я знала, что ни за что на свете не смогу заставить себя выйти в прихожую, пройти мимо тела, тем более – переступить через него или сдвинуть в сторону. Ни за что! Без тебя – никогда!
Но иначе из дома не выйти, – сказал ты. Нет, ты не сказал это и даже не подумал, это был отголосок твоей невысказанной мысли, упавший в мое подсознание еще тогда, когда ты был здесь; потом ты ушел, а мысль осталась.
Мысль осталась, а меня больше не было с тобой рядом. Я не могу сказать, что не заметил, как произошел переход. Или точнее – переброс? Я стоял, подперев собой притолоку и слышал слова Алины: «Я бы хотела поговорить…»
В это мгновение отрезало звук, и почти сразу свет тоже померк, но продолжалось это так недолго, что я не мог бы сказать определенно, был ли мрак вообще – может, мне только показалось от страха. Просто в следующее – третье по счету – мгновение я увидел стены своей квартиры и не сразу понял, что стою у письменного стола, а правой рукой крепко держусь, чтобы не упасть, за выступ книжной полки.
Первым моим ощущением, когда я пришел в себя, была злость. Не знаю, что происходило, и какая сила позволяла Алине неожиданно появляться здесь, а мне – в Москве, но почему эта сила, чем бы она ни объяснялась, выбросила меня обратно в самый серьезный для нас с Алиной момент? Я должен быть с ней, почему мне не дозволено там быть?
Возможно, при зрелом размышлении я поразился бы легкости, с которой принял собственную – и Алинину – способность перемещения в пространстве. Человек, видимо, может приспосабливаться ко всему и поступать согласно изменившимся обстоятельствам. Думать можно потом. Удивляться – тоже. Возможно, даже с ума сойти от удивления или страха. Но – потом. А сейчас я разозлился на проклятую природу. Я должен быть с Алиной!
Чтобы принимать решение, нужно знать хотя бы, на каком я свете. Либо я могу вновь оказаться в Москве, либо это теперь физически невозможно. В первом случае я должен был лишь пожелать – не знаю как, не знаю что, но действие могло быть результатом желания. Во втором случае все усложнялось неимоверно – покупка билета, виза, потеря времени, сколько: день, два, неделя? Что будет с Алиной?
Зазвонил телефон, но я не обратил на него внимания. Почему-то именно сейчас, в момент, абсолютно не подходящий, в пальцах возник знакомый мне зуд, а в голове зажужжал невидимый и неощутимый приборчик – где бумага, где ручка, где хотя бы угол стола, куда можно положить лист? Зачем мне это сейчас?
«Ничто не разделимо, – бежали буквы независимо от моего желания. – И ничто не соединимо вне воли твоей. То, что прошло, будет опять, а то, что будет, уже было с тобой. Сложности не понимаешь. Единение достижимо».
И все? Господи, Экклезиаст выискался! «Что было, то и будет». Сказал бы еще: «Время бросать камни, и время собирать камни».
Я сел на диван – недавно здесь сидела Алина – и закрыл глаза, пытаясь утишить боль, полыхнувшую в затылке. Пожар распространялся на височные доли, но и ослабевал понемногу – будто раньше горел высокий лес на небольшом участке, а теперь тлела трава, выгорая до черноты.
Все. И теперь я действительно знал что делать.
Глава десятая
Лет десять назад, когда я еще был научным работником и занимался проблемами воздействия слабых электромагнитных излучений на человеческую психику, на семинаре возник спор о том, помогает ли стресс введению мозга в критический режим восприятия. Спор был схоластическим – экспериментальных данных на этот счет не было ни у Олега Дозорцева, защищавшего тезис о положительной обратной связи, ни у моего шефа Дмитрия Алексеевича (это было еще до начала опытов с Росиным). Но ведь обычно так и бывает: чем меньше говорит практика, тем громче настаивает на своем теория.
Дмитрий Алексеевич настаивал на том, что стресс обязательно помогает восприятию, поскольку в такие минуты должен возникать резонансный отклик на внешние раздражители. Умно, конечно, и вполне аргументировано, на что Олег Сергеевич отвечал – и тоже вполне разумно, – что возбуждение коры ставит блок в восприятии, возникает плотина, нагромождение глыб-мыслей и эмоций, и прорваться сквозь плотину вряд ли способен даже мощный внешний раздражитель. Разрушить плотину – да, возможно, и в результате мы получим не восприимчивое к атаке сознание, а сознание, подавленное, сознание-зомби, разве это нам нужно?
Вообще говоря, нам – точнее, институтскому начальству – нужно было именно это, но на семинарах и в открытую о подобных планах говорить было не принято, и потому Дмитрий Алексеевич тактично свернул дискуссию с опасного направления. Но тезис я запомнил, обдумал и с аргументами Олега Сергеевича согласился.
После гибели Никиты я вспомнил ту дискуссию и даже сделал кое-какие сопоставления. Похоже, что Дозорцев (к тому времени в институте он уже не работал, и спорить было не с кем) более правильно смотрел на вещи, чем мой шеф, а с ним и вся наша лаборатория. Стресс мешает. Если бы Никита был спокоен во время сеансов, мы имели бы гораздо более объективную информацию о произошедшем. Не исключено, что он остался бы жив. Нужно было вводить реципиенту успокаивающие препараты перед началом сеанса, а не те возбуждающие подсознание средства, от которых ждали истинного прорыва.
В спокойном мозгу вообще нет плотин, ограждающих сознание от внешнего воздействия. Спокойный и вяло реагирующий на раздражители мозг – плохой материал для экспериментов. Обычный средний человек, довольный собой в каждый момент времени, ничего особенного не желающий и никакими комплексами не отягощенный – разве это материал для исследований?
Для тех работ, что мы вели в институте, – конечно, не материал. Но если говорить не о подавлении личности, а о взаимодействии двух или больше мозговых излучений, то прав был Дозорцев, а не мой шеф.
И разве я не знал этого уже много лет назад? Почему мне нужно было напоминать сейчас, причем так грубо, навязчиво и в то же время неопределенно?
Трудно поступать вопреки тому, что хочет подсознание и что сознанию тоже представляется необходимым и естественным. Мне нужно было торопиться, потому что в Москве Алина наверняка потеряла голову от страха. Я должен был собраться и все мысленные силы направить на то, чтобы повторить – не знаю как, но повторить непременно, потому что от этого зависело наше с Алиной будущее – эффект пространственного переброса. Вместо этого я заставил себя открыть холодильник и достал упаковку элениума, лежавшую здесь с прошлого года, когда я собирался на интервью в Технион и волновался, будто не на должность лаборанта претендовал, а, по крайней мере, на должность президента самого крупного в Израиле вуза.
Элениум мне тогда не помог. Точнее, приехал я в Хайфу спокойный, будто Будда перед учениками, и со стороны выглядел, должно быть, уверенным в себе гением, но к тому времени газетное объявление стало уже не актуальным: должность оказалась занята, со мной и говорить не стали, даже не извинились. Впрочем, за что и кто должен был передо мной извиняться?
Спокойный, как река Волга в среднем течении, я вернулся домой, а когда действие лекарства закончилось, впал в депрессию, из которой Лика выводила меня несколько дней, а я упирался, мне не хотелось выбираться из темной пещеры на яркий дневной свет. Я хотел остаться в темноте навсегда.
До одури неприятное ощущение, и оно ждало меня опять – но не сейчас, а потом, когда элениум перестанет действовать.
Я проглотил капсулу, запил водой и вернулся в гостиную. Отчего я, собственно, нервничал? И отчего нервничала Алина? Не убивала она Валеру, ясно, что не убивала – не в ее характере подобные поступки, а человек никогда не сделает того, что не в его характере.
Я сел на диван, вытянул ноги – стены комнаты медленно вращались вокруг меня, как небесный свод вокруг Земли, и я прекрасно понимал, что на самом деле все наоборот – не комната совершала вокруг меня полный оборот, а я летел в пространстве мимо стен, огибая углы, и в полете мне хорошо, как в детстве. Хорошо, спокойно, тихо – звуки тоже увяли, чтобы не мешать полету.
Когда комната исчезла, я не удивился. Не то чтобы я предвидел этот момент, но разве могло быть иначе? Если летишь вдоль стен, то неизбежно когда-нибудь вылетишь за их пределы. Стена не Вселенная, нет в ней свойственной мирозданию бесконечности.
Но оказался я не в прихожей Алины, а совсем в другом месте, если то, что увидели мои глаза и услышали мои уши, можно было назвать местом. Место – это нечто трехмерное, куда можно поставить ногу, где можно осмотреться, пройти вперед, вернуться назад. Я же ощутил себя точкой на линии, протянутой из прошлого в будущее. Я смотрел вперед, вдоль – именно вдоль, а не в даль, – видел всю мою будущую жизнь, но из-за отсутствия перспективы не мог близкие события отделить от дальних, сегодня от завтра, а завтра от мгновения моей смерти. Оглянуться и увидеть мешанину из событий собственного прошлого я не мог тоже – точка не способна вращаться, это не шарик, а математическая абстракция. Поставили тебя на линию, вот и стой, и смотри вперед – или назад, – только в одном направлении.
Почему-то я знал, что именно сейчас обязан принять решение, слишком для нас с Алиной важное, чтобы поручить эту работу воле случая. На этой мировой линии была вся моя жизнь – чтобы я мог оценить последствия выбора, но события оказались перемешанными, и пользы от картины не было никакой.
Возможно, перспектива сказывалась в том, что близкие события выглядели крупнее, чем удаленные во времени? Но даже такой малости – определить размеры фактов, явлений и происшествий – я не мог сделать.
Я вглядывался вперед взглядом, таким же материальным, как материальны руки, пытаясь расслоить события, расположить одно за другим, но зрение не слушалось меня, как, бывало, не слушались пальцы – гаечки и маленькие винтики всегда выпадали из моих рук, и мне долго приходилось искать их на полу, а потом я не мог найти место, откуда они выпали, и в результате розетка в квартире оставалась висеть на честном слове, а в давние времена, если приходилось ремонтировать нужный для эксперимента прибор, мне почти каждый раз приходилось прибегать к услугам техников. А ведь я считался приличным экспериментатором, обо мне нельзя было сказать, что приборы начинают плавиться и отключаться при моем появлении в лаборатории. Но тонкие работы мне не удавались никогда, и сейчас из-под моего взгляда тоже посыпались и странным образом улетели в невидимое для меня прошлое мелкие ежедневные события, я не мог их собрать, а без них не существовало и моей жизни. Мне показалось, что из-за своей небрежности я на сколько-то часов или дней приблизился к собственной смерти. Нужно было, видимо, запаниковать, но ни малейших признаков паники я не ощущал (сказывалось действие элениума?) и сделал самое естественное: закрыл глаза, и события остановились, а может, и восстановились, я ничего не видел, но ощущение того, что я нахожусь на линии своей жизни и плавно перетекаю из прошлого в будущее через настоящее – точка перемещалась вдоль оси времени, – никуда не исчезло.
«Алина», – позвал я громким голосом, почему-то решив, что звуковые волны способны распространяться вдоль мировой линии в обоих направлениях и со скоростью, превышавшей способность взгляда проникать в будущее.
«Веня», – услышал я, но это был не голос Алины, а эхо моего собственного призыва, звук отразился от какой-то преграды в будущем и вернулся ко мне искаженным до неузнаваемости. Почему до неузнаваемости? Одно имя стало другим – вот и все. Причуды отражения.
Я должен был продвинуться вперед по оси, в этом и заключалось решение, зрение не могло мне помочь, а звук голоса способен был лишь исказить события, и лучше бы мне помолчать. Оставалась мысль. Чтобы сдвинуть точку в будущее, мысль должна быть направлена в прошлое – принцип ракеты, среди живых существ так способны двигаться, кажется, лишь каракатицы.
Неплохая идея, красивая и для фантастического рассказа, возможно, вполне пригодная. Мысль, направленная в прошлое, толкает своего носителя в сторону будущего. Но я-то здесь при чем – я, материальная точка на мировой линии? Какую мысль я должен был бросить в прошлое и как это вообще можно сделать?
Память. В прошлом нет ничего, кроме памяти, я должен оставить там свою. Очевидно? Нет, но ничего другого я не придумал, а память моя действительно была переполнена, от части ее я и в нормальных условиях с удовольствием отказался бы, вот только не придумали еще способа, как избавить человека от ненужных воспоминаний. Они, как белый слон, о котором не нужно думать, но только о нем и думается. Вспомнил, как незадолго до отъезда в Израиль обманул соседа по дому – не хотел я обманывать, я вообще не терпел лжи, но так получилось, нужно было выбрать: сказать правду и потерять довольно крупную сумму денег, необходимых перед дорогой в неизвестность, или солгать, а точнее – утаить информацию – и оставить деньги себе.
Я слишком часто вспоминал тот короткий разговор и собственное смущение, которое Артем Сергеич наверняка понял по-своему – он знал меня, как порядочного человека, и наверняка представить не мог, что я способен на ложь, чем бы она ни была вызвана. Я отбросил это воспоминание, размахнувшись, как бросают камень, и оно скрылось, исчезло – может быть, действительно в прошлом, я уже не помнил, о чем, собственно, в нашем прощальном разговоре шла речь. О деньгах? Почему обязательно о деньгах? Какие у меня могли быть с Артемом Сергеичем финансовые отношения?
Улетело. И еще была одна мысль – камень на душе, – от которой мне хотелось избавиться. Но ее я почему-то и вспомнить сейчас не мог. Будто ищешь в коробке с камнями нужный осколок породы, знаешь, что он там есть, может, даже и в руках его держал, но совершенно не помнишь, как этот осколок выглядит. Не выбрасывать же все содержимое! Да это и невозможно…
Воспоминание об Артеме Сергеиче все-таки произвело какое-то действие, потому что цвет будущего изменился – если то, что я видел, можно было определить каким-нибудь цветом, – и линия, точкой на которой я был всего миг назад, стала плоскостью, а потом приобрела и объем, размазанные цвета сгустились до четкости предметов, одновременно возник звук, и чей-то голос сказал:
– Извините, Алина Сергеевна, в это трудно поверить. Тело пролежало в вашей прихожей не меньше десяти-двенадцати часов, и вы хотите сказать, что не видели его?
– Не было никакого тела, – произнес голос Алины, усталый, как мироздание после двух десятков миллиардов лет бесполезной эволюции.
Я увидел, наконец: комната с побеленными стенами, сейф в углу, письменный стол, за которым сидел лысый мужчина в форме, узнать которую я был не в состоянии. Мужчине было лет сорок или чуть меньше, он был раздражен и не скрывал этого, а я сидел перед ним на стуле с низкой спинкой и не понимал, чего он от меня хочет, потому что задаваемые вопросы не имели смысла. Во всяком случае, для меня смысла в его вопросах не было никакого.
– Ну, как же не было? – мужчина не скрывал злости. – В чем вы меня хотите убедить?
– Послушайте, – произнес я, не удивившись, что говорю голосом Алины. – Я уже сказала вам, что Мельников пришел ко мне сегодня утром, в восемь часов с минутами. В чем хотите меня убедить вы?
Я сделал ударение на последнем слове, и следователь – теперь я понял, что передо мной за столом сидел старший следователь райотдела внутренних дел Дмитрий Матвеевич Бородулин, человек, в принципе, не злой, но доведенный до отчаяния моим нежеланием говорить то, что он хотел от меня услышать.
Бородулин поднял на меня удивленный взгляд – конечно, он понял, что Алина изменилась: минуту назад она была сломлена, паниковала, повторяла по сто раз одно и то же, и вдруг заговорила твердым голосом и задала вопрос, на который следователь, вообще говоря, не собирался отвечать. Роли изменились неожиданно, Бородулин не успел перестроиться и сказал, не задумавшись:
– В том я хочу вас убедить, что Мельников был убит между восемью и десятью часами вечера и лежал в вашей прихожей до позднего утра – вы ведь позвонили в милицию в девять часов семнадцать минут. Дома были вы, дома была ваша мать. Почему вы не сообщили об убитом еще вечером?
Это было неожиданное для меня заявление, и я понял, почему растерялась Алина. Мы-то оба знали, что Валера явился к Алине в восемь утра – ну, может, с минутами. Значит, Алина позвонила в милицию и дождалась приезда оперативников? А мама? Они при мне договорились встретиться. Мы были вместе, а потом я ушел – нет, какая-то сила выбросила меня, и я потерял время, пытаясь пробиться обратно. Пробился – перепрыгнув по линии времени на несколько часов или дней вперед. Что делала Алина, когда меня не было с ней? Я понятия не имел, что с ней происходило, сейчас я был не с ней, но был ею – и это оказалось еще хуже, чем если бы я остался в своей квартире и вообще не предпринимал никаких действий. Какие силы управляли мной?
Я растерялся. Я сидел – сидела – перед следователем Бородулиным и пытался (я никак не мог подумать о себе «пыталась», хотя и понимал, что сейчас я – Алина, и должен думать ее мыслями, поступать так, как поступила бы она… но где моя Алина на самом деле?) понять хотя бы последний вопрос, на который, похоже, и сама Алина не знала ответа.
– Вечером, – сказал я, и Бородулин бросил на меня внимательный взгляд. Должно быть, интонации моего голоса изменились, и он хотел знать, что со мной вдруг произошло, – вечером я вернулась из Израиля и рано легла спать, потому что была уставшей. Валера… Мельников встретил меня в аэропорту и хотел проводить, но я взяла такси…
– Это я слышал уже десять раз, – разочарованно произнес следователь.
– Хоть сто! – вспылил я. – Я приехала домой на такси.
– Да, это проверено, – сказал Бородулин. – Вы приехали на такси одна, хотя Мельников встречал вас в Шереметьево. Видимо, вы уже там повздорили, он последовал за вами в другой машине и вошел в квартиру через несколько минут после вас. Тогда и произошла между вами…
– Чепуха! – твердо сказал я. – Дома была мама, мы наскоро поужинали, потому что у меня не было сил, и легли спать. Валера… Мельников вернулся к себе домой, почему бы вам не проверить это?
– Проверили, конечно, – с удовлетворением сказал следователь. – Домой Мельников не возвращался. Его сестра утверждает, что он звонил из Шереметьева и сказал, что встретит вас и отвезет домой. Больше она не имела о брате никакой информации – пока ее не пригласили на опознание тела.
– Возможно, он отправился к приятелям, – предположил я без прежней уверенности в голосе.
– Он не отправился к приятелям, – хмуро сказал Бородулин. – И в ночные клубы тоже не отправился – конечно, мы не успели проверить все, их десятки, но в тех, что мы проверить успели, Мельников не появлялся. Послушайте, Алина Сергеевна, хватит, наконец, морочить мне голову! Женщины для расследования – тихий кошмар. Мужчина уже полностью признал бы вину под давлением фактов, мужчины умеют анализировать и понимают, когда факты неопровержимы и сопротивление бесполезно. А женщины от страха теряют голову, логики для них не существует. Но вы-то, Алина Сергеевна! Вы – женщина разумная, у вас ай-кю сто восемнадцать, у меня ниже, правда, я давно не проверял… Зачем вам отягощать собственную вину? Вот и ваша мама…
– Что мама? – перебил я. Этот вопрос и меня волновал – не знаю, каким образом тело Валеры могло оказаться в квартире вечером, когда он пришел к Алине утром, но мама должна была подтвердить все, что сказала дочь!
– В свое время я дам вам ознакомиться с ее показаниями, – сухо произнес Бородулин.
– Где она? – спросил я. – Ее тоже арестовали?
Не нужно было спрашивать! Я не знал ничего об Алининой матери, но Алина не могла, не должна была задать следователю такого глупого вопроса.
Бородулин поднял взгляд от бумаг и сделал неожиданный вывод:
– А вот это ни к чему, – жестко произнес он. – Не нужно валять Ваньку и изображать из себя жертву склероза. Это вам не поможет. Если вы сейчас заявите, что забыли собственное имя, я вам его напоминать не стану. Есть, знаете ли, предел и моему терпению.
Похоже, что я только навредил Алине – но не хотел этого. Неожиданно мне пришло в голову, что если я оказался здесь, в кабинете следователя, то Алина, точнее – ее сознание, могло вселиться в мое тело, и сейчас она, бедняжка, ничего не понимая (она ведь и о моих мучениях на мировой линии ничего не могла знать!), металась, скорее всего, по квартире в Кацрине, боялась отвечать на телефонные звонки, открывать двери, и я не представлял, что может произойти, если явится – или уже явилась – Лика и начала предъявлять свои на меня права. Нет, только не это…








