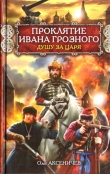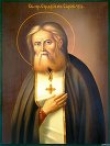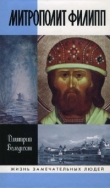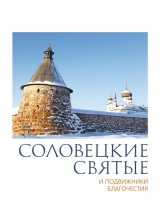
Текст книги "Соловецкие святые и подвижники благочестия:жизнеописания, некоторые поучения, чудесные и знаменательные случаи"
Автор книги: Павел Пономарев
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
ПРЕПОДОБНЫЙ ЕЛИСЕЙ СУМСКИЙ
Соловецкий святой преподобный Елисей (XV век – † XVI) жил и подвизался в Соловецкой обители во времена, близкие к преподобному Зоси– ме, и, быть может, был его сподвижником. Прибавление к его святому имени прозвища «Сумский» произошло от названия местечка Сумы, что на побережье Белого моря. Это – место преставления преподобного.
О совершившемся над Елиссеем чуде при обращении за помощью к святым Соловецким чудотворцам Савватию и Зосиме повествует игумен Вассиан, который был настоятелем в обители спустя не более 40 лет после преставления чудотворца Зосимы, и повествует об этом, как о давно бывшем и слышанном им от древнего старца. Старец тот представлен в повести игумена Вассиана современником преподобного Елисея.
Из жизни святого Елисея к настоящему времени только и остался известен этот один, пересказанный соловецким игуменом и связанный с чудом, его предсмертный подвиг, в котором ясно выразилось великое благочестие старца и горняя помощь, осенившая его по молитвенному заступлению преподобного Зосимы.

Четверо соловецких во Христе братьев– иноков: Елисей, Даниил, Филарет и Савватий – по благословению своего настоятеля ловили рыбу на реке Выг у порога Золотца, в 60 верстах от монастыря. Однажды, когда все они исправляли рыболовные сети, Даниил, по откровению ли Божию или по каким– либо внешним признакам, вдруг начал говорить Елисею: «Напрасно, брат, ты трудишься в исправлении этих сетей: не будешь ловить ими рыбу; к тебе приблизилась смерть, и ловля твоя окончилась» (1, с. 37 – 38). От этих слов Елисея объяли ужас и страх. Он начал скорбеть и тужить, но не потому чтобы боялся смерти, а от того, что не был еще пострижен в великий ангельский образ, то есть в великую схиму. На месте же том не было священноинока, который мог совершить пострижение. Уныние в его душе возросло до изнеможения телесных сил. Сердобольные во Христе братья утешали его, убеждая положиться на волю Господа, Который всюду и всех назирает Своим всевидящим оком; видит Он и их нужду и силен исполнить всякое желание, когда призывают Его от всей души и чистым сердцем. В заключение, видя в старце Елисее умножающиеся скорби и болезнь тела, предложили ему, чтобы он, став пред невидимое Божие присутствие и прочитав «Достойно есть», с крестным знамением, сам возложил на себя схиму, призывая в помощь и содействие молитвы и благословение преподобных Савватия и Зосимы. Братский совет Елисеем был принят и исполнен.
Настала ночь. Больной был положен в постель. Упокоились сном подле него и утомленные братья. Но когда они встали от краткого сна, то больного брата Елисея с ними в келье уже не было. Отправились они на поиск и встретили его идущим к ним навстречу из леса и без схимнической одежды. На вопрос о случившемся он объявил: «Множество бесов пришли к нам в келью, напали на меня с яростью, силою увлекли от вас, сорвали с меня схиму, но святой преподобный Зосима отъял меня у них» (1, с. 38). Схима была найдена заброшенной на дерево.
Братия решили везти преподобного Елисея за 60 верст в Суму, где при монастырском подворье находился иеромонах, который мог совершить постриг. Положили больного в судно и пустились вниз по реке Выг. Эта река, по сильной быстроте и множеству подводных каменных порогов, к плаванию весьма неудобна. Братия часто приходили в смятение от опасностей, но преподобный Елисей ободрял их, говоря: «Не бойтесь, здесь с нами отец наш Зосима» (1, с. 38). Наконец без вреда проплыли они опасную реку, вышли в море и достигли пристанища в реке Вирме. Больной между тем более и более изнемогал и не переставал сокрушаться о лишении схимы.
Опять настала ночь. На Вирме братия переменили судно и взяли себе в помощь для дальнейшего плавания несколько человек. Когда они находились на середине Сумской губы, началась великая буря, волны уподобились горам, на судне разорвался парус, сломалась мачта, весла выбило волнами из рук гребцов. К тому же налегла такая тьма, что путешественники едва видели друг друга. Все были в отчаянии, наемники–помощники роптали и укоряли иноков, но болящий не малодушествовал, его успокаивало дивное видение из иного мира. «Не бойтесь и не скорбите, братия, говорил он, едва дыша от изнеможения; я вижу нашего отца Зосиму с нами на судне, – он помогает нам; все это случилось с нами по действию диавола, желающего погубить мою душу, но Бог, по молитвам преподобного Зосимы, истребит супостата» (1, с. 39).
Вскоре ветер начал утихать, волны улеглись, на море водворилась тишина. Путешественники очутились близ сумского пристанища, которого уже не надеялись видеть, в ночной тьме отдавшись на волю волнам без паруса и весел.
Пристав к берегу, они с ужасом увидели, что больной скончался, и радость их мгновенно превратилась в плач. С горькими слезами они взывали к преподобному Зосиме: «Преподобный отец наш, надеясь на твои молитвы, какой мы вынесли труд, какую вытерпели в море беду, – и вот теперь все это напрасно. Что надеялись получить, не получили!» Но…
Спустя некоторое время, в усопшем обнаружилось движение, отворились его уста и он начал говорить.
На подворье преподобный Елисей был пострижен в великий ангельский образ и сподобился причастия Божественных Таин Тела и Крови Христовых. Затем он прославил Бога и, простившись со всеми, почил о Господе. Тело его погребено было за алтарем церкви святителя Николая с южной стороны.
Проходили годы, многими было забыто и его имя. Спустя более столетия, гроб с мощами подвижника вдруг обнаружился на поверхности земли, и вскоре последовали явления преподобного и исцеления больных.
В 1668 году в Сумской острог был послан царский стольник Александр Севастьянович Хитрово, который, после тщательного исследования этих чудесных здешних событий, поставил над гробом преподобного небольшую часовню.
Позднее о преподобном Елисее было совершено и второе исследование. Оно происходило в 1710 году, по указу архиепископа Холмогорского Рафаила, при Соловецком архимандрите Фирсе.
По свидетельству «Соловецкого патерика», изданного в Москве в 1906 году, гробница этого преподобного Божиего угодника находилась под алтарем новой деревянной церкви. Над ней стояла новая деревянная рака с изображением на верхней доске лика преподобного. Святому Елисею служилось много и молебнов и панихид. После каждой Божественной литургии прихожане почитали своим долгом сходить на поклонение преподобному. У его честных мощей совершались исцеления. Отправляясь в морские плавания, беломорские мореходы и промысловики испрашивали у святого преподобного Елисея благословения и молитв.
В настоящее время почитание преподобного возрождается. Больше и больше людей обращаются к нему в своих молитвах, просят его небесного заступления и помощи.
Память преподобному Елисею Сумскому, Соловецкому совершается:
– 14/27 июня;
– в Соборе Соловецких святых – 9/22 августа;
– в Соборе Карельских святых —суббота между 31 октября /13 ноября и 6 /19 ноября;
– в Соборе Новгородских святых– 3-я Неделя по Пятидесятнице.
СВЯТИТЕЛЬ ФИЛИПП, МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ, ЧУДОТВОРЕЦ
О жизни выдающегося Московского первосвятителя и чудотворца Филиппа(1507 – † 1569), мужественно приявшего мученическую кончину ради Христа и Его Святой Церкви от рук распоясавшихся злодеев, существует великое множество как церковных, так и светских исследований и публикаций. В основу настоящего его житийного очерка лег материал, помещенный в «Соловецком Патерике» московского издания 1906 года и дополненный из некоторых других современных источников.
Святитель Филипп происходил из знатного боярского рода Колычевых. Он родился 11 февраля / 24 февраля 1507 года, был первенцем в семье и во святом крещении был наречен Феодором. Его отец, московский боярин Стефан Колычев, был близок к великому князю Василию Иоанновичу. Мать, боярыня Варвара, заметно отличалась своим христианским благочестием и преставилась от земного своего жития в иноческом постриге с именем Варсонофия. Образование будущий Христов святитель с ранних лет получал по церковным книгам. В училище, куда отрок был отдан для «книжного учения», он особенно полюбил духовное чтение и «в ранних летах выказывал особенное благочестие» (1, с. 45).
В правление великой княгини Елены Феодор поступил на службу к великокняжескому двору, где был знаком с Иоанном – будущим царем Иоанном IV Грозным. Положение его было блестящим. Малолетний Иоанн IV принял его в круг своих приближенных. Но не было сердце Феодора привязано к мирским почестям и славе. В 1537 году, 5 июля, в третье воскресение по Пятидесятнице, «он пришел в храм, и на литургии услышал евангельский глас: никто не может служить двум господам, ибо или одного он будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому нерадеть(Мф. 6: 24)» (1, с. 45).
Вдруг эти слова, и прежде неоднократно слышанные Феодором, благодатно подействовали на него. Они подвигли молодого боярина отвергнуть всё мирское и удалиться в пустыню. Ему было известно о дальней Соловецкой обители, о подвигах ее основателей, преподобных Савватия, Зосимы и Германа, и он решился навсегда уйти туда от мира и всех его соблазнов.
Втайне от всех, переодевшись в простую одежду, он скрылся из Москвы и безвестным странником направил свой путь на Север.
У Онежского озера, в деревне Хижи (хижины), он прожил некоторое время у благочестивого селянина Субботы. Феодор делил с ним труды и заботы по хозяйству, отчего внешность его изменилась, и нелегко уже было узнать в сельском пастухе прежнего царедворца. Приближалась осень, и Феодор покинул гостеприимного хозяина, желая достичь Соловецкого острова до наступления зимы.
Игумен Алексий (Юренев) и братия с любовью приняли нового послушника. Более полутора лет проходил он нелегкие послуша–ния: трудился на огородах, расчищал и удобрял бедную и каменистую соловецкую почву. Ради смирения он не пожелал открыть кому‑либо своего мирского звания и прошел суровый путь обычного монастырского трудничества, бывал множество раз унижаем и даже бит некоторыми неразумными насельниками монастыря. Но он не гневался, с терпением и кротостью переносил все выпадавшие испытания. Феодор приводил иноков в удивление той решительностью, с какой старался им подражать, отсекая от себя мирския страсти. Настоятель и братия, видя его благое произволение к подвижничеству, сочли его достойным иноческого чина. Феодор был пострижен и наречен Филиппом. Но причисление его к монашескому чину не отменило тяжелых его трудов. Он сначала много и охотно потрудился в кузнице, где общение с огнем постоянно напоминало ему о неугасимом гееннском огне, потом в поварне, потом в хлебной пекарне, где колол дрова, носил воду, топил печи.
Там почтила его молитвы и труды Своим явлением Сама Пресвятая Богородица. Она оставила иноку Филиппу Свой образ, получивший название «Хлебенная» или «Запечная». Это было удивительное знамение того, что не иерархическая или иная высота служения приближает нас к Богу, но чистосердечная ревность в прохождении любого, данного нам от Господа, житейского поприща.
Новоначальный инок был отдан на послушание иеромонаху Ионе, опытному подвижнику, который в юности своей был собеседником преподобного Александра Свирского, тогда уже прославленного в лике святых. Старец Иона радовался о своем ученике и пророчески говорил о нем братии: «Этот будет настоятелем в святой нашей обители» (1, с. 47).
Так, будущему настоятелю дали послушание при храме, в качестве екклисиарха, то есть наблюдающего за правильным чином совершения богослужений. И здесь усердное исполнение своих обязанностей снискало ему всеобщее уважение и любовь. Но даже тень славы человеческой смущала инока Филиппа, и он удалился из монастыря в пустынь, ныне называемою Филипповской.
Много лет прошло в уединении и в сокрытых от посторонних глаз подвигах. Когда он возвратился в обитель, игумен Алексий приблизил его к себе и сделал помощником по разным частям монастырского управления. В 1548 году игумен пожелал передать управление монастырем уже проверенному подвижнику Филиппу. Неоднократно отец Филипп отказывался от звания настоятеля, но игумен Алексий, в душе похваляя смирение избранного им преемника, созвал братию, и, объявив о своей старости и немощах, спросил, кого бы по нем изволили они в настоятели. Братия согласно назвали Филиппа достойнейшим из всех. Тогда, не смея прекословить общему решению, инок Филипп отправился с несколькими уважаемыми соловецкими старцами в Новгород к архиепископу Феодосию, который рукоположил его во пресвитера и вручил ему игуменский жезл.
Престарелый игумен Алексий со всей братией торжественно встретили нового настоятеля на пристани с крестным ходом, ввели в храм и поставил на почетное игуменское место. Сохранилась в истории и дата – 17 августа 1548 года, когда игумен Филипп со– борно совершил свою первую Божественную литургию.
Но «духовная карьера» не интересовала отца Филиппа. Он оставался прежде всего монахом, сердце которого всецело принадлежит только Богу. Монастырское настоятельство же и впоследствии другие высокие назначения он принимал «за послушание» воле Божией и из любви к Божиему народу.
Спустя немного времени силы игумена Алексия стали восстанавливаться, и игумен Филипп упросил его продолжать правление обителью, обещая полное послушание. Отец Алексий вторично принял жезл правления и еще полтора года был настоятелем. Отец Филипп удалился в свою любимую пустынь, и еще более строгой, чем прежде, была его жизнь.
Игуменство святителя Филиппа на Соловках продолжалось 18 лет, считая до дня поставления и до призвания на Всероссийскую митрополию. Уже через десять лет усиленного монашеского подвига «никто из иноков житием, разумом и опытностью» не мог сравниться с отцом Филиппом (12, с. 169).
Соловецкий патерик так повествует о деятельности святого игумена: «На всем легла печать его мудрой прозорливости, не только для тогдашнего, но и для будущего благоустройства обители». Время его настоятельства «…напечатлелось в Соловецкой обители неизгладимыми чертами: там, поистине, если бы умолкли люди, возопили бы самые камни» (1, с. 49).
Монастырское хозяйство, в то время, когда инок Филипп стал игуменом, требовало немалых забот. Еще оставались последствия сильного пожара, произошедшего в 1538 году. Игумен Филипп увеличил число соляных варниц на морском берегу шестью новыми. Царь Иоанн Васильевич в 1548 году разрешил безпошлинно продавать и закупать необходимое. В монастыре готовились к большому строительству: был поставлен кирпичный завод, проводились дороги, было проведено лесоустройство с тем, чтобы беспорядочные рубки не истощали лес. Множество озер острова, общим числом 52, были соединены каналами и сведены к монастырю, у восточной стены которого игумен Филипп благословил копать большое озеро, ныне называемое Святым. За счет системы каналов монастырь был не только обеспечен запасом питьевой воды, но и стены его получили дополнительную защиту с восточной стороны. В то время еще не было тех стен и башен, которые привычны для взора нашего современника, и поэтому для обороны монастыря озеро имело важное значение. В самом монастыре игумен благословил построить корпуса для братских келий в два и три этажа. В гавани Большого Заяцкого острова он соорудил каменную пристань с необходимыми постройками.
При столь нелегких трудах игумен Филипп не усомнился приступить к строительству соборного храма в честь Успения Божией Матери. В храме также предполагалось возвести придел в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи и присоединить к храму просторную трапезную палату. Надеясь на помощь Государя, игумен Филипп обратился за помощью в Москву. Иоанн IV Грозный был в то время особенно щедр к Соловецкой обители и пожаловал монастырю в 1550 году Колежемскую волость, а в следующем году деревню Сороцкую (Сорока, ныне Беломорск), где при Троицкой церкви первоначально был погребен преподобный Савватий.
Успенский собор был возведен искусными новгородскими зодчими. В 1557 году, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, игумен Филипп освятил новый храм.
Вскоре после освящения Успенского собора игумен Филипп объявил братии о своем намерении построить еще более великолепный храм в честь Преображения Господня. Часть иноков высказывала опасение, что нет достаточных средств.
Уповая на Божию помощь, игумен Филипп приступил к строительству. Спасо – Преображенский собор был заложен в 1558 году. «С особенною любовию занимался Филипп сооружением этого храма; все делалось под неусыпным надзором его: своими руками он участвовал в работах, примером своим возбуждая ревность в работавших» (1, с. 51).
Строительство при игумене Филиппе завершено не было, но он успел приготовить утварь, сосуды, образа, ризы, кадила, серебряные подсвечники, цветные стекла для окон, и под папертью, с северной стороны, ископал себе могилу.
Тщательно потрудился будущий всероссийский архипастырь над увековечением памяти о первоначальниках Соловецкой обители и о ее славных подвижниках. То, что ныне известно о них нашему современнику, стало возможным во многом благодаря заботе святого Филиппа. Им было устроено нечто, подобное монастырскому музею, где хранилось множество святынь и монастырских реликвий, в том числе, разысканных им лично. Особо почитаемы были: икона Пресвятой Богородицы Одигитрии, с которой сам преподобный Савватий–чудотворец прибыл на остров, Псалтирь преподобного чудотворца Зосимы и его священнические ризы. Всё было искусно отреставрировано и описано.
И не только в самой обители проявились благие плоды его трудов. В монастырских волостях он входил во все нужды крестьян, вплоть до того, что из монастыря отпускали дрова для варки соли в деревнях. Игумен сам указывал, когда и какие работы проводить, и какими семенами засевать поля. Наиболее вредные пороки – пьянство, а также, как и сейчас, распространившиеся азартные игры – были им запрещены под угрозой изгнания нарушителей из монастырских волостей.
Но более всего игумен Филипп конечно уделял внимание духовной жизни братии. «Переходя от подвига к подвигу, возвышаясь от добродетели к добродетели, он действовал на сердца примером гораздо более, чем словами, – силой любви несравненно более, чем силой власти».
Четверо подвижников, подвизавшихся в обители под игуменским началом будущего святителя–священномученика Филиппа, прославлены Церковью в лике святых. Это – преподобные Вассиан и Иона Пертоминские и святые миряне Иоанн и Лонгин Яренгские.
Близилось время, когда игумен Филипп должен был навсегда покинуть Соловецкую обитель и взойти к высокому служению митрополита всея Руси.
Помимо прочих важных обстоятельств, внимание царя Иоанна Грозного к Соловецкой обители было связано, с тем, что он лично с детства был знаком с игуменом Филиппом и благоволил ему. Царь неоднократно призывал подвижника в Москву. В 1566 году святой Филипп был вызван особой грамотой «духовного ради совета». Свой путь в столицу соловецкий настоятель направил через Новгород. Граждане древнего города просили его быть их заступником перед царем, зная о случающихся страшных проявлениях гнева Грозного. Игумену шел уже 60–й год.
А дело оказывалось в том, что в 1566 году Русская первосвятительская митрополичья кафедра стала свободной, и для поставления на нее нового достойного митрополита выбор многих русских епископов и царя пал на соловецкого игумена. Царь объявил прибывшему игумену Филиппу, что по его державной воле и соборному избранию тому должно стать митрополитом. Игумен просил со слезами просил Грозного царя не налагать на него столь тяжкого бремени: «Нет, милосердый Государь, не разлучай меня с моею пустынею; не налагай на меня бремени выше сил. Отпусти, Господа рада, отпусти; не вручай малой ладье бремени великого» (12, с. 171).
Но царь Иоанн был непреклонен и поручил архиереям и боярам уговорить Филиппа. Тогда, пламенно помолившись Богу, Пречистой Владычице и святым Божиим угодникам, соловецкий игумен согласился принять этот высокий сан лишь с условием, что будет уничтожена или хотя бы ослаблена «опричнина», от которой исстрадалась тогда Русская земля.
Святитель Филипп был посвящен в митрополита Московского и Всея Руси 25 июля 1566 года. Сам царь казался растроганным миролюбивой речью новопоставленного митрополита.
Благодаря святому Филиппу были помилованы многие из тех, кто выступал против опричнины. При дворе же митрополита встретили враждебно. Не найдя поддержки в Земской Думе и в членах Священного Собора, он один мужественно противостоял грозному царю в его политике кровавого террора, порой отказывая ему в первосвятительском благословении. Сам Иоанн Грозный не выказывал еще гнева, но в особой грамоте повелел «архиепископам и епископам сказать Филиппу, чтобы он отложил свое требование, не вступался бы в дела двора и опричнины» (1, с. 56). Но на святого подвижника не действовали ни угрозы, ни попытки опорочить его имя. Свое первосвятительское дело защищать невинных он считал богоугодным и правым и поэтому, отстаивая правду, готов был пострадать даже до смерти.
В те же годы, приняв на себя бразды всероссийского духовного управления, святитель Филипп «как бы не отлучался духом от своей возлюбленной пустыни» (1, с. 56). Он постоянно помнил о соловецкой братии и с радостью принимал приезжавших из монастыря. На дворе митрополии он выстроил храм в честь Соловецких Чудотворцев. Им были отданы распоряжения об окончании различных работ, которые не были завершены в его бытность на Соловках.
И не напрасно душа святого Филиппа порой тосковала по мирной Соловецкой обители: над главой митрополита собиралась грозная туча.
В январе 1568 года царь вернулся в Московский Кремль после кратковременного пребывания в Александровской слободе, в этом своем укрепленном загородном дворце среди опричников. Дело было связано с переводом туда Опричного Двора и переездом туда царской семьи. Тогда же, в январе, Иоанн IV собрал Думный Собор, на котором он объявил боярам и духовенству «свою царскую мысль, чтобы ему свое Царство разделити и свой царский двор учинити в Александровской слободе. И на се бы его благословили» (12, с. 171). Целью царских действий было также продолжение расследования «государственного заговора» в Земщине и желание покончить со всеми, кто, как представлялось царю, сочувствовал этому «заговору». Подозреваемых либо казнили, либо грабили до последней нитки. По мысли царя, напуганные расправами знать и духовенство должны были бы «на всяко дело без рассуждения благословляти [царя] и волю его творити и не разгневати» (12, с. 172).
Действительно, не только бояре, но и епископы, договорившиеся перед Собором крепко стоять против опрично–земского двоевластия на Руси, убоялись «царева страха» и доброго «своего начинания отпадоша» (12, с. 172). Святитель Филипп не устрашился и без помощников вступить в подвиг. Он, единственный из участников Собора, кто последовательно отрицал существование «заговора». Сначала наедине, потом в собраниях он стал обличать царя. «Государь царь! – мужественно говорил святитель – различай лукавого от правдивого; принимай добрых советников, а не ласкателей. Грешно не возбранять согрешающим, но зачем разделять единство державы! Ты поставлен от Бога судить людей Божиих в правду, а не представлять из себя мучителя. Обличи тех, кто неправо говорит пред тобою…» (1, с. 58 – 59). Святитель боролся против возведения опричных властей на вершину государственного управления, потому что способ проведения этой «реформы» опирался на ложные обвинения (мнимый заговор).
После таких слов митрополита царь бывал мрачен и задумчив. Малюта Скуратов и Василий Грязной умели пользоваться таким настроением государя и всё более разжигали его гнев на праведные слова святителя. Система управления государством, основанная на обмане, к которой подталкивали Иоанна IV ласкатели–опричники, для своего поддержания требовала дальнейших преступлений, множивших страдания по всей стране. Это хорошо понимал мужественный печальник о Божием народе – святитель Филипп. Наконец он во всеуслышание призывает царя: «Не посрами веру делами ненавистными!» (12, с. 172). Видя, что Собор в страхе безмолвствует, святитель обратился духовной мощью своего первосвятительского гласа и к тогдашним епископам: «Что устрашаете– ся правду глаголати? Ваше бо молчание цареву душу влагает в грех, а ваши души – на горькую погибель, а Православную веру – на скорбь и смущение!» (12, с. 172). Они же стояли со смиренным видом, но были молчаливыми делателями предательства и пособниками зла в угоду заблуждающемуся царю.
Когда же царь окончательно разгневался на святого, тогда некоторые также стали досадовать, обвиняя мужественного святителя, якобы в пренебрежении им государственными интересами: «Добро было во всем царя слушати, и на всяко дело без рассуждения благословляти…» (12, с. 172). Так повествуют летописцы тех времен.
Скорбных же святитель Филипп с твердостью утешал и ободрял: «Се секира лежит при корени, но не страшитесь, помня, что не земные блага, а небесные обещает нам Бог. А я радуюсь, что могу пострадать за вас. Вы – мой ответ пред Богом, вы – венец мой от Господа» (1, с. 59).
После событий этого зимнего Собора, святитель Филипп уже не имел возможности лично общаться с царем. Государь Иоанн Васильевич Грозный был как бы пленен «идеологами» новых форм государственного управления. По матушке–Руси прокатились волны репрессий тех, кто чем‑либо выказал недовольство системой опичнины. Совершая богослужения, мужественный старец– митрополит утешал паству: «Гоподь не оста–вит нас искуситься выше силы нашей и не попустит до конца пребыть в прелести сей!» (12, с. 172). Пророческие слова святителя исполнились. Совсем вскоре царстующая династия Рюриковичей, к которой принадлежал Иоанн IV Грозный пресеклась совсем.
В одно из воскресений марта 1569 года, когда митрополит–исповедник стоял на своем святительском месте в Успенском соборе Московского Кремля, царь Иоанн с опричниками, в черных рясах поверх кафтанов и в высоких черные шапках, вошли на богослужение. Царь трижды наклонял голову, желая получить благословение от архипастыря, но святитель Филипп не отводил глаза от святого образа, пред которым молился. Свита заговорила вслух: «Владыко святый! Царь Иван Васильевич всея России требует твоего благословения» (1, с. 60).
Святитель Филипп обратился к царю с обличительной речью:
«– Сколько страждут православные! У татар и язычников есть закон и правда, а у нас нет их; всюду находим милосердие, а в России и к невинным нет жалости…
Царь Иоанн шептал угрозы, стучал жезлом о плиты помоста, и, грозя рукою, произнес:
– Филипп, как смеешь ты противиться нашей державе! Посмотрим, велика ли твоя крепость» (1, с. 60).
Теперь участь митрополита была решена, но царь не спешил наложить на него руки. Была открыта дорога клеветникам. Сам же царь избегал встречи с митрополитом. Святитель Филипп переехал из Кремля на Никольскую улицу, в Никольский монастырь. Летом произошло событие, которое дало Грозному повод начать следствие.
Святитель Филипп служил в Новодевичьем монастыре и совершал крестный ход в присутствии царя. Когда крестный ход достиг Святых Врат и митрополит перед чтением Евангелия повернулся к народу, чтобы преподать: «Мир всем», он вдруг увидел одного из опричников, стоящего в головном уборе. Святитель указал царю на кощунствующего, но пока царь обернулся, тот уже успел обнажить голову. Тогда царь Иоанн назвал митрополита обманщиком и мя–тежником. Митрополичьих бояр взяли под стражу и пытали. Их пытки не дали результатов, и обвинить святителя было не в чем. Тогда в Соловки был послан недоброжелатель митрополита, епископ Пафнутий с архимандритом Феодосием, князем Василием Темкиным, дьяком Пивовым и военным конвоем. Посланные расточали сначала деньги, а потом прибегли к угрозам, желая склонить соловецких иноков на какое‑либо лжесвидетельство. Тогда епископ Пафнутий прельстил игумена Паисия, и тот, в свою очередь, прельстив нескольких монахов, направился вместе с посланцами в Москву, желая возвести клевету на святого.
Иоанн Грозный повелел боярам и епископам собраться в Успенском соборе для открытого суда над митрополитом. После чтения доносов святитель Филипп, не считая нужным оправдываться, обратился к Грозному с такими словами: «Царь! ты напрасно думаешь, что я боюсь тебя или смерти. От юности находясь в пустыне, я сохранил доселе честь и целомудрие… Я умираю, желая лучше оставить по себе память невинного мученика, нежели человека, о котором могли бы сказать, что он, оставаясь митрополитом, терпел неправосудие и нечестие» (1, с. 62).
После этих слов первосвятитель начал слагать с себя знаки своего достоинства, но царь остановил святого, сказав, что ему должно ждать соборного определения, и просил его через три дня служить Божественную литургию в Успенском соборе Кремля. Во время этой службы в храм вошел Алексей Басманов с опричниками, и, кощунственно прервав богослужение, стал читать обвинительный свиток на митрополита. После его прочтения опричники набросились на святителя и стали срывать с него священные одежды.
Затем святителя Филиппа, насильно одетого в рваную монашескую рясу, били метлами по спине, посадили на телегу и повезли из Кремля. Народ, видя бесчестье митрополита, перегородил Никольскую улицу. Тогда святой Филипп возвысил свой первосвятительский голос:
– Дети! Все, что мог, я сделал; если бы не любовь к вам, и одного дня не остался бы я здесь; уповайте на Бога! (1, с. 62 – 63).
Праведника взяли под стражу, поместив в Богоявленский монастырь. На следующий день его с поруганием привезли в митрополию, где его встретил царь с епископами и опричниками. Здесь же он встретил своего преемника по соловецкому игуменству Паи– сия, оклеветавшего своего архипастыря и собрата по монашеству. Здесь благодать Святого Духа укрепила святителя и он последний раз публично в лицо обличил царя.
По знаку Ивана Грозного святого ввергли в темницу. Он был в оковах. Связка соломы служила ему постелью. В то время возраст его был 62 года.
Неделю узнику не давали пищи, надеясь уморить его голодом. Когда к нему вошли посланные от царя, то увидели его стоящим на молитве и свободным от оков. Иоанн Грозный, узнав об этом, воскликнул: «Чары! Чары! [Колдовство!]» (1, с. 64).
Запретив разглашать об этом чудесном событии, он велел затворить вместе с узником изморенного голодом медведя. Утром царь пришел сам и увидел, что святой молится, а зверь, не трогая его, спокойно лежит в углу.