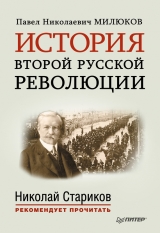
Текст книги "История второй русской революции"
Автор книги: Павел Милюков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 59 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Влияние неудачи наступления.На следующий день, 9 июля, катастрофа, начинавшаяся на театре войны, дошла до сознания даже тех политиков, которые за шумом внутренней партийной борьбы не хотели знать о том, что делается на фронте. В настроении исполнительного комитета военная неудача на фронте отразилась полным состоянием паники, при котором советские деятели ни о чем другом не могли думать и говорить, кроме угрожающей им «контрреволюции», военной диктатуры и т. п. В этой обстановке и вопрос о реорганизации правительства получил новое освещение. Вожди «революционной демократии» вспомнили про пример Франции и решили, по предложению Дана, превратить министерство в «комитет общественного спасения». В ночь на 11 июля 262 голосами при 47 воздержавшихся (большевиках) была принята следующая резолюция меньшевиков и социал-революционеров: «1. Страна и революция в опасности. 2. Временное правительство объявляется правительством спасения революции. 3. За ним признаются неограниченные полномочия для восстановления организации и дисциплины в армии, для решительной борьбы со всякими проявлениями контрреволюции и анархии и для проведения всей той программы положительных мероприятий, которые намечены в декларации. 4. О своей деятельности министры-социалисты докладывают объединенному собранию исполнительных комитетов не менее двух раз в неделю».
На этот раз правительство, видимо, не обнаружило особой благодарности за двусмысленный дар, наделявший его в полном составе правами, которыми отнюдь не обладал сам даритель. За этот дар министры-социалисты обязывались к сугубой отчетности «не меньше двух раз в неделю». Обеспечив декларацией свой фланг слева, со стороны Советов, правительство начинало размышлять о том, как обеспечить фланг справа, со стороны Государственной думы. Оно употребило для этой цели меру, не менее странную, чем мера, принятая относительно него самого исполнительным комитетом. Неожиданно для всех оно нашло и ввело в свой состав общественных представителей «буржуазии». 11 июля читатели газет прочли, что член Государственной думы И. Н. Ефремов назначен министром юстиции, а член Государственной думы Барышников – управляющим министерством призрения. При всей личной безупречности обоих трудно было догадаться, на чем основано их право представлять «буржуазию» во втором коалиционном кабинете. В 4-й Думе они принадлежали к пестрой группе прогрессистов: ко времени назначения вошли в новую никому не известную «радикально-демократическую» партию. Никакого проявления личной энергии, особенно важной в ведомстве юстиции после восстания, от них ожидать нельзя было. Быть может, в этом и заключался секрет их назначения, чрезвычайно раздражившего то учреждение, к которому они формально принадлежали: Государственную думу, узнавшую об их назначении уже post factum. Свое отношение к окончательно сформированному правительству Временный комитет Государственной думы выразил в новом постановлении от 12 июля. «Правительство, назначенное группой отдельных политических партий, – заявляла Государственная дума, – и принявшее в свой состав случайно подобранных лиц, не представляющих мнения многих влиятельных кругов населения, не может осуществить задачу спасения родины от внешнего врага и от внутреннего распада». Для этого нужно «правительство сильное, облеченное общим доверием, свободное от всяких партийных пут и стремящееся к одной общей цели», указанной выше. «Если правительство не отказалось от мысли о единении всех живых сил страны, оно не должно под видом коалиции проводить простое подчинение страны ее социалистическому меньшинству. Это тем более недопустимо и пагубно, что... именно деятельность некоторых социалистических партий повинна в разложении армии, в окончательном разрушении гражданского мира и в ослаблении трудовой дисциплины народа, то есть в устранении тех основных условий, без которых невозможно продолжение войны и восстановление внутреннего порядка». «Не в углублении партийных задач, а в объединении всех политических направлений и всех общественных слоев» комитет видел выход и «слагал с себя ответственность за последствия», к которым мог привести осуждаемый им способ составления нового правительства.
Заявления комитета Государственной думы, отражавшие настроения весьма широких и влиятельных общественных кругов по отношению к новому правительству, произвели должное впечатление. На заседании Временного правительства 12 июля И. В. Годнев обратился к правительству с предложением дать всем общественным слоям, не представленным в Советах, в том числе и Государственной думе, возможность быть выслушанными правительством и для этого собрать, помимо того съезда Советов, который был назначен на 15 июля, более широкое по составу собрание в Москве, например, 18 июля, в котором участвовали бы, помимо Советов, также и Государственная дума, городские думы, торгово-промышленный класс, кооперативы, профессиональные союзы, университеты и т. д. Предложение было поддержано А. В. Пешехоновым и А. Ф. Керенским. Последний на следующий день, сделав свой официальный визит исполнительному комитету и пригласив его на московское совещание в полном составе, сделал затем также визит и Временному комитету Государственной думы. Против «московского земского собора» высказался открыто только Мартов, обвинявший правительство, что оно хочет в этом собрании «растворить русскую демократию». По существу, конечно, совещание собиралось по приглашению и выбору правительства и получало самое большее лишь совещательный голос, если только дело не должно было ограничиться выслушиванием одних правительственных докладов. Такая постановка дела, разумеется, была глубоко отлична от претензии Советов трактовать правительство как свой подчиненный орган и в таком качестве передать ему «чрезвычайные полномочия». В этом противопоставлении, которое возвращало правительству всю первоначальную полноту его власти, заключался весь политический смысл московского совещания. Этого не могли, конечно, не чувствовать ни правительство, ни Советы. То обстоятельство, что правительство смоглопровести подобное решение, а Советы стерпели его, показывало действительно, как глубоко изменилось соотношение сил после вооруженного восстания 3-5 июля и прорыва в ближайшие дни русского фронта.
Новые переговоры с к.-д. Перерыв переговоров.Но этого мало. Раз уже решено было созвать московское совещание и дать перед ним отчет, естественно, возник дальнейший вопрос: может ли правительство рассчитывать на дружественный прием, если предстанет перед собранием в том составе, который уже вызвал нарекания. При посещении
А. Ф. Керенским председателя Государственной думы, которому он передал приглашение на московское совещание, М. В. Родзянко ответил, что правительство должно предварительно сформироваться при участии Временного комитета Государственной думы. И на заседании министров 13 июля было решено, что все министры вручат А. Ф. Керенскому свои портфели, чтобы дать ему возможность вступить в новые переговоры с общественными деятелями о пополнении и изменении состава Временного правительства. Так как главным препятствием для переговоров с несоциалистическими партиями было то, что последние вовсе не желали признать зависимости правительства от Советов, то А. Ф. Керенский стал на новую точку зрения. Он заявил, что будет подбирать членов кабинета индивидуально, независимо от их партийной принадлежности, и они не будут считаться официально делегированными и ответственными перед своими партиями, как это было при первой коалиции. Так как это освобождало и министров-социалистов от формальной ответственности перед их партийными организациями, то ЦК партии народной свободы охотно разрешил своим членам, к которым А. Ф. Керенский обратился лично, В. Д. Набокову, Н. М. Кишкину и Н. И. Астрову, вступить в прямые контакты с министром-председателем. В то же время А. Ф. Керенский завел контакты и с представителями торгово-промышленного класса, от имени которого в Петрограде выдвигалась кандидатура Н. Н. Кутлера, в Москве – С. Н. Третьякова.
На 14 июля московские кандидаты были вызваны в Петроград и вступили с ведома и при участии ЦК партии народной свободы в переговоры с Керенским. Результаты этих переговоров были закреплены в следующих семи пунктах условий, поставленных Астровым, Кишкиным и Набоковым А. Ф. Керенскому и изложенных в их письме от 15 июля: 1. Чтобы все члены правительства, к какой бы партии они ни принадлежали, были ответственны исключительно перед своей совестью и чтобы направление их деятельности и само пребывание их в составе правительства не могло ни в коей мере вести к вмешательству в дела государственного управления каких бы то ни было организаций или комитетов. 2. Чтобы правительство ставило себе в области внутренней политики исключительной целью охрану завоеваний революции, не предпринимая никаких шагов, грозящих вспышками гражданской войны, а потому осуществление всех основных социальных реформ и разрешение вопросов о форме государственного строя должны быть безусловно отложены до Учредительного собрания.
3. Чтобы в вопросах войны и мира был соблюден принцип полного единения с союзниками. 4. Чтобы были приняты меры к воссозданию мощи армии путем восстановления строгой военной дисциплины и решительного устранения вмешательства комитетов в вопросы военной тактики и стратегии (мотивировку этого пункта см. ниже). 5. Чтобы в основу внутреннего управления было положено начало уничтожения многовластия и восстановления порядка в стране и решительная борьба с анархистскими, противогосударственными и контрреволюционными элементами; чтобы возможно скорее была создана правильная организация местной администрации и начали действовать правильно избранные органы местного самоуправления. 6. Чтобы была восстановлена правильная деятельность государственного суда и чтобы деятельность следственной судебной власти была свободна от вмешательства партийных или иных несудебных элементов. 7. Чтобы выборы в Учредительное собрание были произведены с соблюдением всех гарантий, необходимых для выражения подлинной народной воли, с предоставлением заведования производством выборов правильно избранным органам местного самоуправления и учреждениям, образованным при их участии, и с обеспечением свободы предвыборной агитации».
Здесь впервые с такой подробностью и полной определенностью была развита программа, рассчитанная на восстановление условий, без которых немыслимы ни победа над врагом, ни правильное выяснение народной воли, призванной решить основные вопросы русского будущего. Программа была внепартийной и общенациональной, так как она устанавливала лишь общие условия всякойкультурной государственности. В эти рамки не могли быть вложены только антигосударственные и утопические стремления, разрушавшие сами формы законной парламентской борьбы.
Убедившись на опыте, что недостаточно ввести желательные положения в программу, чтобы обеспечить их осуществление в коалиционном правительстве, ЦК партии народной свободы на этот раз решил поставить вопрос о гарантии добросовестного отношения к коалиционной программе. Самой действенной гарантией в этом случае являлось установление такого личного состава и численного соотношения между двумя элементами правительства, при котором социалистическая половина не могла бы проводить свои партийные решения. С этой целью необходимо было прежде всего изменить состав несоциалистической части правительства, удалив лиц, никого не представлявших и обнаруживших слишком мало способности или желания вести принципиальную защиту программы, выставленной к.-д. и поддержанной Государственной думой. С другой стороны, нужно было ввести в несоциалистический состав, помимо членов партии к.-д., всегда признававшей себя надклассовойпартией, также и представителей подлинной крупной буржуазии, торгово-промышленного класса. Наконец, из состава министров-социалистов ЦК считал необходимым удалить В. М. Чернова, как министра, преследовавшего помимо правительства свою личную политику по вопросу громадной важности и в полном противоречии с основными положениями (2-м и 5-м) программы к.-д.
Первые личные переговоры с А. Ф. Керенским показали, что со всеми основными положениями программы 15 июля он согласен, не возражает и против переговоров с торгово-промышленниками, но решительно не может ставить вопроса об удалении Чернова. Со своей стороны В. Д. Набоков, Н. И. Астров и Ф. Ф. Кокошкин, которых партия ввела в переговоры, решительно отказались входить в кабинет, если там останется В. М. Чернов. ЦК партии, однако, решил не настаивать на удалении Чернова, если будут приняты программа и численный состав кандидатов, предложенных партией. Отъезд А. Ф. Керенского на фронт (15 июля вечером) на время приостановил переговоры. 19 июля они вновь возобновились с В. Д. Набоковым и приехавшими вновь из Москвы Н. М. Кишкиным, Н. И. Астровым и новым кандидатом П. И. Новгородцевым. Положение за эти четыре дня успело несколько измениться: оказалось, что коллеги А. Ф. Керенского вовсе не идут на такие серьезные перемены, каких требовали к.-д. «Правительство действительно, – заявлял И. Г. Церетели журналистам, – ввиду исключительной серьезности положения страны желало бы привлечь в свой состав новых лиц из кругов, которые готовы встатьна почву правительственной декларации 8 июля». Переговоры об этом велись «не с партиями, а с общественными деятелями, которые полностью без урезок могли бы принять программу правительства...Если бы таких лиц не оказалось», то правительство останется «в нынешнем его составе»; «все слухи о кризисе Временного правительства и о возможности пересмотра его программы совершенно не соответствуют действительности». Церетели прибавлял, что «это есть мнение всего правительства». И действительно, Н. В. Некрасов, обычно бравший на себя задачу информировать печать, сообщил журналистам, что «правительство прочно стоит на своей программе (8 июля) и с нее не сойдет: переговоры, стало быть, могут вестись лишь в пределах этой программы». «Твердая власть... должна действовать... в направлении, диктуемом главными задачами великой русской революции»; и хотя «свобода действий», данная Керенскому подавшими в отставку министрами, «имеет большое принципиальное значение», но располагать «несвободными постами он может лишь в исключительном случае», а требование, чтобы «тот или иной министр» оставил свой пост (здесь подразумевается Чернов), «нерационально и нетактично», ибо «в этой области приходится считаться не с лицами, а с теми мощными организациями, из среды которых они вышли».
Ультимативная постановка Церетели означала в сущности отказ от продолжения переговоров, ибо была равносильна отказу от выставленной к.-д. программы. Но, возможно, что у Церетели была тут и другая мысль – та, которую он высказал на объединенном заседании исполнительных комитетов Советов, обсуждавшем между прочими вопрос о кризисе власти. Церетели откровенно признался тут, «что прошел период розовой мечтательной юности революции», что теперь «методы идейного воздействия бессильны в борьбе с анархией», а «ждать и ослаблять борьбу с ней нельзя». В итоге, «если наступит момент, когда революционная демократия окажется не способной осуществить возложенные на нее задачи, то надо будет оставить власть».Нельзя было яснее сказать, что в сущности к.-д. правы, что толькоих методы могут спасти революцию от «контрреволюции» и что социалистическая тактика, не способная к применению этих методов, обанкротилась окончательно. Не смея сказать этого вполне открыто, Церетели совсем прозрачно подводил своих товарищей к выводу, что спасти революцию могут только к.-д., почему ими надо предоставить власть. Лично себеЦеретели во всяком случае своим ультиматумом готовил возможность ухода. Это вскоре и подтвердилось фактически.
На переговорах 19 июля сказалась характерная для А. Ф. Керенского психологическая невозможность двинуться ни вправо, ни влево. При этой политической психологии никакое сколько-нибудь глубокое примирение партийных разногласий в коалиционной программе не было возможно. Возможно было лишь их механическое сосуществование. Избавиться от неизбежно вытекавших отсюда трений и конфликтов А. Ф. Керенский мог только одним путем: подбирая себе сотрудников, личные отношения к которым или их природная мягкость позволяли ему закрывать глаза на кричащие противоречия жизни и сознательно длить иллюзию «розовой мечтательной юности революции».
Первоначально намеченные А. Ф. Керенским кандидаты, быть может, и удовлетворяли этой цели. С одной стороны, нужно было успокоить влиятельные общественные слои, недовольные фиктивным представительством «буржуазии» в правительстве, а с другой стороны, приходилось оставить все по-прежнему. Но Керенский выдвинул наряду с приемлемыми для него кандидатурами также и кандидатуры иного характера (как П. И. Новгородцева и Ф. Ф. Кокошкина). Когда же он очутился лицом к лицу с ультиматумом Церетели и других вождей Советов, ему пришлось круто повернуть. Еще среди дня 19 июля он готов был уступить требованию к.-д., по крайней мере не упоминатьв своем письменном ответе им о неприемлемой для них декларации 8 июля. Ночью он вернулся к требованию Церетели: «вся программа полностью и без урезок». Уже не ожидая исхода дальнейших переговоров, напуганные давлением слева друзья Керенского информировали печать той же ночью, что А. Ф. Керенский решительно ни в чем не расходится с Церетели и что комбинация с к.-д. наверняка не состоится. Утром 20 июля Керенский поспешил прервать переговоры, обещавшие накануне удовлетворительный исход. Он сделал это, сообщив одному из участвовавших в переговорах, что текст его письменного ответа к.-д., вызывавшего разногласия, есть текст «окончательный».
21 июля ответ Керенского появился в печати вместе с письмом по этому поводу к Керенскому В. Д. Набокова, П. И. Новгородцева и Н. М. Киш-кина, ведших переговоры 19 июля. Вот что писал А. Ф. Керенский.
«Ознакомившись с письмом Вашим от 15 июля (см. выше), я утверждаю (как фактто, чего к.-д. требовали как основного условия,не находя этого условия во Временном правительстве), что Временное правительство... не отвечает ни перед какими общественными организациями или партиями, а лишь по совести своей и разумению перед страной». Отсюда, однако, А. Ф. Керенский довольно неожиданно выводил лишь то, что партийное заявление трех к.-д. «не может служить препятствиемдля вхождения в состав Временного правительства». Однако же программа к.-д. «не препятствует» их вступлению в кабинет только при условии,что они готовы будут исполнять чужую программу и притом ту самую, из-за которой к.-д. покинули состав коалиционного правительства. Это правительство, по заявлению Керенского, «в деятельности своей будет неизменноруководствоваться теми положениями, которые изложены в его декларациях 2 марта, 6 мая и 8 июля».Итак, Церетели не приходилось уходить: ультиматум был принят.
Не входили в правительство к.-д., но, по сообщению Н. В. Некрасова печати (21 июля), это «не значило, что правительство отказалось пополнить свой состав вообще». Н. В. Некрасов даже поспешил для вящего успокоения прибавить: «В настоящее время ведутся переговоры с рядом лиц, в результате вступления которых в состав правительства последнее приобретет радикально-демократический характер». В эти дни говорили о вступлении самого Некрасова в «радикально-демократическую» партию.
Со своей стороны В. Д. Набоков, П. И. Новгородцев и Н. Астров, констатируя сложившееся положение, писали Керенскому. «В... переговорах с нами вы выразили ваше согласие с изложенными нами заявлениями (15 июля), а затем высказали готовность подтвердить это согласие и письменно. К сожалению, при дальнейших переговорах и ранее, чем мы имели возможность закончитьобсуждение вопроса о нашем вступлении, выяснилось существенное и принципиальное разногласие между нами в основном вопросе об отношении одобренной вамипрограммы к прежней программе и деятельности Временного правительства. Вы находили необходимым подчеркнуть, ...что... вступление наше во Временное правительство не может изменить его деятельности. Мы со своей стороны полагали, что само обращениеваше свидетельствовало о желании поставить Временному правительству новые задачи, осуществляемые на новых основаниях». Эти основания, заявленные в программе 15 июля, «совершенно подрываются внесением в текст письма» ссылки на декларацию 8 июля, «изданную после уходак.-д. из правительства и во многих отношениях неприемлемую». Вступление к.-д. при подобных условиях было бы лишено «всякого политического значения».
Вопрос казался исчерпанным. На съезде партии народной свободы, начавшемся в Москве 23 июля, отказ к.-д. войти в кабинет был одобрен после блестящих речей П. И. Новгородцева и А. А. Кизеветтера, показавших собранию, что социалистам нужно было использовать политический авторитет к.-д. для проведения собственных партийных задач. Но уже за два дня до этого вотума одобрения положение опять совершенно переменилось. Всему съезду к.-д. пришлось спешно переезжать из Москвы в Петроград, чтобы принять участие в решении вопроса о новом вступлении к.-д. в правительство.
Дело в том, что в течение 20 и 21 июля легкомысленная уверенность Н. В. Некрасова, что отказ к.-д. не помешает правительству составить коалиционную власть путем введения фиктивных политических величин от «радикально-демократической партии», рушилась. Она уступила место ясному сознанию, что создавать буржуазное правительство для проведения социалистических задач – значит решать вопрос о квадратуре круга. Встретив сопротивление со стороны к.-д., Керенский очутился в полном тупике, после того как, с другой стороны, И. Г. Церетели заявил ему, что его партия берет назад данное ей Керенскому полномочие для составления кабинета. В довершение всего соперник Керенского по партии В. М. Чернов выбрал момент кризиса, отчасти связанного именно с его пребыванием в правительстве, для того, чтобы заявить (20 июля) о своем выходе из правительства. Он мотивировал свою отставку желанием вернуть себе «полную свободу действий в качестве защищающего свою политическую честь и преследующего клеветников частного лица».
Действительно, в числе мотивов, побуждавших к удалению Чернова из правительства, были, помимо употребления им власти для партийных целей, также и глухие слухи о его прошлом, бросавшие тень на его личную репутацию. Говорили о каких-то документах, известных господам Бурцеву и Щеголеву, которые «при известном толковании» могли быть поняты неблагоприятно для Чернова. В последние дни заговорили определеннее, что речь идет о денежной поддержке Германией и Австрией русских эмигрантов для специальных целей – использовать их для пропаганды среди русских военнопленных. Пораженческие идеи, пропагандировавшиеся Черновым в его парижском органе «Жизнь», были хорошо известны товарищам-эмигрантам. А документы департамента полиции говорили о германских субсидиях «Комитету интеллектуальной помощи русским военнопленным», организованному ближайшими единомышленниками Чернова, переехавшими из Парижа в Женеву после закрытия «Жизни»: Натансоном, Камковым и другими при участии самого Чернова в октябре 1915 г. В книжках, издававшихся комитетом журнала «На чужбине», который бесплатно рассылался на германские средства по лагерям военнопленных, Чернов действительно принял участие своими статьями. Во всем этом, даже помимо слухов об отношении Чернова к «экспроприациям» 1905 г. было достаточно оснований, чтобы сделать необходимым для политического деятеля в положении Чернова обращение к той или иной форме реабилитации.
Первое впечатление публики при уходе министра земледелия было, что он вынужден был уступить требованиям товарищей (называли особенно Некрасова и Терещенко), для которых его дальнейшее присутствие в кабинете было невыносимо, и что он лишь воспользовался неблагоприятными слухами о себе как предлогом для приличного ухода. Но скоро стало ясно, что Чернов вовсе не намеревается серьезно уходить. От партийных товарищей социал-революционеров Керенский получил настоятельные просьбы рассмотреть в самом спешном порядке дело Чернова в Министерстве юстиции и реабилитировать «селянского» министра.
Отставка Керенского. Совещание партий в Зимнем дворце.
В шесть часов пополудни 21 июля после двухчасового заседания министров в Зимнем дворце (куда Керенский переехал на жительство после восстания 3-5 июля) А. Ф. Керенский заявил, что ввиду непреодолимых трудностей для создания нового правительства на единственно правильных основах он возвращает данное ему полномочие образовать кабинет и слагает с себя звание члена кабинета и министра-председателя. В письменной форме, переданной министрам через Н. В. Некрасова около 7 часов вечера, отказ был изложен в следующих выражениях: «Ввиду невозможности, несмотря на все принятые мною к тому меры, пополнить состав Временного правительства так, чтобы оно отвечало требованиям исключительного исторического момента, переживаемого страной, я не могу больше нести ответственности перед государством по своей совести и разумению и поэтому прошу Временное правительство освободить меня от всех должностей, мною занимаемых».
Политическая позиция А. Ф. Керенского к этому времени была значительно подкопана как неудачей наступления на фронте, на которое он потратил столько личных – явно бесплодных – усилий, так и «соглашательской» тактикой внутри без малейшей надежды примирить два враждующих лагеря и построить на этом примирении сколько-нибудь определенную и последовательную внутреннюю программу. Однако же до тех пор, пока ни один лагерь – ни социалистический, ни «буржуазный» – не считал возможным взять себе всювласть, «соглашательская» политика являлась неизбежной. Единственный видный лидер, связавший свое имя с этой политикой, естественно являлся неизбежным посредником между обоими лагерями. Мы уже видели, что ультимативная тактика Церетели скрывала за собой вовсе не желание взять власть, а, наоборот, желание отдать ее обратно. Церетели, несомненно, хотел вернуть себе свободу критики по отношению к правительству и тем восстановить серьезно пошатнувшееся влияние в Советах. Керенский играл наверняка, отказываясь от власти и отлично зная, что в данный момент эта власть не может перейти ни к кому другому. И Церетели тоже играл наверняка, зная свою цель – уход от власти – и выбирая, хотя и косвенный, но все же верный путь к этой цели.
Что было делать правительству в целом? Первое движение было – всем отказаться. Но это настроение быстро прошло, как только Н. В. Некрасов заявил, что, замещая председателя, он уходить в отставку не может. Правда, к этому времени назначенный им самим срок пребывания в правительстве восьмого июля – две недели – уже прошел. Ясно было, что то, что не удалось Керенскому, не может удаться и его товарищам. Оставалось, следовательно, либо обратиться за созданием новой власти к учреждениям, создавшим прежнюю, то есть к Государственной думе и Советам, либо сообща обсудить вопрос, не предрешая его, со всеми видными политическими факторами столицы. Но Государственная дума и Советы находились в открытом конфликте, и их правовое отношение к революционной власти было слишком различным. Ввести их в одно заседание с комитетами политических партий было гораздо и легче, и удобнее для правительства. При этом способе правительство оставляло за собой окончательное решение. На таком способе и остановились. Члены кабинета немедленно объехали лидеров партий и пригласили их собрать свои руководящие органы в достаточном числе, чтобы компетентно выразить партийное мнение к девяти часам вечера того же дня 21 июля в Малахитовом зале Зимнего дворца.
Это было единственное по составу и цели собрание, в котором встретились, чтобы тотчас снова разойтись в разные стороны, вчерашние политические противники, привыкшие говорить на разных языках. Найдут ли они общий язык, хотя бы в эту минуту великих затруднений для родины внутри и вовне? Несомненно, торжественная обстановка заседания и мрачная трагичность момента сказались на тоне и характере прений. Политические позиции, давно занятые в ежедневной борьбе, несколько сдвинулись навстречу друг другу. Но, конечно, ошибались те, неисправимо легковерные обыватели, которые вдруг поверили и стали ждать, что принципиальные разногласия сразу исчезнут, и борцы за непримиримые между собой мировоззрения бросятся в объятия друг друга. Было известно, что социал-демократы относятся к собранию с полным скептицизмом и приходят, уверенные заранее, что из него «ничего не выйдет». Они явились преимущественно с целью подловить своих противников и из пикантной встречи извлечь новый полемический материал. Иначе были настроены несоциалистические элементы. На их правом фланге сосредоточились самые оптимистические надежды.
С половины одиннадцатого вечера (21 июля) это «историческое» заседание затянулось до седьмого часа утра (22 июля). Открыл заседание Н. В. Некрасов в качестве заместителя председателя и, сообщив об отставке Керенского, указал на три возможности, которые стояли перед правительством: или вернуть власть первоисточнику (комитету Думы и Совету), или вручить полномочия какому-нибудь одному лицу для составления кабинета, или, что, собственно, и было сделано созывом совещания, выслушать мнение политических организаций.
Очень значительная часть речей, произнесенных на собрании, совершенно не касалась вопроса о способе создания власти, поставленного Некрасовым. Ряд ораторов в более или менее ярких выражениях рисовал ужасное положение страны, грозящую ей катастрофу, чрезвычайно тяжелое экономическое и финансовое положение, полное разложение власти на местах, разрушение армии и т. д. Большая часть этих ораторов призывала отбросить партийные разногласия, объединиться «в этот грозный момент» и создать единую власть, которая вывела бы страну из катастрофического положения. Таковы были речи Годнева, Терещенко, И. Н. Ефремова, В. Н. Львова, Н. Д. Авксентьева, Б. В. Савинкова, М. И. Скобелева. В некоторых речах звучали истерические ноты, Терещенко впадал в панику, Савинков кончал глухой угрозой диктатуры, которая выйдет из армии, большинство цеплялось за А. Ф. Керенского, которому верит народ. Многие возмущались, как можно в такую минуту плодить речи, но прибавляли собственные речи к другим, не двигая вопроса с места.






