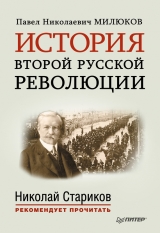
Текст книги "История второй русской революции"
Автор книги: Павел Милюков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 59 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
В ожидании демонстрации 18 июня руководители большинства съезда решили сделать левым настроениям еще одну уступку, кроме упразднения Государственной думы. 15 июня в газетах появилось постановление Временного правительства о назначении сроком созыва Учредительного собрания 30 сентября, а сроком выборов —17 сентября 1917 г. Как раз в тот же день появилось сообщение «особого совещания по созыву Учредительного собрания», из которого было видно, что это совещание, составленное из лучших знатоков и убежденных демократов, признало большинством 26 против 12, что при самой напряженной работе выборы в Учредительное собрание не могут быть произведены раньше двух месяцев со времени образования волостных и городских органов самоуправления на демократических началах, которые должны были подготовить эти громоздкие выборы и создать для них нормальные условия. Было известно, что органы самоуправления будут введены повсеместно только к 1 октября, но, следовательно, ближайшим сроком выборов могло быть только 1 декабря, иначе пришлось бы поручить составление списков и проведение других подготовительных мер тем или другим партийным организациям, созданным «явочным порядком», по шутливому выражению революционного жаргона. Понятно, что такие выборы не могли предоставить никаких гарантий свободы и беспристрастия. Прекрасно сознавая все это, Церетели тем не менее должен был во что бы то ни стало провести в министерстве ультимативное требование съезда, и он это сделал. Более совестливых министров утешали тем соображением, что все равно невозможное не станет возможным и придется вновь переменить решение, которое принимается исключительно, чтобы смягчить напряженность текущего момента. Так, подчиняясь влияниям съезда, Временное правительство вступило на почву безответственной демагогии и сознательного лицемерия.
Наступил день 18 июня – день «мирного шествия организованных невооруженных групп к Марсову полю, к могилам жертв революции», по точно определенному церемониалу, выработанному особой «комиссией по устройству манифестации». Партийные организации приглашались, помимо своих собственных лозунгов, «выдвигать также лозунги, общие всем партиям, с целью подчеркнуть политическое значение манифестации 18 июня как манифестации единства революционной демократии».
Каковы же были эти «общие всем» лозунги? Организационная комиссия снова вытаскивала лозунг: «Сплотимся против контрреволюции вокруг Советов», «Мир без аннексий» и т. д., «Революционный интернационал», «Через Учредительное собрание к демократической республике». Органы печати, одни с недоумением, другие со злорадной иронией, отмечали, что между этими лозунгами не было одного, основного: «Поддержка коалиционного правительства». «День» говорил накануне демонстрации: «Если большевики, полагающие, что надо свергнуть Временное правительство, имеют смелость выйти с этим на улицу, то вы, полагающие, что Временное правительство надо поддержать и укрепить, также обязаны иметь мужество выйти с этим лозунгом на улицу. Иначе Россия в день 18 июня по вопросу о Временном правительстве узнает только это “Долой”! И не узнает оно, что главари, инициаторы манифестации, думают совсем другое: да здравствует Временное правительство».
С другого фланга «Правда» напечатала в тот же день издевательскую статью: «Долой десять министров-капиталистов. Вся власть Советам. Это говорим мы. Это скажет вместе с нами, мы уверены, громадное большинство петроградских рабочих и Петроградского гарнизона. Ну а вы, господа? Что скажете вы по важнейшему из всех вопросов? Вы выдвигаете лозунг: “Полное доверие’, но... но только Советам, а не Временному правительству. А куда же девалось полное доверие Временному правительству, господа? Этого лозунга не найти ни в “Рабочей газете”, ни в “Известиях”, ни в “Деле народа”.. Почему прилипает у вас язык к гортани?.. Дело сводится к следующему. В широчайших кругах петербургских рабочих и солдат коалиционное министерство за месяц-полтора скомпрометировало себя безнадежно. Несостоявшаяся демонстрация 10 июня продемонстрировала это вам с полной очевидностью. Наиболее чуткие из вас не могут не заметить того, что идти теперь к петроградским рабочим и солдатам с лозунгом “Доверие Временному правительству” – значит вызвать недоверие к себе самим».
Это было метко и верно. Воззвание организационного комитета партий социал-демократов только подтверждало эти обвинения, находя лишь смягчающие обстоятельства в том, что Советы «подчиняли своей воле Временное правительство», под их давлением оно действовало и будет впредь «творить ихволю – или исчезнет, будет заменено другим – волей и решением Советов». Эсеровская «Воля народа» употребляла официальную формулу съезда: «объединение масс вокруг Советов, поддерживающихправительство» и осторожно объясняла, что «съезд Советов не желает забегать вперед развития событий»,что народные массы необъятной России еще слабо организованы, еще не проникнуты глубоко социалистическими идеями. При таких условиях переход всей власти к Советам грозил бы вызвать в стране междоусобицу, оттолкнуть от революции умеренные и малосознательные элементы». И тут, следовательно, правительство терпелось как временное зло. Только плехановская организация «Единства» призывала своих единомышленников участвовать в демонстрации под лозунгами: «Да здравствует твердая демократическая власть», «Да здравствует объединенное правительство и Учредительное собрание». Партия народной свободы приглашала своих сторонников воздержаться от всякого участия в демонстрации и не выходить на улицу.
Не вышли на улицу не только «буржуи». Значительная часть петроградских рабочих и солдат также уклонилась от участия в демонстрации. Преобладающим элементом в процессии были женщины и подростки. В толпе не было никакого энтузиазма. Бросалось в глаза непропорционально большое количество знамен и плакатов, очевидно, рассчитанное на гораздо большие размеры манифестации. Среди лозунгов, конечно, преобладали большевистские. На немногие знамена с надписями о поддержке Временного правительства производили систематические нападения.
Клиенты дачи Дурново решили использовать день демонстрации для набега на тюрьму, в которой содержался редактор «Окопной правды» Хаустов. Они увлекли часть демонстрантов с Выборгской стороны к зданию тюрьмы и предъявили начальнику тюрьмы требование об освобождении нескольких арестованных. Семь названных анархистами лиц были выпущены из тюрьмы и отведены на дачу Дурново. Тогда правительство предписало через министра юстиции произвести обыск на даче и арестовать виновных. В 4 часа утра дача Дурново была окружена несколькими ротами Преображенского и Семеновского полков и полусотней казаков. Министр юстиции Переверзев лично начал переговоры с анархистами, требуя выдачи освобожденных ими арестантов. Анархисты отказались. Тогда солдаты вошли в дачу, разбив прикладами двери и окна. Навстречу первым ворвавшимся была брошена бомба, которая, к счастью, не разорвалась. Это раздражило солдат. Со штыками наперевес они бросились осматривать отдельные комнаты. 60 человек было арестовано, а анархист-уголовник Аснин при взломе одной из дверей был убит случайным выстрелом. В числе арестованных оказались кронштадтский матрос Железняков и несколько матросов судна «Пересвет», что привело кронштадтскую «республику» к решению поставить министру юстиции ультимативное требование о выдаче арестованных, а в случае отказа – двинуться на Петроград с оружием в руках.
На следующий день после неудавшейся демонстрации большевиков полупустые накануне улицы Петрограда наполнились густыми толпами народа. Впрочем, по ироническому замечанию левой печати, это был не «народ», а «публика». Они вышли на улицу не для исполнения партийного приказа, не для «подсчета сил», а для выражения охватившего их порыва. Дело в том, что в столице с утра распространились известия о начавшемся наступлении на фронте, а среди дня появился в печати приказ Керенского по армии и флоту от 16 июня, телеграмма Керенского кн. Львову с предложением наименовать начавшие наступление полки «полками 18 июня» и вручить им «красные знамена революции». В этих документах было много риторического преувеличения и намеренного расчета на впечатление. Но после длинного ряда сведений о не исполняющих приказы частях, о дезертирах, о митингующих солдатах, после тяжелых впечатлений бессилия власти и прогрессирующих захватов всевозможных самочинных организаций, среди всей это картины распада и беспомощности наступление 18 июня было первым светлым лучом, который давал какую-то надежду на будущее. На минуту казалось, что здесь, наконец, достигнута цель создания коалиционной власти и оправдано ее существование. Все, кто чувствовал себя подавленным событиями последних дней, почувствовали возможность и потребность выпрямиться и громко торжествовать начавшееся оздоровление русского национального организма и русской революции. Вот почему без всякого предварительного сговора на улицу высыпала совсем другая публика, чем та, которая демонстрировала накануне.
В импровизированных шествиях, на многолюдных митингах, в речах известных ораторов чувствовалась живая радость, пред которой все партийные счеты отступили на второй план. Плакаты в честь Керенского и Временного правительства, одушевленные демонстрации перед посольствами союзных держав – все это было так непохоже на то, что происходило на тех же улицах накануне, что к чувству торжества невольно примешивалось чувство недоверия. Неужели все это прочно? Неужели это не эпизод, который пройдет без следа, а начало нового перелома, обещающее прекрасное продолжение?.. Под впечатлением удачного наступления даже в речах Либера и Церетели перед петроградским Советом зазвучали новые ноты, и большинством 472 голосов против 271 и 39 воздержавшихся это уже склонявшееся к большевизму собрание приняло патриотическую резолюцию «горячего привета» солдатам на фронте, внесенную Войтин-ским. Речь Чернова уже была встречена на этом собрании негодующим возгласом: «Давно ли вы прибыли из Циммервальда?» Увы, этому порыву суждено было продержаться недолго.
Национальные вопросы и кризис министерства.В своих последних заседаниях перед закрытием (27 июня) съезд Советов спешно заслушал ряд докладов по специальным вопросам. В этом числе был и доклад Либера о национальном вопросе, сделанный 20 июня.
В третьем пункте принятой съездом резолюции содержалось знаменитое требование, чтобы Временное правительство издало декларацию о «признании за всеми народами права самоопределения вплоть до отделения,осуществляемого путем соглашения во всенародном Учредительном собрании». Уже из этого конца фразы видно, что намерения съезда в национальных вопросах не шли так далеко, как его формула. В 5-м пункте съезд «решительно высказался противпопыток разрешения национальных вопросов до Учредительного собрания явочнымпорядком, путем обособления от России отдельных ее частей. Они мыслили, по выражению 1-го пункта, «разрешение национального вопроса России в неразрывной связи с закреплением революции в общегосударственноммасштабе». Соответственно этому они заблаговременно оговаривали в той же резолюции права государственного языка и «образование при Временном правительстве советов по национальным делам». В своем докладе Либер подчеркивал, что было бы «жестокой ошибкой», если бы «отдельные области и народности, отделившись от общего демократического движения, постарались закрепить свою победу только для себя». Даже и «те народы, которые по отношению к себе пожелают разрешить вопрос путем отделения от страны», заинтересованы в упрочении результатов революции и должны подождать решения Учредительного собрания. Любопытно, что возражения большевистских ораторов Коллонтай и Преображенского не только не стояли за более радикальное решение вопроса, но даже заявили, что во имя «общности пролетарской культуры» они против «культурно-национальной автономии». А Зиновьев от имени украинской социалистической фракции категорически заявил, что шаги Украины «направлены не к тому, чтобы, пользуясь случаем, урвать возможно больше для себя» и решить свой вопрос «явочным порядком, путем обособления от России отдельных частей». Напротив, они «направлены к организации страны, к борьбе с шовинистическими течениями среди украинской буржуазии».
В действительности шаги Финляндии и Украины были направлены именно к тому, что отрицал Зиновьев, и это тотчас обнаружилось, как только от общих деклараций съезд переходил к конкретным решениям, которые он должен был принимать по соглашению с делегатами отдельных национальностей. Немедленно после принятия общей резолюции по национальному вопросу был поставлен на обсуждение съезда финляндский вопрос. Докладчик Абрамович, исходя из положения, что Финляндия есть «особое государство», находящееся в «определенных договорныхотношениях», предлагал признать за Финляндией «право на самоопределение вплоть до полной государственной самостоятельности». Но в согласии с общей резолюцией он все-таки заявлял, что в обстановке мировой войны и революционной разрухи «эта самостоятельность не может быть немедленно осуществлена». Он уверял съезд, что «финляндская социал-демократия сама это сознает и не настаивает на немедленном проведении всех логических последствий принципа государственной самостоятельности»; однако же после принятия резолюции о Финляндии выступил финляндский социал-демократ Хитунен и в длинной речи мотивировал решение съезда финляндской социал-демократической партии, только что одобрившего резолюцию, «в которой содержится требование полного права самоопределения для Финляндии, то есть признания независимости». Хитунен «не отрицал», что «законное положение» в Финляндии уже восстановлено Временным правительством, но он категорически заявлял: «Это нас не удовлетворяет»; финляндцы считают это лишь «временным урегулированием вопроса» и в настоящее время предъявляют «окончательные основы» решения финляндского вопроса. Хитунен прибавил при этом, что они вовсе «не желают разговаривать о праве самоопределения Финляндии» с представителями буржуазных, даже «левых», кругов: они «прямо обращаются к трудовому народу России». При этом тех оговорок, о которых упоминал Абрамович, Хитунен вовсе не делал, за исключением вскользь брошенного замечания, что «немедленного вывода русских войск из Финляндии не требуется в резолюции финляндской социал-демократической партии» и что «этот вопрос может быть разрешен при заключении мира».
Очевидно, концы с концами не сходились. Только что принятая резолюция признавала за финляндским сеймом право издания «для окончательного одобрения» всех законов, «за исключением областей внешней политики и вопросов военного законодательства и управления», право решать вопрос о созыве и роспуске сейма, права финляндского народа «самостоятельно определить свою исполнительную власть». Но резолюция вместе с тем оговаривала, что «окончательное решение финляндского вопроса во всем его объеме может быть принято только на всероссийском Учредительном собрании», и в этомсмысле толковала «позицию социал-демократической партии Финляндии». Помимо этого разногласия, в финляндском сейме обострился вопрос о проведении займа для России в 350 миллионов марок.
Сенатор Таннер защищал перед сеймом этот заем, указывая на возможность обострения с русской стороны в случае отказа, на возможность приостановки всех русских работ в Финляндии, что лишит заработка финляндских рабочих, наконец, на раздражение русских войск, принужденных расплачиваться русским рублем, курс которого упал с 265 до 138 финляндских марок. Русский заем для восстановления валюты, несомненно, нужен был для самой Финляндии. Но, по политическим мотивам, настроение было против займа, и в этом смысле высказалось большинство сейма на заседании 17 июня.
Для уговаривания социал-демократов стать на общерусскую точку зрения съездом были посланы Авксентьев и Гегечкори. Они напоминали финляндцам о заслугах русской демократии во времена Столыпина, взывали к «усилиям демократии всех народов, населяющих Россию», чтобы спасти русскую революцию от хозяйственно-экономического краха, настаивали на разрешении займа в 350 миллионов – сравнительно небольшого, по сравнению с тяготами, которые Россия несла одна за все время войны. Они не «грозили», но серьезно предупреждали, что русская армия, стоящая в Финляндии, не помирится с необходимостью платить обесцененными рублями, что занятые деньги останутся в самой же Финляндии и т. д. Финляндцы не хотели убедиться никакими доводами. За прошлое они благодарили, но в настоящем, по заявлению вернувшихся делегатов, «оказались плохими политиками», не желая понять собственного интереса. К негодованию русских, они потребовали от России того, что можно было бы требовать от Турции или Персии: гарантии займа – передачей почты, телеграфа и казенных имуществ в Финляндии – или контроля над употреблением займа. Конечно, подкладка этого требования была тоже совершенно политическая.
Временное правительство, наконец, было вынуждено прибегнуть к мере понуждения. Министр земледелия еще 15 апреля заявил финляндскому сенату, что все вывозимое в Финляндию продовольствие должно быть оплачено в финляндской валюте. Возвращаясь к этому требованию, правительство 26 июня подтвердило, что за все выпускаемые после 15 апреля в Финляндию продовольственные грузы должна быть внесена финляндская валюта; точно так же и все остальные продукты и товары при ввозе должны быть оплачены финляндскими марками; причем вырученная за их стоимость сумма должна поступить в распоряжение правительства. Представителям финляндского сената пришлось согласиться на уплату стоимости муки – необходимого для Финляндии продукта – финляндскими марками по курсу 180 200 марок за 100 рублей. Валютный заем в 350 миллионов был окончательно отклонен сеймом 1 июля.
Другой вопрос, украинский, как мы видели, принял острую форму после принятия 10 июня «универсала» Рады и особенно после декларации секретариата 27 июня, в которой двусмысленная позиция Рады расшифровывалась уже в открыто революционном смысле. На «универсал» Временное правительство ответило 16 июня очень чувствительным воззванием за подписью кн. Львова. «Братья-украинцы» приглашались «не отрываться от общей родины, не идти гибельным путем раздробления освобожденной России, не раскалывать общей армии в минуты грозной опасности». Правительство заявляло, что «по отношению ко всем народам России оно уже начало проводить в жизнь начала культурного самоопределения»: оно «вменяет себе в обязанность прийти к соглашению с общественными демократическими организациями Украины относительно переходных мер, чтобы обеспечить права украинского народа в местном управлении и самоуправлении, в школе, в суде», но в то же время оно убеждало украинцев «предоставить окончательное решение всех основных вопросов недалекому уже Учредительному собранию».
Очевидно было, что одного такого обращения недостаточно. В правительстве возникла мысль послать на Украину комиссию из видных представителей разных партий (В. И. Вернадский и С. Ф. Ольденбург от к.-д., кн. П. А. Кропоткин, Н. Д. Авксентьев и В. А. Мякотин, В. Г. Короленко). Но было настолько очевидно, что это полумера, ничего не решающая и лишь представляющая новую оттяжку, что все названные члены по разным мотивам отказались участвовать в комиссии.
Тогда на заседании 26 июня было решено послать на Украину министров М. И. Терещенко и И. Г. Церетели (будущие представители Грузинской республики, очевидно, считались самыми подходящими для решения общерусских вопросов); к ним в ставке должен был присоединиться Керенский; наконец, «частным образом» поехал и Н. В. Некрасов. Весь «триумвират» с присоединением лидера советского большинства был тут налицо. Однако остававшиеся на месте министры к.-д. настояли на том, чтобы никаких окончательных решений в Киеве предпринято не было.
28 июня Терещенко и Церетели приехали в Киев. В течение дня они имели частное совещание с президиумами исполнительных комитетов рабочих и военных депутатов, общественных организаций и коалиционного студенчества. 29 июня приехал Керенский. С утра министры обсуждали возможности соглашения в помещении Центральной Рады. С 5 часов вечера шло заседание министров с «генеральным секретариатом».
Одновременно с этим сторонники декларации секретариата устроили министрам уличную демонстрацию украинской независимости. Не уведомив командующего войсками округа Оберучева, украинский войсковой комитет издал накануне приказ, которым на 5 часов дня был назначен парад всех украинских частей перед зданием Педагогического музея, где помещалась Рада. Оберучев ночью отменил приказ. Тем не менее украинский полк Богдана Хмельницкого и образовавшийся самочинным порядком полк имени Полуботка явились на демонстрацию вместе с малочисленными украинскими группами от остальных воинских частей, кучкой артиллеристов и юнкеров и оркестром музыки. Парад состоялся, хотя и жидкий; члены Рады Грушевский, Петлюра и другие встречали украинские войска. Министры, в том числе и военный, остались сидеть в помещении Рады. Когда по окончании парада Керенский вышел, солдаты встретили его овацией.
Вечером на объединенном заседании всех киевских исполнительных комитетов Керенский, Церетели и Терещенко произнесли обширные речи и, между прочим, сообщили о достигнутом соглашении с Радой. Были изложены и основания этого соглашения.
Такое несколько преждевременное выступление вызвало недоумение среди части министров. Решающий момент был еще впереди, и решение должно было состояться лишь с согласия всего состава Временного правительства. После 2 часов дня 30 июня, получив из Киева телеграммы, что переговоры проходят через окончательный фазис, Временное правительство перенесло свое заседание на главный телеграф, чтобы непрерывно связываться с Киевом по прямому проводу. В то же время министры, находившиеся в Киеве, вели переговоры с руководителями Рады и сообщили, что достигнуты, по их мнению, благоприятные результаты. Последнее поступившее сообщение гласило, что Рада только что вынесла постановление, которое, по мнению переговаривавшихся министров, может считаться удовлетворительным.
Постановление, о котором шла речь, было принято Радой большинством 100 против 70. Сильная оппозиция соглашению составилась из украинских социал-революционеров и членов украинского войскового комитета, не желавшего идти на компромисс в вопросе об армии. Соглашение должно было быть опубликовано в виде двух актов: одного – от имени Временного правительства, другого – от имени Центральной Рады. Это, очевидно, должно было придать соглашению характер договора между всероссийской властью и непризнанным, пока самочинным органом частных, местных организаций.
Уже во время переговоров по прямому проводу некоторые из министров к.-д. нашли как форму, так и детали содержания соглашения неприемлемыми. Во всяком случае они требовали, чтобы, как и было условлено при посылке министров, окончательного решения не принималось в Киеве. Министры были приглашены немедленно вернуться в Петроград.
Когда в Киеве узнали, что Временное правительство не считает соглашение окончательным, противники соглашения ободрились и стали утверждать, как это и было в действительности, что Терещенко и Церетели не имели достаточных полномочий для заключения соглашения, что дело пошло в затяжку и т. д. Боязнь, что соглашение будет сорвано, видимо, побудила министров дать заверения, что текст как русского, так и украинского актов должен считаться окончательным. В ночь на 1 июля в совещании органов революционной власти и политических партий были рассмотрены подробности относительно формы и состава краевого органа. Утром 1 июля министры выехали в Петроград.
Заключенное тремя министрами соглашение вызвало в Петрограде сильнейший протест со стороны министров к.-д. «Русские юристы, – писал знаток государственного права, профессор Б. Э. Нольде («Речь», 7 июня), – привыкли после переворота читать множество правовых актов, которые в первую минуту поражают их своей новизной и смелостью. Но такого акта, как “декларация” с “универсалом’, им читать еще не приходилось. Действительно, министры – дилетанты, руководившиеся единственным желанием как-нибудь смягчить остроту борьбы, проявили чрезвычайную беззаботность в юридических вопросах. Не говоря уже о том, что их постановление узаконивало не существовавшие до сего в праве понятия “Украины” и “Рады”, юридическое содержание этих терминов оставалось совершенно неопределенным». «Неопределенному множеству русских граждан, живущих на неопределенной территории, – говорит Нольде, – предписывалось подчиниться государственной организации, которую они не выбирали и во власть которой их отдали без всяких серьезных оговорок. Русское правительство не знает даже, кого оно передало в подданство новому политическому образованию... Над этими миллионами русских граждан поставлена власть, внутреннее устройство и компетенция которой внушают полное недоумение...» Рада «из своей среды» выбирает «ответственный перед нею» генеральный секретариат, который будет утверждаться Временным правительством и будет считаться «носителем высшей краевой власти Временного правительства». Так говорил «универсал». «Декларация» правительства делает попытку «несколько расширить смысл» и выражается иначе: «Назначить в качестве высшего органа управления краевыми делами на Украине особый орган – секретариат, состав которого будет определен правительством по соглашению с украинской Центральной Радой». «При определении объема власти нет даже фикций; в приведенных пожеланиях заключается безусловная передача Раде всей совокупности государственно-правовых полномочий, по крайней мере в делах внутренних». «Какое правовое возражение противопоставит Временное правительство украинской власти, если, ссылаясь на договор, последняя потребует передачи ей почты, или телеграфа, или поступлений от налогов, если она устроит земство по-своему, если она на своей “морской границе’, ибо все возможно при неопределенности договора и слабости Временного правительства, заведет свои таможни? Впрочем, даже войско стоит под некоторым сомнением, ибо Раде обещано “без нарушения боеспособности армии” комплектование отдельных частей исключительно украинцами» (Нольде). Надо прибавить, что даже и апелляция к Учредительному собранию теряла смысл, так как, по двусмысленным выражениям правительственного постановления, «правительство авансом обещало отнестись сочувственно» к разработке проекта украинской автономии «в том смысле, в котором сама Рада найдет это соответствующим интересам края» «для внесения в Учредительное собрание». Единственными уступками, полученными взамен всего этого, было обязательство пополнить Раду «на справедливых началах», предоставленных ее усмотрению, «представителями других народностей, живущих на Украине», и «решительное отвержение попыток самочинного осуществления автономии Украины (уже осуществлявшейся по соглашению) до Учредительного собрания».
2 июля министры приехали в Петроград и сделали подробный доклад о переговорах на заседании Временного правительства. Тут же был прочтен заготовленный в Киеве проект правительственного постановления и указано, что текст этот должен быть принят без всяких изменений. Единственная возможная уступка – замена «постановления» «декларацией».
Уже не в первый раз решения, подготовленные келейно в руководящей группе членов кабинета, проводились на заседаниях Временного правительства большинством министров-социалистов при поддержке В. Н. Львова, Годнева или кн. Львова. Министры партии народной свободы в таких случаях неизбежно оставались в меньшинстве. Таким образом, в корне нарушался сам принцип коалиции, на основе которого они вошли в правительство. Так прошли постановления об упразднении Думы, о назначении невозможного срока созыва Учредительного собрания. После того как манифестация 17 июня выяснила, что советское большинство вообще конфузится поддерживать Временное правительство, положение так называемых «министров-капиталистов» в нем стало совершенно невозможным. Газета «Речь» тогда же (18 июня) поставила вопрос, насколько целесообразно их дальнейшее пребывание в кабинете. Начавшееся на фронте наступление, для которого, собственно, и было составлено коалиционное правительство, несколько задержало его распад. Но именно к наступлению, несмотря на «приятие войны» умеренными социалистами, органы революционной демократии относились более чем прохладно. Затем в среде этих органов началась форменная кампания против каждого из министров к.-д. поодиночке. На очереди теперь был министр народного просвещения А. А. Мануйлов. В его министерстве, как и в большинстве других, тоже образовался полуявочным порядком коллективный орган «революционной демократии» с обычной целью «толкать» министра в направлении «углубления» революции. Это был так называемый «государственный комитет», созданный из молодых педагогов. Не ограничиваясь разработкой законопроектов по Министерству народного просвещения, которые министр должен был принимать для проведения в кабинете, «государственный комитет» предъявлял претензии прямо заменить министерство и министра. Правительство среди массы неотложных дел действительно не спешило с коренными школьными реформами. В этих затяжках обвиняли министра, заподозривали его добрую волю и, наконец, в государственном комитете и в исполнительных комитетах Советов провели резолюцию, в которой объявили дальнейшее совместное сотрудничество с ним невозможным. Это случилось как раз перед самым министерским кризисом, и противники к.-д. даже обвиняли их, что они сам кризис затеяли для того, чтобы прикрыть «неудачного» министра.
Конечно, кризис разыгрался не из-за одного украинского вопроса. Но решение украинского вопроса «триумвиратом» в Киеве с нарушением основных положений коалиции представляло особенно яркое и типичное доказательство невозможности дальнейшего существования коалиции. Министры партии народной свободы, чтобы показать, что они вовсе не против областной автономии Украины, принесли с собой в заседание 2 июля только что состоявшееся решение Центрального комитета партии – внести областную автономию в программу и создать комиссию для выработки законопроекта. Но признать без всяких изменений бесформенную и юридически неграмотную декларацию Терещенко и Церетели они не могли. После голосования, в котором на сторону министров-со-циалистов стали кн. Львов и обер-прокурор Синода В. Н. Львов, четыре министра к.-д., оставшиеся в меньшинстве: А. И. Шингарев, Д. И. Шаховской, А. А. Мануйлов и В. А. Степанов – вышли из состава Временного правительства, мотивируя это тем, что постановление по украинскому вопросу вносит хаос в отношения между правительством и краевым органом и открывает Раде почти законные способы осуществления явочным порядком украинской автономии. Центральный комитет партии в тот же день принял декларацию, главным мотивом которой была мысль, что идея общенационального соглашения оказалась бессильной обеспечить стране авторитетную власть. «Единое и сильное правительство может быть создано либо усилением однородности его состава, либо такой его организацией, которая обязывала бы элементы, входящие в его состав, действовать в основных вопросах государственной жизни не путем перевеса большинства над меньшинством, а путем взаимных соглашений, направленных к осуществлению общенациональных задач». Заявление кончалось обещанием и впредь поддерживать правительство в наступлении на фронте и в поддержании порядка внутри государства.






