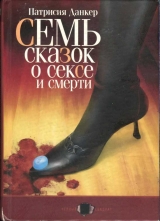
Текст книги "Семь сказок о сексе и смерти"
Автор книги: Патрисия Данкер
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
Вы в этих краях отдыхаете?
Да, мы сняли дом в горах.
Мы в отпуске.
Мы живем в Париже.
Их отпуск бесконечен. Ко второй неделе августа мы приходим к выводу, что они – профессиональные атлеты. Заранее тренируются к играм двухтысячного года. Больше ничто не может объяснить неустанные занятия велогонками, плаванием, бегом, аэробикой и вообще весь их режим. Они продолжают говорить раз в день bonjour и больше ничего. Они никогда не снимают темные очки. У них идеальные фигуры. Они невозможно красивы. Мы никогда не видели их глаза.
Погода внезапно меняется прямо перед ouverture de la chasse[58]58
Открытием охотничьего сезона (фр.).
[Закрыть]. На деревню, как маска с наркозом, опускается белый капюшон жары. Я, чертыхаясь, езжу на работу два раза в неделю и устраиваю скандалы продюсеру и звукооператорам. В остальное время лежу в темной комнате с закрытыми окнами и тяжело дышу. Мы встречаемся на зеленой скамейке после одиннадцати вечера и обмениваемся банальностями про canicule[59]59
Жару (фр.).
[Закрыть]: хуже, чем в прошлом году, совершенно невыносимо, глобальное потепление, ручей высыхает, собаки едва дышат, когда это кончится? Парижане начинают свои утренние пробежки на заре, до того, как белый капюшон окутывает горы. Столбик термометра поднимается выше 38 градусов. Мы поливаем овощи дважды в день и радушно приветствуем Pompiers-Forestiers[60]60
Лесных пожарников (фр.).
[Закрыть], которые проезжают мимо на своих желтых грузовиках и, задыхаясь, просят холодной воды. Они следят за пожарами с верхушек холмов. Пожаров нет.
La chasse est ouverte! Сезон открыт. Мужчины надевают камуфляжные куртки, красные шапки и отправляются в леса в белых фургонах. Собаки в кузовах радостно подвывают.
Мадам Рубио сообщает мне, что ненавидит охоту. Раненый кабан искромсал ее любимого пса, что обошлось ей в 750 франков ветеринарных расходов. Она раздраженно хмыкает вслед фургонам. Иветта боится, что на нее нападет кабан, пока она возится в своем винограднике на красных склонах. Она надеется, что мужчины убьют их всех. Я слышу, что кабан сопит среди зарослей моей черники. Я запираю все двери.
Иногда я вижу их по ночам – задумчивых, волосатых, неторопливых. В свете моих фар, когда я медленно еду домой по холмам, они выглядят серыми.
Мужчины охотятся только ранним утром. К половине двенадцатого они возвращаются в деревню, делят добычу, кормят собак, правят свои длинные изогнутые ножи на точильных камнях. В такую жару после полудня уже никуда не выберешься. Собаки теряют след и не могут найти кабана в зарослях. Днем они лежат без движения, лениво отмахиваются от мух, их колокольчики царапают гравий и тихо позвякивают.
Папи хватает меня за шиворот, пока я прохлаждаюсь на зеленой скамейке:
– Пойдем со мной на охоту. Тебе давно пора увидеть, что это такое.
Папи восемьдесят три года. Вот уже семь лет он грозится взять меня на одну из своих утренних вылазок. Теперь он всерьез настаивает. Я понимаю, почему: Папи боится, что его охотничьи деньки подходят к концу. И, к сожалению, ему нужно что-то кому-то доказать. В этом году он провел целый месяц в больнице в Перпиньяне: бронхит. Он прав. Мне надо пойти с ним. Я соглашаюсь. Мы бредем к его дому, и Папи наливает мне убийственный стакан домашней eau de vie[61]61
Водка, дословно – вода жизни (фр.).
[Закрыть], семьдесят пять процентов алкоголя. В магазине такого не купишь. Чин-чин, Папи. Вот. Мы улыбаемся друг другу, стоя в тусклом ореоле сорокаваттной лампочки – больше он ничего вешать над обеденным столом не соглашается, – и он снимает ружье с гвоздя над камином.
Мы решаем пойти в следующую среду, на заре.
Но во вторник вечером на съезде с шоссе (Безье-Запад) меня останавливает полиция. Другим машинам они тоже машут. Кого-то ищут. Господи, они ищут меня. Машина попалась под радар. Я в панике. Меня окружают. Водитель пьян? Пока нет. Слишком рано. С налогом и страховкой все в порядке, но обе задние шины совершенно лысые. И чертов техосмотр надо было пройти еще два месяца назад. Предварительно поменяв шины. Если сейчас они меня прищучат, штраф будет под 5000 франков. Куда больше, чем шины и техосмотр вместе взятые. Черт, черт, черт, черт, блин, блин, блин, блин, суки, суки, суки, суки.
– Vos papiers, Monsieur. – Заминка. – Excusez-moi, Madame[62]62
Ваши документы, мсье. Простите, мадам (фр.).
[Закрыть].
Мадам? Какая нафиг разница. Валяй, штрафуй меня.
– Ou habitez-vouz?[63]63
Где вы живете? (фр.).
[Закрыть]
Как где, да вот же перед тобой адрес, приятель. Вот, прямо на моей carie grise[64]64
Техпаспорт, документ со сведениями о транспортном средстве и его владельце (фр.).
[Закрыть].
Он стоит, рассматривает мои документы – вид на жительство, паспорт, кредитные карточки, страховой полис.
– C’est vous qui faites les emissions en anglais pour Radio Cathar?[65]65
Это вы ведете английские передачи на “Радио Катар”?
[Закрыть]
Да, да, это я. Наконец-то слава! Вы их слушаете? Передачи для полицейских? Правда? И как, от них есть польза? Да-да, это я. Важное общественное дело. Vive l’entente cordiale[66]66
Да здравствует сердечное согласие. (фр.) “Согласие” (“Антанта”) – название антигерманской коалиции в годы Первой мировой войны. Англия и Франция были союзниками по коалиции.
[Закрыть]. Теперь отпустите меня, мсье жандарм. Я поменяю шины немедленно, а может, даже раньше. Только пожалуйста, пожалуйста, отпустите.
Господи боже, он хочет поболтать. Попрактиковаться в английском.
– Нам очень нравятся ваши передачи. Очень интересные. И вы используете собственный опыт?
Всегда. Постоянно. Все с натуры. Каждая фраза. Меня отпустят? В виде исключения?
– Вы часто рассказываете о людях из вашей деревни?
Да, конечно. Не впрямую. Но я люблю достоверность. Все подробности про бродягу, который залез в домик Симоны и съел банку горошка, абсолютно точны. Так получается интереснее. Убедительнее. Я могу ехать?
– А история про кражу черного “мерседеса”?
А, здорово, правда? В нашей деревне отдыхают парижане, и у них черный “мерседес”. Но он, конечно, не краденый. Отпустите. Умоляю.
Он машет рукой: проезжайте.
К моменту возвращения домой моя встреча с полицией превращается в автомобильную погоню в духе Брюса Уиллиса, со сломанными шлагбаумами, скрежетом шин, быстрыми диалогами и наглым враньем. Зеленая скамейка в восторге. Все мы любим красивые истории.
Папи вытаскивает меня из кровати на заре. Я тащусь за ним и за сворой его собак. В долине красиво – виноградники окутаны тихим голубым светом. Мы недалеко от деревни. Отсюда еще можно различить черепичные крыши. Земля твердая, сухая. Мы перешагиваем через белые валуны в виноградниках. Я чувствую, что день зреет, вступает в свои права. Далеко впереди звенят колокольчики на собачьих ошейниках. У Папи есть старенький бинокль. Сквозь захватанные линзы я вижу красные шапки наших соседей – они высыпали на край тропинки, которая идет по крутому склону в Виаланову. Время от времени мы друг другу машем. Наступающий день спокоен и тих. Нам запрещено начинать стрельбу, пока не станет совсем светло, иначе мы перебьем друг друга. Внезапно собаки начинают выть, их хор становится все сильнее. Они взяли след. Мы напрягаемся. Да, я слышу – далеко внизу, в русле реки, что-то тяжелое движется к нам сквозь заросли. Папи выбирается из виноградника, идет к дороге с ружьем наперевес, гибкий и напряженный. Я вижу, как его веснушчатые руки крепче сжимают лямки рюкзака. Нельзя стоять с уже заряженным ружьем. Если собираешься стрелять – заряжай его перед самым выстрелом. Папи заряжает ружье. Я отступаю в полной панике, прикрываю уши руками. О нет! Треск и вой в зарослях движется вверх, все ближе, ближе. Мы на дороге. Папи держит ружье наизготовку, крепко прижав его к плечу. Его руки не дрожат. Он знает, что кабан перебежит дорогу.
В следующие несколько мгновений все происходит так быстро, что я ничего не успеваю понять. Вот Папи, он стоит на дороге и целится. Я слышу, как несколько машин спускаются по серпантину за моей спиной. А из-за поворота с опущенными головами, привстав на сиденьях, появляются парижане. Они мчатся вверх на своих гоночных велосипедах, темные очки приклеились к лицам, как черные маски ныряльщиков, рты раскрыты. Они видят, что Папи целится прямо в них. С воплями испуга и ярости они проносятся мимо. Они что-то кричат, но я не понимаю ни слова, потому что когда они задевают меня локтями, из леса выскакивает кабан, по пятам за ним мчатся собаки; кабан несется через дорогу. Папи дважды стреляет, и огромный фонтан теплой крови орошает нас обоих; кабан останавливается, шатается, оседает, падает. Мы слышим, что парижане все еще кричат. Они почти проехали следующий поворот дороги за нашими спинами. Я тоже кричу.
Я в полном ужасе. Раньше мне в голову не приходило, что бродящие по холмам кабаны – это страшно. Теперь я вижу: да, очень страшно. Зверь огромен, у него гигантские желтые клыки. Я больше никогда не пойду гулять в горы. Папи смотрит на кабана и на кровь, которая льется на дорогу. Видимо, он прострелил чудовищу сердце. Собаки кружатся рядом, тявкают, пускают слюну, принюхиваются к крови.
Потом вокруг возникают полицейские, везде, отовсюду; хватают ружье Папи, орут. Из дырок в капюшоне на меня таращатся глаза, и закрытый рот изрыгает очередь невразумительных криков.
Я поворачиваюсь.
Полицейские – везде, в темно-синей форме, в лыжных масках, будто штурмуют захваченный террористами самолет. У меня возникает странная мысль, что нас с Папи сейчас показывают по телевидению. Потом я вижу, что на дороге за нашей спиной грудой лежат гоночные велосипеды и два трупа. И я кричу —
– Vous avez tué les Parisiens![67]67
Вы убили парижан! (фр.).
[Закрыть]
– Заткнись! – рявкает один из убийц в маске. – Иди-ка домой, дедок! – орет он Папи. Старик отважно выхватывает у него свое ружье.
– Я не собираюсь оставлять этого кабана посреди дороги. Я его только что застрелил. И я иду домой за своим фургоном. Мой человек позаботится о том, чтобы вы его не тронули, пока меня нет.
Он в раздражении уходит, собаки бегут за ним следом. Ему наплевать на все, кроме мертвого кабана. Я вижу, что соседи семенят вниз по дороге от Виалановы к своим фургонам. Ситуация странно неопределенная. Я совершенно не понимаю, что случилось. В недоумении смотрю на трупы.
– Зачем вы убили парижан?
– Послушайте меня, – рявкает жандарм, и только тут я понимаю, что это он останавливал меня на шоссе, – если у вас есть хоть капля разума, вы заткнетесь и перестанете задавать вопросы. Кто эти люди на самом деле, нам еще предстоит проверить. Как бы то ни было, вам повезло, что они вас не застрелили. И уж конечно, они приехали не из Парижа.
Он подвигает ногой один велосипед. Я вижу профиль женщины – как будто впервые. Гладкое, элегантное лицо, ровный красивый загар, нежная россыпь веснушек на переносице. Спокойное, мертвое лицо упрекает меня исчезающим шармом далеких городов.
– Вы уверены, что они приехали не из Парижа? А нам они сказали, что из Парижа.
7
Моя трактовка
Матильде
У меня конфликт с соседями. Этот конфликт носит абсолютно односторонний характер – они и не подозревают, что я с ними в ссоре. Во всем виновата я одна – нужно было все как следует проверить, прежде чем тратить тысячи фунтов на живописный обветшалый коттедж. Эта гремучая смесь вины, отвращения, самобичевания и дикой ярости – чувство, безусловно, извращенное, однако типично английское. Я не проявляю никаких внешних признаков неудовольствия – ну, может, бросила несколько сердитых взглядов украдкой да однажды хлопнула дверцей машины громче обычного. Ни о чем не подозревая, они весело машут мне руками всякий раз, как я прихожу и ухожу. Как-то они даже пригласили меня выпить по стаканчику перед обедом. Я подумываю немедленно выставить дом на продажу. Они говорят, как замечательно, когда рядом есть “quelqu’un qui médite a côté”[68]68
Кто-то, кто размышляет в сторонке (фр.).
[Закрыть]. Сами они не размышляют ни о чем, кроме еды. Я привыкла работать целый день и испытываю почти религиозное чувство вины, если полчаса посижу на солнышке. Они, не краснея, проводят шесть часов за обедом, а потом приглашают всех своих друзей, чтобы со вкусом отдохнуть, то есть орать, хихикать и обмениваться сплетнями. А в пятницу вечером врубают музыку и устраивают полнокровную фиесту часов до трех утра, прямо у меня под дверьми. А я заражена своего рода фанатичным кальвинизмом. Они – не англичане, в отличие от меня. Они – французы.
Что это – конфликт интересов, конфликт мировоззрений, национальный конфликт? Не знаю. Может, просто разница темпераментов. Они, бесспорно, гораздо счастливее меня. Их много – несколько десятков, если считать постоянных визитеров, а меня не просто мало – я совершенно одна. Я разговариваю с компьютером, с радио, телевизором и магнитофоном. Я пишу пьесу. Они разговаривают друг с другом. Если бы я свободнее владела французским, то могла бы просто за ними записывать. Они все – звезды собственной мыльной оперы: семейная мелодрама, эфирное время с восьми до десяти утра (перерыв на завтрак), с половины первого до трех (перерыв на dejeuner[69]69
Обед (фр.).
[Закрыть]), с шести тридцати до победного конца, всю ночь напролет. А фиеста! По воскресеньям представление идет без перерывов. Маман, разумеется, в главной роли – она отправляется на lotissement[70]70
Садовый участок (фр.).
[Закрыть] в Капестан и торжественно возвращается в своем “рено-19”, набитом овощами и фруктами. Затем наша звезда устраивается у печки и принимается спорить с невестками и обсуждать семейные новости. Мелькают одни и те же имена. Похоже, никто из них не работает – я подсчитала, что все члены семьи ежегодно проводят пятнадцать недель в отпуске. Они не путешествуют и никуда не ходят. Нет-нет, они проводят свой бесконечный досуг в двух шагах от моих окон, смеясь и поглощая пищу. Они все безоблачно счастливы.
Я испробовала все. Покупала затычки в уши, и у меня от них начиналась икота. Закрывала все ставни и задыхалась. Слушала музыку в наушниках, и оказывалась прикована проводами к стереосистеме. Спала на полу в ванной, и все равно их слышала. Придется, наверное, приобрести автомат Калашникова – я уже принялась за изучение каталогов автоматического стрелкового оружия. Конфликт с соседями, о котором те даже не догадываются, вот-вот превратит меня в маньяка-убийцу. Мне придется провести остаток жизни в каком-нибудь французском эквиваленте тюрьмы Шпандау. И виноваты будут они.
Я – соучредитель и штатный драматург театральной труппы “Первоцвет”. Все в нашем театре обладают равным правом голоса, но голос соучредителя все-таки звучит более веско. В теории я весьма демократична и все мы здесь партнеры; на практике я считаю, что будет только справедливо, если они послушают человека с бóльшим жизненным опытом. В конце концов, кто заполняет бесконечные заявки на гранты и отсылает их в Совет по делам искусств? Кто сглаживает острые углы, когда худсовет приходит с инспекцией? Это я сижу в баре и поджидаю их, не выпуская из рук джин с тоником, пока вся труппа, сбившись в кучу, трясется от страха за кулисами. Нельзя сбрасывать со счетов и мою работу. Не забывайте, это мои диалоги они терзают на сцене. Так что пусть уж помалкивают и слушаются старших. Что они, в общем, и делают.
Я пишу по одной пьесе в год. Иногда это что-нибудь компактное – полтора часа, три роли. А иногда, как в этот раз, приходится распинаться всем шестнадцати актерам, да еще убегать за кулисы и появляться вновь в плащах и шляпах, изображая толпу. Всегда кажется, что артистов больше, если нарядить их в плащи и шляпы. Мы гастролируем всю зиму – моя новая пьеса и что-нибудь из Шекспира (по школьной программе, как правило), а летом ездим на фестивали. Вернее, они ездят. Я на этом этапе откалываюсь от коллектива, отправляюсь во Францию, запасаюсь вином и свежим сыром и пишу пьесу на следующий год. Летние турне я оставляю своему компаньону Джорджу. Он их ненавидит, но куда денешься. Правда, иногда бывают и нечаянные радости. Например, они давали “Пиратов Пензанса”[71]71
“Пираты Пензанса” – комическая опера У. Гилберта и А. Салливана (1880).
[Закрыть] совместно с любительским театром (разумеется, с нашими в главных ролях), и Джорджу удалось подцепить очень хорошенького мальчика в Аберистуите.
Джордж теперь не тот, что был прежде. Ему уже пятьдесят, и у него отросло аккуратное круглое брюшко. Правда, все волосы остались при нем. Я думала, мальчик в темноте не разглядел Джорджа как следует, но оказалось, что встреча произошла при ярком солнечном свете и свежем ветре, на скамейке напротив индийского ресторана, прилепившегося на краешке пирса. Так что мальчик видел пузо Джорджа во всей красе. Бедный Джордж, кажется, еще вчера он играл молодого Генриха V. Теперь блистает в роли Фальстафа.
А ведь мальчик даже не попросил денег. Они сговорились на бесплатном ужине и двух билетах на “Пиратов”. Джордж был уверен, что мальчик явится со своим бойфрендом, и вечер закончится мучительным унижением и приступом язвы со рвотой. Но мальчик не привел с собой дружка. Он пришел с мамой. Джордж водил их в буфет в антракте, где произвел сенсацию, размахивая шпагой и выкрикивая “Посторонись!”. Но потом ему пришлось катиться обратно на сцену на второе действие, а вся труппа “Первоцвета” скандировала: “Как звать девочку, Джордж? Как звать девочку?” И они вовсе не имели в виду маму.
Ну да ладно, оставим Джорджа в покое. Наступает лето, и я отправляюсь во Францию. Многие годы я снимала домик через агентство, на целых девять недель, с хорошими скидками. Но я устала от треснувших стаканов и разномастных тарелок, от капризных газовых плит и мышей в буфете. И вот после одной особенно ужасной ночи на диванном валике, из которого лезли жуткого вида отрепья, тут же рассыпавшиеся в пыль, я направилась в риэлторское агентство ближайшего городка и, не сходя с места, купила крошечный коттедж за восемнадцать тысяч фунтов. Это был один из их invendables – иначе говоря, мертвый груз, – и они были счастливы сбыть его с рук.
Существует множество причин, по которым дом может плохо продаваться, помимо таких эндемических катастроф, как плесень, термиты или прокладка автотрассы. Дом может быть слишком далеко от дороги, или слишком близко к ней, в нем может быть слишком большой сад или слишком маленькая терраса, вид на реку может оказаться слишком мрачным. Я всегда считала, что на любой дом в конце концов найдется покупатель, но, боюсь, этот мне не продать. Если он для кого и представляет интерес, то разве что для тех самых соседей, но трудно представить себе, чтобы жилище с единственной спальней и убогим стенным шкафчиком могло бы послужить хотя бы флигелем для их неисчислимых полчищ. Когда я впервые увидала свою будущую собственность, она являла собой прелестную картину – коттедж затаился в углу романтичной средневековой площади, розовые кусты обвивали дверной проем. Прекрасно сохранившийся узкий кирпичный фасад, никакого сквозного проезда, два ряда стройных лаймовых деревьев и мраморный фонтан, упомянутый в путеводителе. Стояло воскресное утро, и тишину нарушали лишь церковные колокола. Дело было в феврале, и воздух был чист и пронзителен. Я сказала себе, что если дом так понравился мне зимой, насколько же прелестнее он окажется летом, когда я буду здесь жить. Для британских домов это золотое правило, верно? Не то на юге Франции. В летние месяцы в вашем уединенном убежище расположится практически все население Голландии, четыре миллиона немцев и более половины парижан.
Мое пристанище неловко приткнулось под мышкой у соседского дома. Два строения, несомненно, были когда-то единым целым. Отпочковавшаяся канализационная система сохранила живейшую связь с истоками: когда бы ни спускалась вода в соседском туалете (а происходит это примерно раз в двадцать секунд) бурный поток низвергается непосредственно по стене моей гостиной. Кажется, что сидишь на самом краешке унитаза, и тебя вот-вот смоет мощной волной. Я буквально живу с соседями, я присутствую при самых интимных их отправлениях. Я слышу, как они моются, пукают, зевают, ворочаются в постели, тушат свет. Я слышу каждое их слово.
Впрочем, в доме они проводят не слишком много времени. Ведь это юг – здесь все живут на свежем воздухе. Средневековая площадь – общая, и теоретически каждый из нас имеет право установить с грохотом свой стул и стол и хлебать аперитив до тех пор, пока не сотрутся различия между черными маслинами и пряными мексиканскими чипсами. На деле благословенная тень вечно захвачена узурпаторами: там сидят соседи.
Они сидят там десятилетиями. Вполне возможно, их предки сидели там еще в средневековье. Это их тень. Они не отдадут ни пяди. Мне удалось их слегка взбудоражить, когда однажды утром, в самом начале, я прошествовала по площади с шезлонгом и книгой. Я только улыбалась и кивала приветливо, всячески давая понять, что не представляю никакой опасности. Que la fete commence![72]72
Пусть начнется праздник! (фр.).
[Закрыть] И праздник начался – гремела музыка, подъезжали мотоциклы. Читать в таких условиях выше человеческих сил, но им на это глубоко плевать. Здесь счет идет не на книжки, а на задницы. А по количеству задниц у них – сокрушительное превосходство. Ежедневно за обеденный стол садится двенадцать человек. Я сдалась и ретировалась в дом, они же остались заливать “Рикар” в ненасытные утробы, бутылку за бутылкой. Нет, это не свободная страна. Это – их страна. Vive la France!
Я пытаюсь хотя бы отчасти сквитаться с ними при помощи телевизора. Но я смотрю “кино не для всех”: шепот, субтитры. Они же смотрят американские боевики, в которых все умирают под оглушительную пальбу, и безумный сериал под названием “Горец”, где мужики в клетчатых юбках, поклявшиеся отомстить Макдоналдам, летают на машине времени и машут волшебными мечами. Какой-нибудь “Вечер в Голливуде” постоянно заглушает моего Антониони. Я тщательно обдумала ответный удар и потратила целое состояние на тяжелую артиллерию: привезла “Götterdämmerung”[73]73
“Гибель богов” (нем.), оперная тетралогия Р. Вагнера.
[Закрыть] и музыкальный центр с мощными динамиками. Но, увы, я – англичанка. Я не могу мешать их ежедневному празднику, как бы ни мешали мне они. Так что я поступаю в духе национальных традиций: сижу за занавесками, выглядываю в щелочку и ненавижу их всеми фибрами души.
Однако даже английскому терпению есть предел. Вспомните Азенкур и Ватерлоо[74]74
Азенкур – место решающей победы англичан над французами в Столетней войне (1415); Ватерлоо – место победы английских войск под командованием герцога Веллингтона над армией Наполеона (1815).
[Закрыть] – это у нас в генах. Мое терпение закончилось на младенце четырех месяцев от роду. И я вышла на тропу войны. Вот как это случилось.
Жан-Ив и Луиза, обожаемый сын и неизбежная невестка, прибыли из Парижа на “ситроене-306” и поставили его на моем парковочном месте под múrier[75]75
Шелковицей (фр.).
[Закрыть], на единственном тенистом пятачке, оставшемся на площади. Где он и простоял весь следующий месяц, в то время как моя машина поджаривалась возле фонтана. Будто бы мелочь, но мелочи тоже не сбросишь со счетов. Из утробы этого самого “ситроена” был извлечен багровый орущий младенец, который, по-видимому, не слишком хорошо перенес дорогу. Остальное семейство впало в состояние религиозного экстаза от его мощных легких и вонючих пеленок. Не знаю, как вы, а я детей терпеть не могу и никогда не допускаю их в свои пьесы. Ранние проявления преступных наклонностей родители часто принимают за гениальность. Переходный возраст – пытка для окружающих, а вовсе не для самих подростков. Почуяв потребительские инстинкты, они тут же начинают опустошать ваш кошелек и холодильник. Их бытовые привычки отвратительны. Однажды я мельком обзавелась падчерицей, которая выкрасила всю ванну в лиловый цвет, пытаясь придать пикантность своим мышиным космам. А уж младенцы – нет, у меня нет слов. Мне посчастливилось принадлежать к культуре, которая ненавидит детей еще больше, чем я. Однажды мы с Джорджем истоптали башмаки, разыскивая в Сохо какой-нибудь приличный ресторанчик, который бы при этом не опустошил мою кредитную карточку. В конце концов Джордж потерял терпение: “Ну этот-то чем плох, женщина?!” Я вынуждена была сознаться, что ищу благословенную надпись: “С детьми и собаками вход воспрещен”. Наверное, сейчас такие вывески запретили по каким-нибудь правилам Евросоюза. Я провела немало времени в сомнительных заведениях, беседуя у барной стойки с интересными трансвеститами различных полов, исключительно потому, что такие места считаются неподходящими для детей.
Но вернемся к нашему divin enfant[76]76
Божественному младенцу (фр.).
[Закрыть], на которого немедленно сбежалась смотреть вся округа. Я начала узнавать эту интонацию изумления, восторга, “ути-пути, гули-гули, comme tu es belle, ma petite chérie”[77]77
Какая же ты красавица, моя маленькая (фр.).
[Закрыть], непрерывно звеневшую в моем доме во время многочисленных визитов. Затем, к моему ужасу, вдруг улучшилась погода, бывшая до этого не по сезону холодной и дождливой. Температура в тени шелковицы достигла 35 градусов. У младенца начали резаться зубки, и его выставили на улицу в одном подгузнике и крошечной футболке, явно вменив ему в обязанность издавать истерические рулады до потери пульса. Орущее создание находилось теперь в каких-нибудь двух футах от моих белых тюлевых занавесок. По смене регистра и характерному бульканью я безошибочно могла определить, когда оно набирает воздух в легкие, собираясь с силами, чтобы снова завопить во всю мощь. Из дома выбегает Маман, в роли опытной утешительницы, без малейшего эффекта. Ор становится оглушающим. По мере того как у petite chérie поднимается температура, уровень звука все прибывает. И так все утро, все мои лучшие рабочие часы. К одиннадцати побиты все рекорды громкости. Так продолжалось день за днем. Я хотела послать в Англию за чудо-таблеткой под названием “Калпол”, которую один из моих бывших испробовал на своей дочери. Я совершенно отчаялась. Да охладите же ее, черт вас возьми! Может, тогда она не будет вопить беспрерывно днем и ночью! Или, может, они считают, что страдание очищает душу? Я решила действовать.
Я кладу кубики льда в большой кувшин, жду, пока вся глиняная поверхность покроется капельками влаги, отодвигаю краешек белого тюля и проливаю немного ледяной воды – в некой имитации крещения – на это розовое вопящее мясо. Я беззаботно говорю себе, что хорошо бы ее утопить. Эффект потрясающий. Должно быть, это шок. Создание прекращает орать. Она выпучивает глаза и смотрит на руку и скрывающийся из виду кувшин. Наступает ужасная, грозная пауза, райская тишина обволакивает площадь, и только звон посуды оповещает о том, что соседи готовятся обедать: да-да, лишь случайное звяканье кастрюль и сковородок нарушает это божественное молчание. Потом ощущение чего-то холодного, мокрого, чистого, как жидкий азот, охватывает крошечную тварь. О, пронзительность ледяной воды, оглушающая, мучительная ее сладость! Младенец издает взвизг, который посрамил бы иерихонскую трубу – единственная, пронзительная нота, мечта любого итальянского сопрано. Маман, Луиза, Жан-Ив, Лоретта, Сабина, Бернар и Филипп, который как раз гостит в доме, высыпают наружу, подобно Великолепной Семерке.
– Mon Dieu!
– Она вся мокрая и холодная!
– Вызовите доктора!
– Жан-Ив, как ты мог оставить ее одну?
Очень даже запросто, он отлучался по большой нужде. Я слышала каждый стон.
– Merde. Она больна.
Зажатая в тисках красных обветренных рук Маман, petite chérie меняет тактику. Плотно зажмурив глаза, она открывает рот как можно шире, делает глубокий вдох и испускает пронзительный вой, в котором явно слышится агрессивная нота самой настоящей ярости. Вот бы мне так научиться. В полном сознании своей правоты, изо всей силы, без малейших сомнений. Плевать на всех! Я, мне, мое, еще! Вдох – вопль, вдох – вопль, вдох – вопль, вдох…
Вот вам театр Антонена Арто, антитеатр, театр ненависти. С меня хватит.
Быстро. Собрать рукописи. Все эти сумбурные диалоги, которые никогда не станут пьесой. Быстрее. Карандаши. Ты ведь всегда пишешь карандашами. Чистая бумага. Очки, кошелек, паспорт, ключи от машины. Назад в Англию, в чудесную, прохладную Англию, где дождь смывает соседей из поля зрения. Домой, в уродливую коробку, где тишину нарушает лишь нежное гудение газонокосилки или кошачья драка на заднем дворе. Благословенная средняя Англия. Средний класс, средний возраст, средний обыватель – славный, уютный мир, где мы все ненавидим друг друга на почтительном расстоянии.
Я плюхаюсь в машину и тут же выскакиваю обратно. От руля – ожог третьей степени, задница горит огнем. Быстро, быстро, открыть все окна. Вон уже соседи потянулись за стол, забыв про младенца. Побрызгать сиденье водой из фонтана. Лицемерка до конца, я улыбаюсь и машу рукой. Затем срываюсь с места, трясясь от злости и ужасного сознания, что я способна убить человека, да что там – перебить их всех. Мне не просто хочется прервать одну едва начавшуюся хрупкую жизнь, придушить невинного младенца четырех месяцев от роду – мне хочется стереть с лица земли все проклятое племя. Так начинают серийные убийцы. Сначала сидят взаперти, почти никуда не выходят, а потом вдруг появляются, одетые как маньяки в фильмах, зверски расправляются с домашними и принимаются за соседей.
Я веду машину, как ветеран “Формулы-1”, закладывающий виражи на Гранд-Корниш. Маленький городок остается позади. Я остаюсь наедине с красной землей и белыми скалами, в стране, которую люблю. Вокруг – виноградники, зеленое, зеленое, целые моря зелени, сочащейся плодородием. Вон река, сжавшаяся от жара, водоросли сохнут на камнях, высунувших спины из холодного, бурлящего потока. И вот следующий крошечный городок виднеется вдали за трепещущими тополями.
CESSENON-SUR-ORB, son église du XIIIe siècle, ses remparts. Camping municipal troisième rue à gauche. Fête locale 5/6 et 7 juillet. Marchés: mardi, vendredi et dimanche matin devant l’église. HÔTEL DU MIDI**, ses plats gastronomiques régionaux. Place de la Révolution[78]78
Сессенон-сюр-Ор, церковь XIII в., крепостные стены. Муниципальная парковка – третья улица направо. Местный фестиваль 5, 6 и 7 июля. Рынок: вторник, пятница и суббота по утрам перед церковью. “Отель дю Миди”**, местная кухня, площадь Революции (фр.).
[Закрыть]…
Все вокруг слегка дрожит в густом мареве. Я слышу, как шины чавкают о расплавленный асфальт. И тут открывается огромная зеленая пещера – это и есть площадь Революции, где люди мирно едят за маленькими столиками в тени деревьев.
Я забыла дома все, что только возможно. Чековую книжку, кредитные карточки, билет в тоннель под Каналом, зубную щетку, всю свою одежду. Я даже дверь не заперла. Я так голодна, что могла бы съесть злосчастного младенца. Визг тормозов – я останавливаюсь.
Мое появление в маленькой сумрачной столовой “Отеля дю Миди” производит небольшую сенсацию. Вставшие дыбом седые волосы, мешковатая фиолетовая футболка с огромным подсолнухом скрывает необъятную грудь, ниже полукругом надпись: “Первоцвет”. Я выгляжу, как ожившая мечта радиосадовода Перси Троуэра. В руках у меня зажаты исписанные листки, пяток карандашей, с десяток дискет и огромный растрепанный том Шекспира, который нетрудно принять за телефонный справочник. Разумеется, никакой сумочки. Ансамбль дополняют разномастные шлепанцы, один черный, другой красный. Я опоздала к обеду на полчаса. Все, кто сидит в столовой, едят здесь каждый день. У них свои столы и салфетки. Они уже почти прикончили escalope de veau à la crème c pommes frites или c pommes de terre dauphine и salade verte[79]79
Телячий эскалоп в сливочном соусе с жареной картошкой или картофельным пюре во фритюре и зеленый салат (фр.).
[Закрыть]. Они приходят сюда с мужем, с сестрой, с маман, с товарищами по работе или коллегами из Нанта, приехавшими на “quatre jours”[80]80
Несколько дней (букв.: четыре дня) (фр.).
[Закрыть]. И сейчас все они замолчали и уставились на меня. Стоп-кадр. Готова? Да. Мотор!
Мадам скользит мне навстречу, подняв брови.
– Надеюсь, я не слишком опоздала к обеду, – говорю я на своем потрясающем французском.








