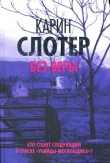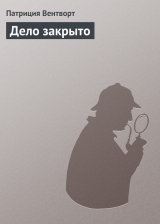
Текст книги "Дело закрыто"
Автор книги: Патриция Вентворт
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Хилари очень не хотелось задавать следующий вопрос, но еще меньше ей хотелось показаться самой себе трусихой. Она собралась с духом.
– А кроме выстрела вы что-нибудь слышали?
В следующую же секунду она пожалела, что спросила об этом, потому что на лице миссис Эшли появилась самая настоящая паника, а руки снова задрожали и метнулись к губам. Хилари тут же затрясло тоже.
– Что вы слышали? Вы же слышали что-то, я знаю. Это были голоса?
Миссис Эшли качнула головой. Хилари решила, что это скорее «да», чем «нет».
– Вы слышали голоса, – повторила она. – Но чьи?
– Мистера Эвертона. – Вцепившиеся в губы пальцы, казалось, душили эти слова, но Хилари их все же расслышала.
– Вы слышали голос мистера Эвертона. Вы уверены?
На этот раз миссис Эшли не просто качнула головой, а изо всех сил мотнула ею. Судя по всему, это означало, что миссис Эшли уверена в этом настолько, насколько вообще может быть в чем-либо уверена.
– А какой-нибудь еще голос вы слышали?
И снова голова миссис Эшли качнулась, говоря «да».
– Чей голос?
– Я не знаю, мисс. Не знаю, и под страхом смерти повторю то же самое, и точно так же сказала миссис Грей, когда она пришла и спрашивала у меня, бедняжка. Я разобрала только, что мистер Эвертон с кем-то ссорился.
Ссорился! Сердце Хилари ушло в пятки. Еще одна чудовищная улика против Джефа. Еще одно подтверждение убийственных показаний Мерсеров. Причем подтверждение не купленное и не сфабрикованное, потому что, давая его, эта женщина ничего не выигрывала. Напротив, она даже старалась его скрыть. Она пожалела Марион и все это время молчала.
Хилари глубоко вдохнула и заставила себя идти до конца:
– Вы слышали что-нибудь из того, что говорил этот второй человек?
– Нет, мисс.
– Но голос мистера Эвертона вы узнали?
– Да, мисс.
– И слышали, что он говорил? – напирала Хилари.
– О да, мисс! – На этом голос миссис Эшли снова утонул в рыданиях, а из глаз хлынули слезы.
И в то время как одна часть Хилари в ярости спрашивала себя, как этой женщине удается выжать из себя столько воды, другая ее часть – холодная и рассудительная, – уже догадываясь, все же страшилась узнать, что именно сказал Джеймс Эвертон. А потом Хилари услышала собственный шепот:
– Что он сказал? Я должна знать, что именно он сказал.
И миссис Эшли, зажимая рукой рот, выдавила:
– Он сказал, о мисс, он сказал: «Мой родной племянник!» О мисс, он так прямо и сказал: «Мой родной племянник!» А потом был выстрел, и я убежала со всех ног и ничего больше не знаю. И я обещала бедной миссис Грей – о, я же ей обещала! – что никому этого не скажу.
Хилари почувствовала внутри ужасную пустоту.
– Это уже не важно, – сказала она. – Дело закрыто.
Глава 10
Хилари устало брела по Пинмэнс-лейн, чувствуя страшную тяжесть в ногах и еще большую – на сердце. Бедная Марион! Бедная, бедная Марион. Приехать сюда в надежде на чудо и услышать вместо этого смертный приговор Джефу, который несколько минут назад выслушала Хилари. Только Марион было во много, в тысячу раз тяжелее. Какое чудовищное, невероятное разочарование! Марион никогда не должна узнать, что Хилари была здесь. Она должна и впредь верить, что молчание миссис Эшли навеки похоронило свидетельство, которое, несомненно, привело бы ее мужа на виселицу. Дойдя до конца Пинмэнс-лейн, она свернула и задумчиво побрела дальше. Да неужели это и есть милосердие – сохранить человеку жизнь ради бесконечных и нескончаемых лет тюремной жизни? Не лучше ли было покончить со всем разом? Не лучше ли так было бы и для Джефа, и для Марион тоже? Но даже мысль об этом заставила ее вздрогнуть. Есть вещи, о которых лучше не думать. Она встряхнулась, отгоняя от себя эти мысли, и разом вернулась в реальность.
Вероятно, она свернула не в ту сторону, потому что улица, на которой она теперь оказалась, была ей совершенно незнакома. Правдой было и то, что пришлось бы еще поискать улицы, которые бы она здесь знала, но именно эту она абсолютно точно видела впервые в жизни: маленькие, только что отстроенные, но уже плотно заселенные – по две семьи в каждом – домики; одна половина выкрашена бледно-зеленым, другая – горчично-желтым цветом; красные занавески в одном окне, ярко-синие – в соседнем, и черепица всех цветов и оттенков. Все вместе казалось новеньким и блестящим, словно рождественские игрушки, только что вынутые из упаковки и разложенные в ряд вдоль дороги.
Стоило Хилари подумать об этом, она услышала за спиной звук шагов, а уже в следующее мгновение сообразила, что звук этот далеко не новый и преследует ее довольно давно – возможно даже, с тех самых пор, как она свернула с Пинмэнс-лейн. Скорее всего, она просто его тогда не замечала. Прислушиваясь, Хилари пошла чуть быстрее. Шаги за ее спиной тут же участились. Оглянувшись, она увидела мужчину в пальто из непромокаемой ткани и коричневой фетровой шляпе. Вокруг его шеи был обмотан толстый светло-коричневый шарф, а между шарфом и полями шляпы виднелось правильное лицо со светлыми глазами и чисто выбритой верхней губой. Хилари поспешно отвернулась, но было поздно. Мужчина догнал ее и приподнял шляпу.
– Простите, мисс Кэрью.
При звуке своего имени она растерялась настолько, что забыла обо всех правилах приличия – о том, в частности, что, если кто-то заговаривает с вами на улице, следует молча пройти мимо, как если бы этот кто-то и на свет еще не родился. Еще лучше, если удастся сделать при этом вид, будто сами вы родились в холодильнике и многому от него научились, и уж ни в коем случае не следует краснеть или пугаться. Хилари сделала именно это. Ее щеки немедленно вспыхнули, и она, запинаясь, проговорила:
– Что, что вам нужно? Я вас не знаю.
– Совершенно верно, мисс, но, если позволите, я бы хотел переговорить с вами. На днях мы ехали в одном поезде. Я, разумеется, узнал вас сразу. Вы же, не считая поезда, конечно, видите меня впервые.
Манеры и поведение выдавали в нем хорошо вышколенного слугу – вежливого и респектабельного. Немало успокаивало и обращение «мисс».
– В поезде? – переспросила Хилари. – Вы хотите сказать, вчера?
– Да, мисс. В поезде до Ледлингтона. Я был с женой. Не думаю, что вы успели меня заметить, потому что я сразу перешел в другой вагон, но, мне кажется, жену вы должны были запомнить.
– Почему? – удивилась Хилари, недоуменно глядя на него своими светлыми и совсем по-детски округлившимися глазами.
Мужчина, однако, смотрел куда-то в сторону.
– Ну как же, мисс, – ответил он. – Вы ведь остались в вагоне совсем одни, вот я и подумал, что вы, может, разговорились.
Сердце Хилари так и подпрыгнуло. Мерсер! Это был Мерсер. И он, видимо, думал, что она рассказала что-то его жене, а та – ей. Хилари ни на секунду не поверила, будто он узнал ее вчера в поезде. Он, конечно, мог ее узнать, потому что его жена, например, узнала, и миссис Томпсон тоже, но все время, пока он находился в купе, она сидела отвернувшись к окну, а когда он вернулся, она тут же вышла и простояла в тамбуре до самого Ледлингтона. Он еще посторонился, чтобы дать ей пройти и, уж конечно, с такого расстояния вполне мог ее узнать, только почему же тогда он сразу не догнал ее и не сказал что хотел, если, конечно, у него и впрямь было что сказать. Нет, все это он вытянул из своей жены уже после, и теперь старался выяснить, что же такого бедняжка ей наговорила. Как он ее нашел, оставалось только догадываться, и, даже обдумывая это потом, она не могла решить, находился ли он по какому-то делу – своему или Берти Эвертона – в Солвей-Лодж и увидел, как она разглядывает дом сквозь ворота, или же следил за ней от самой квартиры но от обеих мыслей по спине у нее ползли мурашки.
– Да, поговорили немножко, – ответила она без видимой со стороны паузы.
– Приношу мои извинения, мисс, если моя жена доставила вам какое-то беспокойство. Обычно она ведет себя совершенно нормально, но, вернувшись в купе, я увидел, что она снова разволновалась, и, встретив сегодня вас, взял на себя смелость подойти и узнать, не сказала ли она вам чего-нибудь лишнего или обидного. Понимаете, обычно она ведет себя совершенно нормально, но иногда начинает волноваться, и мне очень бы не хотелось думать, что в один из таких моментов она каким-либо образом оскорбила юную леди, имеющую к тому же отношение к семье, в которой мы служили.
Хилари снова обратила на него свой ясный и детский взор. Очень ухоженный мужчина с правильной и чистой речью, но ей совершенно не нравились его глаза. Более пустых глаз она еще не видела – в них не было ни цвета, ни мысли, ни выражения. Она вспомнила, как плакала в поезде миссис Мерсер, и подумала, что человек с такими глазами способен сломать и куда более сильную женщину.
– Вы работали в Солвей-Лодж у мистера Эвертона?
– Да. Очень грустная история, мисс.
Они шли бок о бок вдоль ярких игрушечных домов, и Хилари думала, что она скорее согласилась бы жить в одном из них, чем под сенью мокрых облетевших деревьев Солвей-Лодж. Здесь, по крайней мере, все было новым и чистым. Старые грехи и ошибки, прошлая любовь и ненависть – все это не отравляло еще здешнюю атмосферу. Маленькие и радостные комнатки. Крохотные уютные сады, где они с Генри могли бы без меры и без конца восхищаться собственными ноготками, колокольчиками и рудбекиями.
Только вот у них с Генри никогда уже не будет своего дома! Слова Мерсера эхом отозвались в ее голове: «Очень грустная история, мисс». Она дважды энергично моргнула и согласилась:
– Да уж.
– Очень грустная. И очень сильно отразилась на рассудке моей жены, и без того сильно ослабленном, поэтому я был бы очень расстроен, если она как-то задела ваши чувства.
– Нет, – сказала Хилари, – никоим образом.
Она произнесла это довольно рассеянно, потому что изо всех сил старалась вспомнить, что же миссис Мерсер действительно ей сказала. «О мисс, если бы вы только знали!» Да, именно. Но если бы она только знала что? Неужели было хоть что-то, что ей еще стоило знать?
Она не видела, как пронзительно глянул на нее и тут же отвел глаза мистер Мерсер, однако его голос упорно просачивался в ее мысли.
– К несчастью, она очень слаба здоровьем, мисс, а любые напоминания об этом деле только ухудшают ситуацию. Она крайне возбуждается и едва ли уже понимает, что говорит.
– Сочувствую, – не слишком любезно отозвалась Хилари, мучительно вспоминая, что еще говорила ей миссис Мерсер. «Я пыталась встретиться с ней. Провалиться мне на этом самом месте, мисс, если я не пыталась ее увидеть. Мне удалось обмануть его. Я выскользнула и пробралась к ней».
Голос Мерсера снова прорезался сквозь ее мысли.
– Значит, она не сказала вам ничего лишнего, мисс?
– Нет, ничего, – отозвалась Хилари, не особенно задумываясь, что именно говорит. Сейчас все ее мысли были заняты миссис Мерсер, сбегающей от мужа во время суда над Джефом, при том что Мерсеры были главными свидетелями обвинения… Сбежавшей от мужа и пытавшейся увидеть Марион, отчаянно пытавшейся. «Провалиться мне на этом самом месте, мисс, если я не пыталась ее увидеть». Она как будто снова услышала полный ужаса голос женщины и ее безумные прозрачные глаза, уставившиеся в одну точку. «Если бы мы увиделись». И дальше: «Но мы не увиделись. Отдыхает – так они мне сказали. А потом появился он, и другого шанса у меня уже не было. Уж за этим он проследил». Тогда эти слова ничего для Хилари не значили, теперь – говорили многое. Но что же такое собиралась рассказать миссис Мерсер, и какой шанс они упустили, заставив вконец измученную и измотанную Марион забыться недолгим тревожным сном?
Мерсер продолжал говорить ей что-то, но она его не слышала. Потом, с усилием оторвавшись от воспоминаний о поезде, резко повернулась к нему.
– Вы были свидетелями по делу мистера Грея? Я хочу сказать, вы оба были свидетелями?
Отвечая, Мерсер разглядывал асфальт.
– Да, мисс. И это было очень для нас мучительно. Миссис Мерсер до сих пор не вполне оправилась.
– Вы верите, что мистер Грей это сделал? – сами собой сорвались слова с губ Хилари.
Не поднимая глаз, Мерсер ответил с очень вежливым и едва заметным укором:
– Это решали присяжные, мисс. Мы с женой только выполняли свой долг.
Все, что накипело в душе Хилари, чуть было не выплеснулось наружу, причем произошло это так стремительно, что она едва не утратила над собой контроль и не бросила прямо в маячившее перед ней чисто выбритое и такое правильное лицо обвинение во лжи, подкрепленное звонкой оплеухой. К счастью, она удержалась. Воспитанные юные леди не раздают пощечины прямо на улице – это просто не принято. При мысли о том, как это выглядело бы со стороны, Хилари бросило сначала в жар, потом в холод, и она ускорила шаги. Улица постепенно принимала более обжитой вид, и вдали уже слышался рев оживленной магистрали. Теперь Хилари мечтала лишь о том, чтобы поскорее очутиться в автобусе и как можно дальше от Пугни и мистера Мерсера.
А тот все не отставал, продолжая бубнить о своей жене.
– Что пользы ворошить прошлое, к тому же столь мучительное для всех? Я сколько раз повторял это миссис Мерсер, но, к сожалению, она слишком слаба рассудком – врачи говорят, нервы – и просто зациклилась на этом деле, постоянно виня себя в том, что давала показания. И напрасно я убеждал ее, что она обязана была их давать, и напоминал, что она клялась на Библии говорить только правду, и доказывал, что она просто рассказывала что видела, а решали уж присяжные, – бесполезно. Она постоянно об этом думает, и я никак не могу этому помешать. Впрочем, мисс, если она действительно не досаждала вам своими историями… И в любом случае, я уверен, мисс, вы понимаете, что не стоит придавать слишком много значения словам несчастной, чей разум подвергся столь сильному потрясению.
– Конечно, – сказала Хилари.
Шум уличного движения раздавался теперь совсем рядом, и Хилари прибавила шагу. Мерсер уже по меньшей мере шесть раз упомянул, что его жена несколько не в себе. Его, похоже, сильно заботило, чтобы Хилари как следует прониклась этой идеей, и ей очень хотелось знать почему. А потом она, кажется, поняла, и тут же подумала, что, если он скажет это еще раз, она, наверное, закричит.
Они вышли наконец на Хай-стрит, и Хилари облегченно вздохнула.
– Ну, всего доброго, – сказала она. – Вот мой автобус.
И это действительно был ее автобус.
Глава 11
Хилари сидела в автобусе и размышляла. Размышляла она главным образом о Мерсерах, которые в настоящий момент занимали ее больше всех. Во-первых, неясно было, все ли в порядке с головой у миссис Мерсер. Ее муж из кожи вон лез, чтобы убедить Хилари в обратном, возвращаясь к этой теме каждые пять минут. Что-то похожее было у Шекспира. Как же там? «Мне кажется, ее протест чрезмерен». С мистером Мерсером дела обстояли в точности так же. Он так напирал на безумие своей жены, что невозможно было избавиться от мысли, что он переигрывает. Еще лучше подходило Альфреду Мерсеру «Повторенное трижды становится правдой» из «Охоты на Рыкулу» Льюиса Кэрролла. Продолжай он твердить во всеуслышание о безумии своей жены, этому рано или поздно должны были поверить, и, что бы она тогда ни делала и ни говорила, никто уже не обратит на нее ни малейшего внимания.
Неожиданно в эти серьезные раздумья вкрался глупейший стишок:
Если бы Мерсер был моим мужем,
Как муж он мне был бы и даром не нужен.
И я хотела бы лишь одного —
Как можно дольше не видеть его.
Неизвестно почему, но Мерсер ей определенно не нравился. Это, впрочем, еще не означало, что он непременно лжет. Человек может вам жутко не нравиться, но при этом говорить чистую правду. Обдумав этот странный факт, Хилари решила, что не должна поддаваться предубеждению Мерсер вполне мог говорить правду, и его жена вполне могла быть несколько не в себе, и, наоборот, Мерсер мог лгать, а его жена – быть именно тем, кем показалась Хилари, то есть несчастной и страшно напуганной, но что-то скрывающей размазней. И, если существовал один шанс из тысячи, что верно последнее, с этим нужно было что-то делать.
Хилари попыталась сообразить, что именно. Мерсеры сошли с поезда в Ледлингтоне. Можно было, конечно, поехать туда и попробовать отыскать миссис Мерсер, но она абсолютно не представляла, с чего начать поиски совершенно незнакомого – как миссис Мерсер – человека в совершенно незнакомом – как Ледлингтон – месте. Что ей действительно было сейчас нужно, так это хорошенько все с кем-нибудь обсудить. Разве можно одному человеку удержать в голове столько всего сразу? Нужно, чтобы кто-то твердо и уверенно сказал ему: «Глупости!» – и, сказав это, утвердился на каминном коврике и четко и ясно все сформулировал, величественно отметая в сторону любые попытки возразить или усомниться, как это Генри обычно и делал. Только вот вряд ли теперь она когда-нибудь снова увидит Генри. Она растерянно заморгала и отвернулась к окну. Нет, все-таки мир еще очень несовершенен! Могла ли она представить раньше, что когда-нибудь станет тосковать по формулировкам Генри? И вообще, какой смысл травить себе душу, если она никогда больше не увидит Генри и не сможет спросить у него совета!
Она встрепенулась и выпрямилась. А что, собственно, мешает ей все-таки его спросить? Сначала они были друзьями. Потом решили, что хотят пожениться, и обручились, после чего обнаружили, что жениться все-таки не хотят, и разорвали помолвку. Логично было предположить, что следующим шагом должен стать возврат к дружеским отношениям. В конце концов, просто нелепо напрочь вычеркивать человека из списка своих знакомых только потому, что ты не собираешься за него замуж.
Не обращая внимания на внезапно участившееся сердцебиение, Хилари холодно, бесстрастно и всесторонне обдумала этот вопрос, придя в итоге к выводу, что решительно ничто не мешает ей обратиться за советом к Генри. Ей непременно нужно было с кем-нибудь поговорить. С Марион этого сделать было нельзя, значит, оставался Генри. Она будет вести себя очень спокойно и подчеркнуто дружелюбно. Ей смутно припоминалось, что в последнюю встречу она была красной от ярости, топала на Генри ногами и едва не сорвалась на крик, но исключительно потому, что он все говорил и говорил, не давая ей ввернуть и словечка. Тем приятнее было сознавать, что сегодня ей ничего подобного не грозило. Она будет держаться с достоинством и самообладанием, с ледяной вежливостью и несокрушимым спокойствием.
Она вышла из автобуса и пошла дальше пешком. Получасом раньше она была уверена, что никогда больше не УВИДИТ Генри, и – надо же! – направлялась теперь на встречу с ним. Она взглянула на часы. Половина первого. А что, если Генри как раз вышел на ленч? Ну что же… «Тогда мы просто встретимся как-нибудь в другой раз». На сердце у нее тут же стало так тяжело, словно огромный грузовик вывалил туда полный кузов кирпичей. Оказывается, куда проще было перенести мысль, что она вообще никогда больше не увидит Генри, чем опасение, что она не увидит его именно сейчас, когда уже твердо на это решилась. «О нет! Ну пожалуйста! Пожалуйста. Пусть он будет на месте!»
Она повернула за угол и остановилась, отделенная грохочущим потоком Фулхэм-роуд от магазина Генри или, точнее, магазина, который ему завещал крестный, а Генри так до сих пор и не решил, нужен он ему или нет. При виде магазина сердце Хилари дрогнуло, потому что в квартире над ним они с Генри собирались жить после свадьбы. Фулхэм-роуд мало походило на сады Эдема, но так уж устроено человеческое сердце, что ему жизнь не в жизнь без романтики, и когда Генри, поцеловав Хилари, спросил, может ли она быть счастлива в комнатке над магазином, и Хилари, поцеловав Генри, ответила, что еще как, Фулхэм-роуд из оживленного шумного шоссе мигом превратилось в границы их личного рая.
На всякий случай Хилари напомнила себе, что она совершенно спокойна и абсолютно невозмутима. Она перешла дорогу, прочла вывеску: «Генри Эвстатиус. Антиквариат» и остановилась, глядя в окно. Точнее, ей пришлось остановиться, потому что с коленями творилось нечто странное. Им, казалось, забыли сообщить, что Хилари совершенно спокойна. Они дрожали, а очень трудно казаться уравновешенной и невозмутимой, когда у тебя дрожат колени. Вглядываясь в окно, она очень скоро обнаружила, что не видит больше ферейновского коврика, который они собирались постелить в столовой. Раньше он висел на левой стене, и они всегда веселились, глядя на него, потому что однажды Генри сказал, что, если кто-нибудь захочет его купить, он заломит за него тысячу фунтов, а она сказала, что у него наглости не хватит. В сердце немедленно что-то заныло. Коврик исчез. Это был коврик из их будущей столовой, и теперь он исчез. Генри продал его в рабство, чтобы его топтали какие-то совершенно чужие люди, и Хилари тут же почувствовала себя одинокой, ограбленной и бездомной. Это был ее обеденный коврик, и Генри его украл.
Она впервые по-настоящему поверила, что между ними все кончено. Зайти теперь в лавку и увидеть Генри, сохраняя при этом спокойствие и достоинство, было решительно невозможно. Так же невозможно, однако, было и отступить. И вот, пока она стояла так, разглядывая в окно инкрустированный шахматный столик с красными и белыми фигурками, бюро в стиле эпохи королевы Анны и набор испанских стульев с высокими спинками, в дальнем углу открылась дверь, скрытая кожаной ширмой с тиснением и позолотой, и из-за нее появился Генри с покупателем.
Хилари хотела тут же сбежать, но ноги ее не послушались. И, поскольку на Генри она смотреть не решалась, ей пришлось разглядывать его спутника. Рядом с Генри он казался почти коротышкой, каким в действительности не являлся. Он был среднего роста, худой и бледный, с неправильными чертами лица, зеленовато-карими глазами и недопустимо длинными рыжими волосами. У него был мягкий воротничок и какой-то немыслимый галстук, больше напоминавший обвислую бабочку. Глядя на костюм, невозможно было избавиться от ощущения, что и с ним что-то далеко не в порядке. Костюм был синевато-серый, а галстук – лиловый. Хилари еще подумала, что впервые в жизни видит человека с лиловым галстуком. В сочетании с рыжими волосами это выглядело кошмарно, и еще хуже – с носовым платком, подобранным в тон галстуку, и носками, подобранными в тон платку. Хилари посмотрела на него лишь затем, чтобы не смотреть на Генри, но и одного взгляда оказалось достаточно, чтобы узнать Берти Эвертона. Она видела его лишь однажды, в суде, но Берти принадлежал к числу людей, которых не так-то просто забыть. Вряд ли кто-нибудь еще в целом мире мог похвастаться такой шевелюрой.
Когда они вошли в магазин, Генри что-то ему объяснял. Потом он указал на высокий белый с голубым кувшин, и оба повернулись. Хилари заставила себя не отводить взгляда, и он, соскользнув с Берти Эвертона, остановился на Генри. Генри очень оживленно что-то рассказывал. Не иначе разглагольствовал, решила Хилари. Но выглядел он при этом каким-то бледным – бледнее даже, чем когда Хилари видела его в последний раз, не считая, конечно, вчерашнего мимолетного столкновения на вокзале. Правда, когда она по-настоящему видела его в последний раз, они ссорились, а румянец и ссора, как известно, идут рука об руку. Как бы там ни было, с тех пор Генри значительно побледнел. Он был угрюм и невесел, но упрямо объяснял что-то Берти Эвертону. Хилари тут же пришло в голову, что, если речь идет о фарфоре, Берти знает о нем Уж как минимум в тысячу раз больше. Похоже, Генри напрочь забыл, что имеет дело с коллекционером. При мысли, что очень скоро он неизбежно запутается в трех соснах и выдаст себя с головой, она даже испытала некоторое злорадство, но тут же с горечью сообразила, что близящийся позор Генри не доставит ей ровно никакого удовольствия. Ее ноги отклеились от тротуара, и, прежде чем она успела сообразить, что происходит, Хилари толкнула стеклянную дверь и вошла в лавку.
Генри, стоявший к ней спиной, не оглянулся, поскольку был очень занят, цитируя лучший, с его точки зрения, отрывок из книг крестного по керамике, который он с превеликим трудом запомнил. Отрывок и в самом деле был замечательный и способен был произвести самое выгодное впечатление на кого угодно, кроме специалиста, который запросто мог опознать его и заподозрить, что он выучен наизусть.
Внимательно все выслушав, Берти Эвертон сказал: «О да!» – и сделал шаг к двери. В результате Генри повернулся, увидел Хилари и с почти неприличной поспешностью вытолкал Берти на улицу. Молодой человек прикрыл свою рыжую шевелюру мягкой черной шляпой, оглянулся разок на девушку, совершенно, казалось, пораженную красотой и впрямь недурного шахматного столика, и скрылся из виду.
Генри длинными скользящими шагами приблизился к другому концу столика. «Хилари!» – воскликнул он громким, но не очень твердым голосом, из-за чего Хилари уронила белую королеву и, сделав шаг назад, едва не опрокинула большие напольные часы. Последовала пауза.
Волнение по-разному действует на людей. Генри, например, оно заставило изо всех сил нахмуриться и упереть в Хилари тяжелый немигающий взгляд, которого та решительно не могла вынести, чувствуя, что стоит ей поднять глаза, и она либо расплачется, либо начнет смеяться, а ни того, ни другого она делать не собиралась. Она собиралась быть спокойной, сдержанной, отстраненной и прохладно-вежливой. Она собиралась проявить все свое хладнокровие, такт и выдержку. И начала с того, что уронила белую королеву и едва не опрокинула напольные часы. И самое скверное, любой – абсолютно любой, кто проходил сейчас по Фулхэм-роуд, – мог заглянуть в окно и все это увидеть. На ее щеках бушевал самый настоящий пожар, и она чувствовала, что, если в ближайшие пять секунд Генри не прекратит эту немую сцену, что-нибудь сделает она, хотя и совершенно еще неизвестно что.
Генри нарушил молчание, удручающе вежливо молвив:
– Могу я вам чем-нибудь помочь?
И не стыдно ему было говорить с ней таким тоном! В глазах Хилари засверкали молнии.
– Не прикидывайся дураком, Генри! Конечно можешь.
Генри чуть приподнял брови – почти оскорбительно приподнял.
– Да?
– Мне нужно поговорить с тобой. Не здесь. Пойдем в кабинет.
Хилари чувствовала себя уже лучше. Колени, правда, еще дрожали, и она не ощущала в себе должного отчуждения и равнодушия, но, по крайней мере, они отошли наконец от этого проклятого окна, в котором, как в рамке, разыгрывали на потеху прохожим живую сценку: «Магазинная воровка и суровый хозяин».
Не говоря более ни слова, они удалились за ширму и по темному коридору прошли в кабинет старого Генри Эвстатиуса. Теперь, конечно, это был кабинет капитана Генри Каннингхэма и выглядел куда опрятней, чем при его крестном. Генри Эвстатиус вел обильную переписку с коллекционерами со всего мира, и письма от них обычно целиком покрывали стол, стулья и пол. Ответные письма Генри Эвстатиуса, содержащие россыпь миниатюрных и не особенно внятных закорючек, обычно доходили до адресатов со значительным опозданием, поскольку вечно терялись в общем потоке корреспонденции, и единственной причиной, по которой они доходили вообще, была та, что женщина, прислуживавшая Генри Эвстатиусу, набила руку на распознавании его почерка и всякий раз, обнаруживая в груде писем бумажку, покрытую мелкими паучьими каракулями, спасала ее из общего завала и клала в самый центр письменного стала, где она уже не могла остаться незамеченной. Никаких других писем она не трогала. Корреспонденция Генри Каннингхэма была куда менее обширна. Письма, на которые он ответил, лежали в корзинке справа, а на которые он ответить еще не успел – в корзинке слева. Написанные он тут же относил на почту.