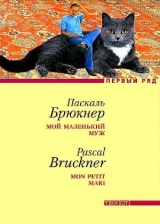
Текст книги "Мой маленький муж"
Автор книги: Паскаль Брюкнер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
10
Не в меру любопытный муж
Леон все прощал своим чадам и не терял надежды завоевать их уважение. Теперь, в нынешнем положении, ничто не могло его сломить; он лишился роскошной машины, но был по-прежнему полон несокрушимого энтузиазма. К тому же Соланж тайком обещала подарить ему что-нибудь взамен – необязательно автомобиль, это будет сюрприз, пусть только детвора успокоится. Свои щедроты она должна распределять поровну, чтобы не дать повода к бунту.
В утешение она позволила своему Крохе спать в верхнем кармане ее пижамы, у самого сердца, – небывалая милость, о которой не следовало знать Дубельву. Леона не пришлось долго уговаривать: ему нелегко далось изгнание с супружеского ложа и было счастьем вернуться под огромный, похожий на Млечный Путь балдахин, к белоснежным простыням и мягким подушкам, с которых он теперь мог скатываться, как с песчаных дюн. Перед сном Соланж, задрав пижаму, просила его о маленьких одолжениях: он научился красить ей ногти на руках и ногах, отодвигать деревянной палочкой омертвевшую кожу. Приходилось ему также растирать ей затекший палец, чесать спину специальными грабельками из полированного дерева, массировать позвоночник и разминать живот, пощипывая складочки. Кожа Соланж была огромной шахматной доской в веснушках величиной с монету; множество ромбиков разделяли бороздки, скорее даже канавки разной глубины, через которые Леон ловко перепрыгивал. Ублаженная нежным массажем, она рассматривала его слипающимися глазами и говорила: «Какой ты миленький, Леон! Был бы только чуть-чуть побольше!» И мгновенно засыпала.
Это был самый деликатный момент. Сон сковывал ее не сразу, ноги подергивались, тело вздрагивало, язык влажно чмокал во рту. Она ворочалась с боку на бок в поисках удобной позы, перебирала руками под одеялом. Погружаясь в сон, несколько раз всхрапывала – это был залп, подобный раскату грома. У Леона было всего несколько минут, чтобы добраться до своего убежища и свернуться клубочком в складках ткан и. Чувствуя себя наверху блаженства, он закрывал глаза, убаюканный своей живой подушкой, сладко пахнувшей молоком, которая мягко вздымалась и опускалась, покачивая его, как на волнах. Иной раз ночью, в неосознанном порыве нежности, Соланж крепко прижимала его рукой к своей груди, рискуя задушить, и в эти минуты Леону хотелось умереть в ее страстном объятии. Утром Соланж, стараясь не разбудить Бесконечно Малую Величину, вешала пижаму на вешалку и приказывала няньке прийти за ее мужем, как только он позовет. Она купила ему полицейский свисток, чтобы он мог дать знать, где находится. Но нянька, якобы тугая на ухо, его не слышала, и Леон иной раз так и висел с пересохшими от свиста губами до самого вечера.
Прошло несколько недель, и Леон стал официальным постельничьим Соланж, хранителем ее тела и метеорологом ее внутреннего климата. Он снова познал бурные ночи, спеша после долгого отлучения от супруги взять свое по праву мужа. Он просыпался в два или три часа пополуночи, выбирался из кармана и, вооружившись шахтерским фонарем, который сам смастерил, раскурочив электрический поезд Батиста (в ход пошли две фары с локомотива), исследовал обширный организм своей жены, ставшей для него несказано огромной терра инкогнита. От двойной нагрузки, дома и на работе, Соланж сильно уставала и спала очень крепко. Ее не разбудили бы и пушки, стоило ей только закрыть прекрасные зеленовато-голубые глаза. Леон обходил свои владения и думал про себя: «Неужели это все мое? Какой же я богач!» Изобильность супруги завораживала его. Он взбирался к ее лицу, пересекал обширную равнину между грудью и основанием шеи, карабкался благодаря удобно расположенным складочкам на утес-подбородок и усаживался, поджав ноги, прямо под нижней губой. В свете фонаря он обозревал раскинувшийся перед ним пейзаж – ни дать ни взять турист у подножия пирамиды. Что за чудо эта женщина!
Он любовался склонами белой кожи, смазанной нежнейшим омолаживающим кремом, лоснящимися валиками пухлых губ, огромных, как два воздушных шара, – эти губы он столько раз целовал в прошлом, а теперь они могли одним движением проглотить его и не заметить. Особенно его интересовали бороздки, пересекавшие их сверху вниз: быть может, думалось ему, некий ваятель в ее далеком детстве выгравировал крошечным стилетом эти буквы неведомого алфавита, заключив в них повесть о ее будущей жизни? Он вставал, касался этих губ кончиками пальцев, млел от их упругости и бархатистости.
Право, стоило уменьшиться, чтобы увидеть свою жену иной, еще более поразительной, чем до его метаморфозы. Соланж расцвела и похорошела. Легкое дуновение вырывалось из приоткрытого рта, он вдыхал этот ветерок, напоенный всеми ароматами ее тела, и ощущал прилив сил. В восхищении он взирал на огромные глазные яблоки – два живых глобуса под шторами век, примятых, точно рисовая бумага, испещренных тонкими голубыми прожилками и подрагивающих во сне. Как бы ему хотелось укрыться за этими шторами, омыться соленой водой ее слез, выспаться в морщинке, что залегла в уголке глаза. А если долго и неотрывно смотреть – возможно, он увидит, как на экране, ее сны и разделит их с ней? Ее длинные черные ресницы, похожие на зонтики от солнца, ее огромные ноздри – две глубокие пещеры, вход в которые был опутан густой порослью черных лиан, – повергали его в изумление. Его Светлейшая шелестела, стрекотала, присвистывала, мурлыкала во сне, из глубин ее носовых полостей неслась жизнерадостная музыка, зажигательные мелодии, которые ему хотелось записать на магнитофон. Он боготворил все, исходившее от кумира, не сомневаясь в божественной природе Соланж: она была существом, упавшим с небес, а его удел – поклоняться ей. Ему хотелось вскарабкаться на гребень носа, добраться до висков, исследовать лоб, отважно углубиться в душистую медно-рыжую чашу волос, аккуратно убранную и стянутую лентой (несколько непокорных прядей выбивались крутыми завитками, густые, благоухающие, похожие на львиную гриву), но он не решался топтать ее лицо своими ножонками, боясь разбудить.
Случись Соланж проснуться и сесть в такую минуту, она стряхнула бы Леона, точно крошку, вниз, на простыни. Он сам себе казался муравьем на стволе секвойи, но что с того – ему был неведом страх. Совершенны были черты этой женщины, безукоризненна их симметрия. Рассматривать ее – все равно что созерцать фасад готического собора или дворца эпохи Возрождения, восхищаясь как чудом всего ансамбля, так и красотой отдельной детали. Высоко над ним, точно полная луна на небосклоне, лицо Соланж излучало сказочное сияние, повергавшее его в трепет и наполнявшее восторгом. Божественна – да, она была божественна.
Со временем он так осмелел, что позабыл наказы жены: она запретила ему ходить… сами догадайтесь куда! – и просила не спать голышом во избежание соблазнов. Он с вечера прятал в кармане пижамы нейлоновый шнурок и привязывал его ночью к левому соску жены – это была глыба плоти величиной с его ногу, с зернистой поверхностью – ни дать ни взять скальный крюк, – твердевшая под воздействием холода. Леон спускался, как заправский альпинист, проходил под огромной грудью (95Е), высоким куполом белевшей в ночи, огибая слева решетку ребер, слышал барабанный бой сердца, пересекал котловину солнечного сплетения и располагался биваком у пупка – широкого, как кратер вулкана, колодца, окружавшего сложный рисунок, что-то вроде двойной спирали, оставшийся после отсечения пуповины. Изнутри расширяющейся книзу корзины он слышал треск и бульканье. Там, под этим пневматическим матрасом, что-то рокотало, как засорившийся водопровод.
Соланж переваривала пищу, укрепляла свое огромное вместилище. Пройдет несколько часов – и опустевший желудок снова заурчит, требуя еды. Три беременности не испортили ее форм, она лишь немного округлилась, и этот намек на полноту особенно умилял Леона. Тело Соланж жило и дарило жизнь, этим оно и было прекрасно. Ее живот вздымался и опускался в ритме дыхания, укачивая Леона, порой он незаметно засыпал, и тогда приходилось чуть свет карабкаться, обдирая руки, наверх, отвязывать веревку и поспешно нырять в карман. Он и тут рисковал: если бы Соланж вдруг встала по неотложной надобности и обнаружила повисшего на левой груди паучка – что бы она сказала? Уж наверно, задала бы ему хорошую трепку. Иногда Горчичному Зернышку хотелось покрасоваться: он гарцевал на своей Необъятной, бежал во всю прыть по склонам живота, порой добирался до пышных, мягких бедер, где заманчивых складочек хватило бы на сотню таких Леонов, прыгал и кувыркался, благо падать на свою толстушку ему было очень мягко. Но ни разу он не отважился спуститься ниже пупка, туда, где начинается сухая полоса густой растительности: эта зона, огороженная кордоном трусиков (белый атлас, размер 50), была для него запретной. Уменьшившись, он потерял доступ туда. Он больше не был мужем Соланж – всего лишь временным жильцом ее роскошной анатомии. Жить на ней было все равно что в гареме, где тысяча разных женщин воплотились в одной. Если он тайком присвоит частицу ее, думалось ему, – это не воровство.
И вот однажды вечером, вернее, лунной ночью, когда Леон опьянел, неосмотрительно надышавшись хмельным духом подмышек Соланж, он решился и, захватив второй шнурок, чтобы увеличить радиус действия, начал спуск по животу от пупка к ногам. Из осторожности он решил пробираться ползком, точно траппер, подстерегающий бизона. Растительность становилась все гуще, буйные травы так щекотали ему нос, что он два раза чихнул. Он знал, что дорога в рай полна опасностей, но, нарушая табу, испытывал незнакомый доселе восторг. Аккуратно приподняв резинку трусиков – словно бы раздвинув ряды колючей проволоки, – он ступил в шелковистую чашу, обильно покрывавшую широкий холм, скорее даже курган. Очевидно, газон давно не подстригали. Подумать только, в прежние времена его супруга была всегда чисто выбрита во всех местах – он даже упрашивал ее оставить хоть несколько волосков под мышками! Леон огляделся, сверился с навигационными приборами – компас, буссоль и секстанту него имелись, – убедился, что не сбился с пути и не забрел, скажем так, в тыл, что было бы досадно. Потом он лег ничком в пышную поросль и стал вдыхать ароматы полей – свежий дух цветов и трав, смешанный с мускусным запахом мыла. Но другой, дурманящий запах поднимался из недр: тянуло йодом, морскими водорослями, дыханием соленых вод. Целый подводный мир жил своей жизнью под этим утесом. Ему казалось, будто он слышит рев прибоя, плеск разбивающейся о скалы высокой волны. Воспоминания о былом безумном счастье нахлынули на него, голова пошла кругом, уже не владея собой, он тоненько закричал, зарылся лицом в густые заросли, ему хотелось и смеяться, и плакать. Боже мой, а что, если вернуться туда? А что, если… Почему бы нет? Поселиться в Соланж навсегда, остаться квартирантом в ее просторах? Да, почему бы не вернуться знакомым путем в первородный мешок и застыть там потихоньку этакой мыслящей окаменелостью? И никто не узнает, даже она, то-то он заживет припеваючи, и кров, и стол задаром, никаких забот. Вечное блаженство, рай на земле!
Так он думал, лежа на самом краю лобка, не зря именуемого холмом Венеры, готовый спрыгнуть в святая святых. Соланж – она спала по обыкновению на спине – слегка раздвинула во сне ноги. Леон смотрел в бездну перед собой и не мог насмотреться. Он был сам не свой от величественной красоты пейзажа и уже прикидывал, как будет проще до него добраться. Что же произошло? Как он мог так оплошать, он, знавший местность, как свои пять пальцев, исходивший ее вдоль и поперек? О, сущая и весьма прозаичная мелочь: своими передвижениями он щекотал Соланж, она машинально потянулась рукой к низу живота, чтобы почесаться, и сбросила, даже не подозревая об этом, своего маленького мужа прямо в пропасть. Ее огромные пальцы стряхнули его одним щелчком. Не понимая, что происходит, он упал вниз головой, почувствовал, как его обдало жаром, и пролетел, не ударившись, сквозь буйную растительность до самых ягодиц, которые, как подушки, смягчили падение. Он был лишь слегка оглушен и мог бы выбраться, ухватившись за тяжелый багровый полог, обрамлявший этот каскад плоти. Но там, в вышине, Соланж вздохнула, раздраженная щекоткой, качнулась всей своей огромной массой, а потом с поразительной для такого веса резвостью перевернулась на правый бок и сдвинула ноги, зажав беднягу Леона: он оказался в тисках, точно муха, расплющенная между страниц книги, застряв носом в таком месте, назвать которое нам не позволяют приличия.
Соланж нашла его утром, задохшегося, полумертвого, у себя между ног и не столько испугалась, сколько возмутилась. Она извлекла его, липкого от слизи, и стала приводить в чувство: окунала поочередно в стаканы с ледяной водой и с горячей, делала искусственное дыхание рот в рот через соломинку, причем дула так сильно, что он едва не лопнул. Можно было позвать на помощь Дубельву, но тогда пришлось бы объяснять ему, что Леон спал в ее постели, а это оскорбило бы славного профессора в лучших чувствах, тем более что он как раз накануне сделал ей предложение, и она, устав противиться, согласилась. Как только Микроб пришел в себя, Соланж дала волю своему гневу. Он злоупотребил ее доверием, позволил себе мерзкие веши. У нее чесались руки выпороть его хорошенько, чтобы научить себя вести. Отныне, объявила она, похотливая козявка будет спать в одиночестве, и никаких нежностей на ночь! Сладкой жизни пришел конец.
11
Папаша с приветом
Когда гнев Соланж поутих, она купила Леону взамен погибшего «ягуара» спортивный самолет «сессна», биплан с настоящим маленьким двигателем, управляемый как вручную, так и с помощью пульта. Коль скоро не на чем стало ездить – пусть маленький муж летает. Для семьи настала счастливая пора. Обиды и невзгоды последнего времени были каким-то чудом забыты, и общее дело объединило родителей и детей. Батист завидовал роскошной машине отца, самолету же – нисколько. Леон наравне с Соланж и детьми участвовал в сборке модели, доставленной в разобранном виде, лично наблюдал за работами, расточал советы и похвалы. От возбуждения он почти не спал, устроил себе походное ложе прямо «в цеху» – на краешке кухонного стола, среди отверток, ножниц и баночек с краской и лаком. В запахах скипидара и клея он скреплял, подгонял, свинчивал не покладая рук. Сам выкрасил корпус и написал на нем красной и черной краской имя своего самолета: «Молния».
На этот раз Батист и Бетти тоже увлеклись затеей: крошечный человечек, который звался их отцом, оказывается, еще мог их чем-то удивить. Даже Борис и Беренис – близнецам было полтора года – своим лепетом явно пытались выразить интерес. Они видели суету, оживление в доме, и им тоже хотелось участвовать. Леон, Мелочь Пузатая, Шмакодявка, Мозгляк, вновь снискал, хотя бы отчасти, уважение в семье! За лихорадочной деятельностью и радостным предвкушением забылись даже недавняя опала и отлучение от тела супруги. Он был уверен, что Соланж рано или поздно снова примет его в карман пижамы – надо только еще немного потерпеть. Чтобы утешиться, он стащил у нее надушенный платочек и сделал себе из него покрывало на кровать и две наволочки.
У аэроплана был двойной карбюратор, в который заливался бензин – десять капель, из зажигалки. В жизни Леона началась светлая полоса, новое увлекательное занятие стерло из его памяти невзгоды последнего времени. Постичь механику полета, освоиться с ветром, обнаружить, что воздух – тоже вещество, как вода и земля, – все это было куда увлекательнее, чем езда на автомобиле с ее ограниченными возможностями.
Батист уговорил мать поставить на обеденный стол электрическую железную дорогу (модель НО) для папиных передвижений. Стоя на крыше пульмановского вагона или в контейнере товарного, Леон сновал между сотрапезниками, передавал то соль, то кусок хлеба, с трудом удерживая их в своих ручонках. Свергнутый властелин превратился в шута: чего только он не вытворял, стараясь развеселить своих деток. Батист, державший в руках переключатель, мог по своей прихоти регулировать скорость локомотива; иной раз, подмигнув крошке-отцу: мол, покажи-ка, на что ты способен, – он передвигал рычажок на максимум, и поезд вихрем мчался вокруг овального стола, пока из-за ненадежно сцепленных вагонов или зазора на путях весь состав не сходил с рельсов. Леон должен был выпрыгнуть на ходу перед самой аварией. Когда ему удавалось приземлиться на ноги и не упасть, чада награждали отца аплодисментами. Если же он, не рассчитав, плюхался в масленку или, к примеру, в сахарницу, подняв облако белой пудры, его освистывали. Соланж вытаскивала мужа за штаны и отмывала в стакане с водой. Ради того, чтобы снова стать отцом своим детям и вернуть любовь жены, Леон был готов и не на такое.
И он актерствовал как мог, наряжался римским императором, паяцем, тореадором, танцором танго, хлыщом в лакированных ботинках, боксером. Силясь привлечь к себе внимание, он извивался, как червяк, расправлял плечи и выпячивал грудь, зачесывал назад волосы. Он красовался перед публикой, даром что лилипут, выступал павлином, стоял на голове, ходил колесом! Ему хотелось удивлять их постоянно, не давая роздыху: например, он наловчился, прыгая по клавишам пианино, с черных на белые, играть ногами танцевальные мотивы, да так чисто, что и руками бы не всякий сыграл. И что же – дети аплодировали минут пять, после чего уходили, да еще кто-нибудь с грохотом опускал крышку, и бедняга оставался один в кромешной темноте. Но он не обижался, всегда сиял улыбкой, даже вздоха себе не позволял. Однажды вечером он приготовил для них «хрустальный концерт» и исполнил «Ah! Vous dirai-je Матап» Моцарта палочками на фужерах и рюмках. Он бегал туда-сюда без устали и так старался не упустить ни одной ноты, ни единого нюанса мелодии, что Соланж, заслушавшись, подхватила мотив, а за ней в восторге запели и малыши. Это был чудесный вечер воссоединения семьи.
Но каждый день ему приходилось покорять сердца заново. Чтобы блеснуть перед детьми, он порой отчаянно рисковал: прыгал, например, с горлышка бутылки в стоявший рядом графин с водой. Однажды Борис без злого умысла переставил графин на несколько сантиметров – и Леон чуть не разбился насмерть. Он отделался сильными ушибами и несколько недель ходил с перевязанной головой. Но не суть, главное – чтобы о нем могли сказать: «С Леоном не соскучишься». Он жонглировал, ходил по канату, натянутому между двумя банками с водой, прыгал через горящий обруч, что ни день показывал новые номера, и Соланж, присматривая за своим выводком, улыбалась ему. Он отпустил усы и бороду, чтобы выглядеть более мужественным – правда, смахивал всего лишь на зернышко риса, обросшее волосами. Для него не было ничего отраднее, чем видеть смеющиеся рожицы детей, их хлопающие ладошки, их блестящие глаза, когда ему удавался очередной трюк. В такие минуты он не был Клопом, Ничтожеством, Минусом. Растроганная Соланж назвала его однажды «мой Большой Безумец». Три волшебных слова – от них он и вправду чуть не лишился ума.
Чтобы услышать их снова, Леон нырнул в банку с жидкой сметаной, забрызгав скатерть в радиусе полуметра, разбил головой яйцо всмятку и принялся бегать под скорлупой по столу, как черепаха под панцирем, оставляя за собой желтые следы, чем вызвал громовой хохот зрителей. Батист, покатываясь со смеху, нарочно опрокинулся навзничь вместе со стулом, сестра тотчас последовала его примеру, ушиблась и захныкала. Назревала смута: близнецы тоже захотели опрокинуть свои стульчики, зацепили, падая, скатерть, четыре полные тарелки разбились с неописуемым грохотом, супница покатилась по ковру, расплескивая суп. Тем временем Леон на другом конце стола вконец разошелся, повалялся в масле, помочился на хлеб. Настал его час. Всеобщий переполох был его стихией, а ради восторженного визга малышей он готов был делать глупости бесконечно. Соланж вышла из себя, нашлепала всех четверых детей и отправила их спать, а Леона посадила в его домик и запретила выходить до высочайшего позволения. Он просидел под домашним арестом сорок восемь часов. Беда Леона была в том, что он ни в чем не знал меры.
Он метил выше – осваивал самолет. Тренировался несколько месяцев, наизусть выучил учебник. И вот, в полной амуниции – спортивной тенниске, кожаной куртке и мокасинах с пряжками – он совершил свой первый вылет с обеденного стола в направлении коридора под Рождество, ровно в десять часов. На первый раз он сделал несколько осторожных кругов по комнате на средней высоте 1,80 м (высота потолка составляла 3,40 м) и приземлился четверть часа спустя на тот же аэродром под овации детей. Соланж на всякий случай страховала его, держа пульт управления. Леон ни разу не ошибся, в совершенстве освоился с разницей атмосферных давлений, ловил ветер, умело избегал столкновения с мебелью. Он не сомневался, что благодаря фигурам высшего пилотажа окончательно станет героем в глазах детей и потеснит пытавшегося завоевать авторитет в доме Дубельву. Успехи мини-мужа так впечатлили Соланж, что она убрала электронный пульт в шкаф.
Несколько недель все шло как нельзя лучше. Едва лишь первый луч солнца проникал в его домик (он спал с распахнутыми настежь ставнями, чтобы не терять ни крупицы света), Леон скатывался вниз, свежевыбритый – от бороды и усов он избавился, – одетый в новенькую с иголочки пилотскую форму – она продавалась в комплекте с самолетом, и он сам подогнал ее по своему размеру. Самолет стоял внизу, в ангаре, сделанном из картонной коробки; Леон вручную, по старинке, приводил в действие винт, запрыгивал в кабину, выжимал газ и около 7.30 взлетал, в последний раз проверив двигатель и наличие топлива в баках – по капле бензина в каждом. Его комната превратилась в настоящую мастерскую – десятки инструментов, каждый на своем месте, бутылочки со смазкой, отвертки, промасленные тряпки: он холил своего любимца.
Итак, он разгонялся, взлетал ровно через полметра и набирал высоту, предварительно убедившись, что дверь чулана не захлопнулась от сквозняка.
На высоте около метра он устремлялся в длинный лабиринт коридора, который вел к двум смежным комнатам, гостиной и столовой. Там он поднимался выше, на шесть футов, и, едва не задевая лампы под потолком, закладывал еще два довольно крутых виража на крыле. Это было непросто, особенно для самоучки, который в одиночку осваивал искусство пилотажа. Машина вибрировала и жила, как часть его организма, продолжение тела. Обогнув большую люстру, он триумфально влетал в столовую. Дети издалека слышали его мотор, а Батист, высматривавший отца в бинокль, исполнял роль диспетчерского пункта. Они тотчас готовили посадочную полосу – очищали от крошек длинную доску для резки хлеба, к концу которой прикреплялся резинками валик из ваты, на случай, если откажут тормоза. Леон садился – трясло его при этом изрядно, – разворачивался, заводил машину в ангар, выпрыгивал из кабины и раскланивался под крики «ура!». Утренний кофе он пил на почетном месте – у ангара был поставлен кукольный стульчик. В самом радужном настроении он смаковал эспрессо, поданный в скорлупке желудя, и уплетал корочку круассана с ежевичным джемом.
Через неделю-другую Леон осмелел, взлетал с площадок поменьше, проносился на бреющем полете над детскими кроватками, кружил вокруг телевизора, то и дело пикируя перед экраном, к неудовольствию детей, которым он мешал смотреть мультики. Двигатель работал на пределе, кабина кренилась, Леон заключал сам с собой безумные пари: удастся ли сесть на узенькую спинку стула, на подлокотник кресла? Он не понимал, одержимый желанием ошеломить детей, что именно этим их раздражает. Они даже начали разговаривать с ним на ломаном языке, употребляя глаголы в неопределенной форме: «ты уходить, ты замолчать, ты подвинуться», точно обращались к слабоумному.
Его самолет оставлял за собой шлейф белого дыма; однажды он ухитрился, выполнив несколько головокружительных фигур, написать между лампами и дверным косяком: «Я ВАС ЛЮБЛЮ!» Но старших детей Соланж увела чистить зубы, и только Борис и Беренис, еще не научившиеся читать, увидели надпись, которая тут же растаяла в воздухе. Скромный мегаломан, хлипкий гигант, Леон уподоблялся человечкам из комиксов, которые корчатся и высовывают язык в нижнем углу страницы, чтобы на них обратили внимание.
Что поделаешь, больше ему нечего было дать своим детям, и он зашел слишком далеко. Например, влетал на самолете в кухню, пугал няньку, вырывал ей клок волос, задев винтом: вот тебе, вот тебе, мерзавка, отрава жизни! – кружил над плитой, над кастрюлями, наблюдал в бинокль за приготовлением блюд, докладывал по радиосвязи: «Яйцо всмятку готово, спагетти сварились, котлеты недожарены, Земля, Земля, прием!» Порой он не мог удержаться от злых выходок, когда врывался без спросу в супружескую спальню и видел огромную гориллу в пижаме, развалившуюся на кровати Соланж с его собственными детьми, которые весело копошились на ней. Отличавшийся повышенной волосатостью – его плечи и спина были покрыты густой черной шерстью, и даже ягодицы напоминали ковровое покрытие, – профессор Дубельву теперь, на правах официального жениха, спал на егоместе, пил в егокресле, обнимал егожену. Какой смысл быть отцом, если тебе так быстро находят замену? Леон пикировал, заряжал бортовой пулемет: «ВОН ИЗ МОЕЙ ПОСТЕЛИ, ЖИРНЫЙ БОРОВ, ГОРА САЛА, ШКАФ С ХОЛЕСТЕРИНОМ!» Дубельву только и успевал скатиться на пол и позорно бежать в ванную или запереться в туалете.
– Соланж, на помощь, он хочет меня убить!
– Ну что ты, милый, в нем же десять сантиметров, чуть больше твоего пениса.
– Он вооружен, стреляет рисом, да как метко, чуть мне глаз не выбил. Налицо синдром Наполеона, все маленькие люди жаждут реванша, это общеизвестно.
Надо признать, положение Дубельву было не из легких: чтобы жениться на женщине, чей бывший муж, уменьшившийся до размеров ящерицы, по-прежнему проживает под ее кровом, требовалась широта взглядов поистине необычная. Устав от подобных сцен, Соланж в конце концов запретила Леону доступ в спальню.
Он воображал себя одним из воздушных пионеров, пересекавших на «этажерках» Анды или океан, наследником Мермоза или Линдберга, [5]5
Жан Мермоз (1901–1936) – французский летчик, друг Антуана де Сент-Экзюпери; Чарльз Огастес Линдберг (1902–1974) – американский летчик, совершивший в 1927 г. первый трансатлантический перелет.
[Закрыть]командиром боевой эскадрильи. Аэроплан свой он нежил и лелеял, разговаривал с ним, как с живым, подбадривал, благодарил и постоянно совершенствовал всевозможными техническими новшествами. Он уже мечтал о реактивном самолете – «Rafale» или F-16 [6]6
Истребители французских ВВС.
[Закрыть]очень бы ему подошли – и жалел, что стал врачом, а не летчиком-истребителем.








