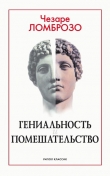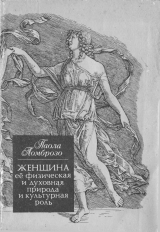
Текст книги "Женщина. Ее физическая и духовная природа и культурная роль"
Автор книги: Паола Ломброзо
Жанры:
Психология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
Кокетство и мода
Но кокетство имеет право на нашу признательность и по другим причинам и с совершенно другой точки зрения: ему мы обязаны тем комфортом и тем материальным благосостоянием, которыми окружает нас современный уклад жизни. Когда мы сидим в красивой, уютной и теплой гостиной в мягком кресле, а музыка услаждает наш слух и дамы в красивых туалетах мелькают перед нашими глазами, мы, созерцая это приятное и красивое зрелище, не должны забывать, что все это создало главным образом кокетство.
Главная цель кокетства, как мы уже сказали, состоит в том, чтобы возбудить восхищение и вызвать поклонение, и женщина употребила все средства, чтобы сделаться привлекательной для мужчин. Но природная красота дается не всем, а наряд, драгоценные украшения служат неотразимыми вспомогательными средствами для тех, кто умеет ими пользоваться. С самых отдаленных времен женщина инстинктивно старалась найти подспорье для своей привлекательности в одежде и украшениях. Прямо трогательно видеть рядом с кремневыми ножами и железными скобками доисторических времен бедные, грубые и наивные женские украшения: ожерелья из зубов животных, железные браслеты, похожие на кандалы, железные и медные серьги, которые, казалось бы, должны были разорвать уши. Но доисторическая женщина, вероятно, очень гордилась тем, что могла носить на себе с полпуда таких украшений.
В раскопках на Крите, обнаруживших остатки цивилизации за 5 тысяч лет до Р.Х., находят рисунки, изображающие женщин в корсетах, юбках с волнами и в шляпках /?/… А Шлиман отрыл драгоценные украшения Елены и описал всю их утонченную красоту и изящество. Мы видим, следовательно, с каких отдаленных времен женщина прибегала уже к ухищрениям туалета и моды. И как бы ни были тяжелы времена, женщина никогда не теряла из виду этот основной ресурс своего успеха.
А в средние века, в эпоху беспрерывных войн, когда, казалось, иссяк совершенно интерес к мирному семейному обиходу, и женщина, живя в мрачных укрепленных замках, между монахами и воинами, казалось, должна была стать жертвой уединения и воздержания, – что придумали дамы для того, чтобы сообщать друг другу последние известия моды? От одного замка к другому переезжали посланные, возившие куклы, одетые по последней моде. Перед ними опускались подъемные мосты, и по мрачным оружейным палатам проходили они к хозяйке замка, которая вместе со своей прислужницей внимательно рассматривала все подробности миниатюрного костюма и затем с воодушевлением принималась за долгую и требующую большого терпения работу, за плетение кружев и за вышивки, которые должны были украшать ее и разнообразить ее одинокую праздную жизнь.
Разумеется, мы не будем утверждать, чтобы все, что создала мода, было достойно удивления и восхищения. Мода часто бывала нелепой и смешной: благодаря тому, что женщина имеет чрезвычайную склонность к преувеличению, к излишеству, склонность эта весьма часто проявляется в ее туалетах. Показалось, например, грациозным и милым удлинить немного талию, которую прежде носили слишком короткой, почти под мышками. И вот при помощи железных планшет и китового уса талию удлинили до безобразия; маленькие «панье», выгодно обрисовывавшие линию бедер и придававшие грациозность и некоторую солидность слишком тоненьким фигуркам дам XVII века, становились все больше и шире и дошли до таких пропорций, что совершенно изменили естественные формы. После чрезвычайно сложного, украшенного воланами и фестонами костюма-рококо особенный успех имела новая мода простых, гладких греческих костюмов директории. Но и эта мода дала повод к преувеличениям: дамы стали одеваться все легче и легче, покрывая себя легкими прозрачными тканями, открывая все более и более бюст и руки, что соответствовало климату древней Греции и Рима, но не суровому климату средней Европы. Воспаление легких унесло много жертв, а женщины между тем и не думали защищать свою жизнь против безжалостных и нелепых требований моды! – Кринолины отошли уже в область преданий; но когда-то эта мода удостоилась великой чести: лондонский парламент вотировал закон о расширении дверей этого парламента, дабы в палату могли входить супруги пэров Англии. Только невероятная наклонность к преувеличению заставила в XVIII в. нагромождать на головы дам прически, представлявшие собой целые сооружения: целый сад с цветами, растениями и птицами, корабль, мельницу с мельником, гнездо с птицами и т. д. Подвергаться такой сложной работе парикмахера, продолжавшейся несколько часов, и выдерживать потом на своей голове значительную тяжесть, а к тому же решиться проводить ночь, опираясь головой на деревянную скамеечку – разве это не доказательство удивительного терпения, выносливости, на которые способны женщины, когда дело касается туалета? И тем не менее эти нелепости и преувеличения моды доказывают находчивость и изобретательность женщины. Смешные фижмы и распашонки a L'innocente были выдуманы какой-то принцессой, чтобы скрыть беременность, после чего появились юбки с фижмами с названиями, которые весьма прозрачно обозначали их назначение: «moitie terme» (половина срока), «trois quarts» (три четверти). Пущенная в ход мода тотчас же была принята всеми дамами. «Рюшки» и «фрезы» были изобретены одной королевской фавориткой, шея которой была слишком длинна и худа. Девица Гамбаж, другая фаворитка, имевшая волосы огненного цвета, ввела в моду пудру, которой покрывала себе волосы до того, что они делались белыми; а нарост на голове какого-то члена королевской семьи в XVII в. дал повод к введению в моду париков. Но если кокетство иногда вовлекало в нелепые преувеличения, то оно дало женщине и то маленькое орудие, называемое иглой, вначале грубое, как мы это видим по иглам, найденным в первобытных могилах, а теперь тонкое и гибкое, с помощью которого искусные руки женщины научились создавать удивительные кружева, вышивки, окружающие словно легким облаком женские платья. Брюссельский тюль, тонкий, как паутина, венецианское кружево, словно выточенное из слоновой кости, алансонское и ирландское кружева, бахрома, аграманты, вышивки золотом и шелком, плоской и выпуклой гладью – все чудеса терпения, вышедшие из рук женщины при помощи иглы, веретена, ткацкого станка, служат для того, чтобы красивым одеянием дать рельеф красоте и грации женщины. Существует одно знаменитое учреждение, обязанное своим возникновением изысканию живописных элементов украшений женского туалета, внушенных женским кокетством. Это – парижский Jardin des Plantes, послуживший образцом всем ботаническим садам Европы. «Jardin des Plantes», называвшийся прежде «Jardin du roi», обязан своим возникновением моде на материи с цветами, введенной придворными дамами в царствование Людовика XIV. Зачатком же его послужил маленький сад, который в царствование Генриха IV держал один догадливый садовник, доставлявший модели для рисовальщиков материй и вышивок. Это обстоятельство служит новым доказательством постоянства и последовательности, с которой женщина отыскивала все, что могло возвысить красоту ее и служить ее кокетству.
Таким образом женщина побудила к изысканию драгоценных камней в недрах земли и чудных жемчугов на дне моря, поощряла ввоз и выделку самых редких и красивых тканей: бархатов, брока, шелковых материй, находя им соответственное применение, употребляя одни для торжественных нарядных платьев, другие для легких воздушных бальных костюмов и третьи, наконец, для защиты от холода. Тысячи и миллионы рабочих и работниц во все времена и в течение всей своей жизни заняты были только производством того, что изобрела женщина для украшения своей личности и для убранства своего дома. И это – одна из главных заслуг женщины: она сумела выдумать и устроить свой «дом», соединив в нем все элементы комфорта, красоты и уютности, составляющие пленительную прелесть нашего современного жилища. К этому также побуждало ее кокетство или, по крайней мере, потребность художественной утонченности, эстетического чувства, пробужденных в ней опять-таки кокетством, которое действительно может приписать себе честь создания самых красивых отраслей современной промышленности.
Самого простого исторического исследования достаточно для того, чтобы констатировать, что эти элементы изобретательности и красоты, которые женщина старалась использовать прежде всего для собственного украшения, она стала применять в более обширной области – для украшения своего дома. Конечно, перья, драгоценные ткани, тяжелые и красивые штофные материи, тонкие восточные покрывала, впервые ввезенные венецианскими купцами, прежде всего были употреблены женщинами для своих собственных роскошных одеяний; но когда ввоз драгоценных тканей увеличился, они распространили употребление их и на вещи, среди которых они жили: покрыли ими стены, набросили их на кровати и обтянули ими диваны. Точно так же и игла работала сначала исключительно для личных потребностей женщины: первые удивительные произведения терпения и искусства женщины – кружева, вышивки, галуны – служили для ее собственного приданого, но позднее она распространила эти украшения и на дом свой, покрыла вышивками и кружевами свою брачную постель и подушки, стала делать роскошные скатерти для пиров, долженствовавших ознаменовать важные события семейной жизни, стала ткать тонкие полотна и плести легкие, как облако, кружева для колыбели своего младенца.
В странах еще первобытной культуры, там, где еще живут «по старине», как, например, в некоторых горных местностях, у женщин встречаются великолепные костюмы, расшитые золотом и шелками, тогда как предметы домашней обстановки еще грубы и бедны. Позднее, как бы в доказательство того, что и домашняя утварь есть изобретение женщины и делается для нее, первою роскошною мебелью дома был сундук, роскошно украшенный резьбой, живописью, мозаикой и служащий для сохранения ее приданого, лучших ее одежд, драгоценных украшений. Буфет и комод, появившиеся позже, были не что иное, как поставленные один на другой сундуки. Как женщина, прежде чем о всякой другой мебели, подумала о сундуке и о кровати, точно так же она выдумала нарядный, сложный и изящный «туалетный стол» XVII и XVIII в., действуя в том же направлении, с тем же художественным чутьем и изяществом вкуса, с целью создать благоприятную обстановку для своей красоты. И они выдумали и внушили идею большого зала со стенами, увешанными коврами, с падающим сверху светом больших граненых, как бриллианты, канделябров. Фасон одежды до известной степени создал фасон мебели: средневековые дамы рыцарских замков сидели в своих строгих гиеротических одеяниях на прямых и жестких стульях с прямыми высокими стенками, тогда как кокетливые дамы восемнадцатого века употребляли удобные мягкие, округленные «бержерки», как будто созданные именно для того, чтобы миловидная дама с «панье» и мушками проделывала на них кокетливые ужимочки своей жеманной грации, с вытянутыми ножками в туфельках а la Louis XV, с веером или шаловливым лорнетом в руке. А разве золоченые ширмы со сценами Вато не выдуманы для того, чтобы скрывать tete-a-tete напудренных дам и молодых аббатов? Женщина изобрела туалетный столик, этот миниатюрный храм изящества, блестящий хрусталем, зеркалами, серебром, перламутром, черепахой, уставленный ящичками для пудры и флаконов с духами. Женщина изобрела убранство комнат в стиле Людовика XIV, огромные бальные залы с зеркальными стенами, отражающими их красоту в золоченой рамке. Женщина придумала смягчать резкий дневной свет занавесками и гардинами. Все те старинные стили меблировки, которые мы теперь столь тщательно воспроизводим, изобретены или, по крайней мере, внушены женщиной, которая может вполне приписать себе ту честь, что она не только дала импульс большей части многоразличной и грандиозной современной промышленности, от работы портного до работы столяра, от искусства ювелира до искусства садовника, но использовала эти средства еще и для того, чтобы сделать свой дом красивым и приятным. Мужчине это никогда бы не пришло в голову. Как бы он ни был богат, он не чувствует потребности в великолепии жилища. Ему достаточно роскоши конторы, рабочего кабинета, лаборатории: его жизнь протекает в банке, на фабрике, там, где он имеет дело с цифрами и опытами, совершенно исключающими идею утонченной роскоши и изящества. Роскошный дом, дворец, как клетка без птицы, не имеют смысла без женщины, которой одной только известны способы удовлетворения требований женственности, которая в сущности есть не что иное, как кокетство. Правда, даже и не думая о кокетстве, женщина изобрела котел для варки пищи и колыбель для младенца. Но ее легкомыслие, ее тщеславие, пресловутое кокетство побудили ее отыскать это бесконечное число элементов, способствовавших прежде всего украшению ее личности, а затем нашли им тысячу полезных и остроумных применений в семейной жизни.
Если бы не существовало кокетства, не было бы, пожалуй, и половины тех отраслей промышленности, которые процветают в настоящее время и дают работу и богатство миллионам и миллионам людей и которые без этого двигателя оставались бы в зачаточном состоянии, а может быть, и совсем бы зачахли.
Можно сказать, кроме того, что кокетство исполнило важную и полезную функцию в цивилизации благодаря тому, что научило женщин сдерживать свои грубые порывы и развивать эстетические стороны своей личности. С помощью этих качеств они получили известное влияние на мужчин, которые, в свою очередь, научились обращаться менее грубо с женщинами, находя в них теперь не один только предмет удовлетворения своей чувственности, но и драгоценное орудие эстетического и интеллектуального наслаждения.
VI. Нравственная сила женщины
Удивительно, что общественное мнение и эмпирическая психология пословиц, в общем всегда меткая и тонкая, впадает в столь грубые ошибки и странные заблуждения в отношении оценки качества того и другого пола. Так, напр., принято с давних пор считать женщину существом слабым, трусливым, безвольным, лишенным мужества и нравственной силы. По предвзятому суждению толпы, женщина является существом воздушным, падающим в обморок от малейшего волнения; она кричит при виде паука или мыши, при малейшем осложнении теряет присутствие духа. Это мнение совершенно неверно. И история, и статистика, и самое поверхностное наблюдение показывают, что женщина обладает не меньше, чем мужчина, выносливостью относительно физической боли, усталости и болезни. Женщины первобытных народов исполняли самые тяжелые работы: вскапывали землю для посева, жали, убирали хлеб, растирали его между двух камней в муку, переносили все пожитки с одного становища на другое – все это, не переставая носить и выкармливать детей.
Не прибегая к примеру первобытных народов, мы и теперь видим, что женщины в деревнях работают, как вьючные животные. В Герцеговине, напр., женщины тащат плуг вместо волов; в горах они носят связки сена и дров наравне с мужчинами и мулами. В городах женщины несут такую же долю труда, как и мужчины, и представляют серьезную конкуренцию для них.
Нет такого спорта, требующего, кроме ловкости, хладнокровия и смелости, в котором женщина не выступила бы с успехом: женщина плавает, ездит верхом, стреляет, фехтует, поднимается на воздушном шаре. Альпинизм – этот спорт, требующий наибольшей выносливости и мускульной силы – имеет наряду с именами мужчин, взобравшихся на самые высокие горы, много женских имен. Теперь, когда вошел в моду альпинизм без проводника, так называемый «академический альпинизм», многие пары – сестра и брат или муж и жена – пускались в самые рискованные, трудные предприятия. В настоящее время альпинизм становится таким спортом, который требует не одной только физической, но и нравственной силы, хладнокровия, мужества, презрения к смерти. Но есть еще и другой спорт – научные экспедиции, в котором женщины выказали необычайное мужество, спокойствие духа и неустрашимость. Мы думаем обыкновенно, что исследование новых стран, требующее большой смелости и представляющее столько опасностей, должно быть всецело предоставлено мужчине. Однако и на этом поприще выдвинулось много женщин, и число их, если принять во внимание преграды, которые ставит им их пол, имеет особенно важное значение. Бесстрашные путешественницы не остановились перед страхом неизвестного и перед опасностями самых рискованных путешествий.
Г-жа Бик бесстрашно сопровождала своего мужа в его научной экспедиции 1893—94 г. в южную Аравию, в страну самого фанатического населения. Г-жа Кудро отправилась с мужем в самую нездоровую местность Грианы, а оттуда – в заселенные дикими индейскими племенами равнины бразильских рек. Когда в 1877 г. ее муж умер от лихорадки, она продолжала экспедицию одна. Ливингстон, самый знаменитый из современных исследователей Африки, рассказывает о трудностях пути, перенесенных женою его. Она же вывезла его из Шупанга, спасая его от убийственного климата южной Замбези. Бейкер, вместе со своей женой открывший озеро Альберт Нианца, с восторгом рассказывает о стойкости и храбрости своей жены. Жена знаменитого американского исследователя Эдуарда Силера всегда сопровождала своего мужа в самых опасных предприятиях; она несколько раз проехала через Мексику и Центральную Америку. Джозефина Пири сопровождала в 1897–1902 г. мужа своего в арктическую область Америки и среди льдов крайнего севера, среди всякого рода лишений, связанных с этой экспедицией, родила и выкормила своего ребенка. В путешествии к северному полюсу одна двадцатилетняя девушка, Вильгельмина Расмуссен, сопровождала брата своего Кнуда Расмуссена через всю Гренландию для отыскания одного эскимосского племени, еще никогда не приходившего в соприкосновение с европейской цивилизацией. Все эти экспедиции, в которых женщины принимали участие, были далеко не легки и отнюдь не походили на увеселительные поездки. Чета Голубь во время путешествия по Африке была застигнута разбойниками, отобравшими у нее все ее научные коллекции. Неутомимые супруги принуждены были начать всю работу сызнова и принялись терпеливо собирать и приводить в порядок этнографические сокровища, впоследствии возбуждавшие величайший интерес венских ученых /в 1882 г./. Русский путешественник Потанин и венгерец Уйфальви организовали вместе с женами экспедицию в Центральную Азию. Г-жа Уйфальви, парижанка по рождению и воспитанию, вернулась во Францию и написала отчет о своих замечательных приключениях. Г-жа Потанина, вследствие перенесенных лишений, умерла в Монголии.
Более тяжелая судьба постигла жену миссионера и исследователя Рингарка, последовавшую за мужем через Тибет, имея при себе своего маленького сына. Путешествие по тибетским горам совершено было среди невыразимых страданий. Семья достигла наконец священного города буддизма Лхассы, где они в 1898 г. подверглись нападению тибетских грабителей. Товарищи их бежали; Рингарк с женой и сыном спрятались на дне оврага. Через несколько часов миссионер направился к ближайшему поселению, чтобы просить о помощи. Но жена не дождалась его возвращения: мужа ее убили туземцы. Тогда жена с маленьким сыном одна пустилась в обратный путь под ежеминутным страхом лишиться жизни от руки убийц или от истощения. Однако через четыре недели, преодолев невероятные лишения и трудности, она пришла в город Т-дзиен-лу.
Из путешественниц, отправившихся самостоятельно, без мужа или какого-либо родственника, на открытие и исследование неведомых стран, самой знаменитой была Ида Пфейфер, урожденная Рейер. Сорока четырех лет от роду она в дальних странствиях искала забвения от огорчений несчастного супружества. Первое свое путешествие она совершила в 1842 г. в Палестину и Египет. На следующий год она отправилась в Исландию, а затем уже вся жизнь ее сделалась рядом, самых необычайных приключений. Путешествовала она по большей части одна, даже без прислуги и в течение шестнадцатилетнего периода своих путешествий объехала весь свет. Нет страны, в которой она не побывала, а за время от 1842 до 58 г., когда пути сообщения и передвижения были еще довольно примитивны, она посетила страны, в которые не вступал еще ни один европеец. После путешествия в Исландию она в 1846 г. предприняла экспедицию в Бразилию, Чили, Персию и на о. Таити. Результаты ее исследований были столь любопытны и богаты, что в 1851 г. австрийское правительство отправило ее за свой счет во второе кругосветное путешествие. Главной целью ее исследований были на этот раз Борнео, Суматра и Ява. С невероятной смелостью, без эскорта, без оружия отправилась она к людоедам. Из письма, написанного ею из Рио-де-Жанейро 30 сент. 1846 г., мы видим, каким страшным опасностям она подвергалась. В сопровождении одного старого господина она хотела из Рио-де-Жанейро пробраться в Петрополис. «Мы не имели пистолетов, – писала она, – и спокойно и уверенно следовали по нашему пути, тем более что поминутно встречали караваны погонщиков мулов. Но когда тропинка привела нас к девственному лесу, в несколько уединенную местность, вдали от проезжей дороги, из чащи выскочил навстречу нам негр, вооруженный огромным ножом и веревкой. Он бросился к нам с поднятым ножом. У нас не было ничего, кроме зонтика и перочинного ножичка, который я тотчас и вынула из кармана. Негр схватил зонтик, и у меня осталась в руках одна только ручка. Но, ухватившись за зонтик, он уронил нож; я бросилась поднимать его, но он был проворнее. Он оттолкнул меня и снова завладел своим ножом. Я думала уже, что должна расстаться с жизнью, но решилась уступить ее как можно дороже: я ударила его перочинным ножом в грудь, но он быстро заслонил себя рукой, которая и получила глубокую рану. Между тем мой старый товарищ схватил его сзади за горло; но негр обернулся и ранил его, а затем вошел в такую ярость, что, казалось, превратился в дикого зверя. Мы уже считали себя погибшими, как вдруг услышали конский топот, который заставил негра бежать. К нам подъехали два всадника и, узнав о нашем приключении, пустились в погоню за негром и, к счастию, нагнали его». Неустрашимость и скромность, а также спокойствие и доверчивость, с которыми она шла к туземцам, производили на них выгодное впечатление и служили ей как бы охранной грамотой.
Рядом с Идой Пфейфер следует назвать другую смелую последовательницу – Алексину Тинне. Молодая, красивая, богатая, она, после кратких путешествий в Сирию, Палестину и Египет с матерью и теткой, девицей А. ван-Капеллен, отправилась в июле 1861 г. из своего родного города Гат в долгое путешествие по Египту. Алексине Тинне было 22 года, и она готова была пожертвовать всем своим богатством и всей своей деятельностью ради своей мечты. Из трех женщин ни одна не вернулась на родину. Мать и тетка погибли от убийственного климата в первой половине экспедиции, а шесть лет спустя прелестная молодая девушка пала от руки убийцы. Жители берегов Нила вообразили себе, что Алексина Тинне – дочь султана, посланная им на помощь и на утешение. Даже знаменитый торговец невольниками, Магомет Шер, принял ее с царскими почестями и предложил ей сделаться царицей Судана. Начало путешествия через Джебельмайю протекло однообразно среди тростников, растущих по берегам реки; но затем путешественницы чуть не сделались жертвами шилуков, раздраженных притеснениями хартумских купцов. Однако и к ним уже проникли слухи о дочери султана и спасли путешественниц. Когда пароход остановился у одного шилукского селения, чтобы забрать топливо и экипаж отказался сойти на берег, опасаясь туземцев, Алексина Тинне прошла через поселение с десятью солдатами: ее приветствовали с восторгом, как дочь султана, и предложили ей корону страны. Но в дальнейшем путешествии их встретила более опасная, чем люди и дикие звери, лихорадка. В ноябре путешественницы снова были в Хартуме, чтобы приготовиться к главному путешествию внутрь страны. Г-жа ван-Капеллен, серьезно больная, осталась в Хартуме. Караван двинулся в путь подобно царскому шествию. Для присмотра за научными коллекциями к экспедиции присоединились Теодор ван-Генглин и д-р Стейднер. Караван состоял из 200 лиц охраны и прислуги, 30 ослов и мулов, 4 верблюдов и целого транспорта багажа. Экспедиция эта стоила Тинне 120 тысяч марок в год. В июне 1863 г. лихорадка унесла у нее мать; в мае следующего года она, возвратись в Хартум, не застала уже тетку в живых. Богатый караван возбудил алчность туземцев, составлявших его охрану. Утром 1 сентября 1869 г. в ущельях Гата /Триполи/ завязалась притворная ссора между некоторыми членами каравана, и когда начальница его вмешалась, чтобы усмирить спорящих, двое из заговорщиков варварски убили одну из удивительнейших и оригинальнейших женщин в истории современной цивилизации.
Ида Пфейфер и Алексина Тинне по справедливости могут считаться самыми типичными из женщин, занимавшихся научными экспедициями. Их окружал романтический ореол, их привлекала к себе трудность предприятия, которая для женщин всегда кажется чем-то особенно интересным. Они вскоре нашли себе подражательниц и последовательниц, в особенности среди англичанок. В 1893 г. Мэри Кинслей предприняла зоологические и антропологические исследования в различных областях западной Африки. Она также пала жертвой своих путешествий: умерла 5 июня 1900 г., сорока лет от роду, от инфекционной болезни, которой заразилась, ухаживая за ранеными в Саймонстауне. Мистрисс Бишоп, известная более под псевдонимом Изабеллы Берд, предпринимала путешествия по Персии, Курдистану, восточной Азии – Китаю и Корее. Мисс Тейлор достигла Лхассы, священного города буддистов; одна русская, г-жа Головнина, проехала Памир – «Крышу мира», западный оплот буддизма среди цепи Гималайских гор. Между знаменитыми путешественницами следует назвать также и принцессу Терезу Баварскую, исследовавшую бразильские ланды.
Все эти женщины путешествовали одни, без мужей, и были сами руководительницами экспедиций. Ответственность, которую они принимали на себя, и дух независимости придавали им необходимую для достижения намеченной ими цели энергию!
Но есть еще и другая форма подобной деятельности, требующая большого запаса мужества, – деятельности, которая, как нам кажется, не соответствует мягкому и кроткому характеру женщины: мы думаем, что только мужчина может решиться встретиться лицом к лицу с ужасами и опасностями войны. А между тем и на этом поприще женщина выказала себя с самой блестящей стороны. Множество женщин – вопреки принятому обычаю, традиции и собственному характеру, – отважно переносили опасности войны и были свидетелями ужасов ее.
Самой типичной героиней войны является Жанна д’Арк, фигура поистине удивительная для своей варварской и грубой эпохи. Она почерпала свое мужество не из одного только религиозного фанатизма, но и из нравственных сил своего духа; она чувствовала и понимала весь ужас войны и по окончании битвы неустанно ухаживала за ранеными – как за своими, так и за врагами.
Но История называет имена еще многих других воинственных женщин. Так, в Италии в ХV в. Катерина Сфорца, мужа которой убили на ее глазах, заперлась в крепости Форли и выдержала здесь трехнедельную осаду против Цезаря Борджиа. Она, во главе своих воинов, не снимая панциря, день и ночь сражалась против врагов и когда убедилась, что всякое сопротивление бесполезно, то приказала взорвать крепость. Однако она с горстью фанатичных приверженцев своих оставалась жива и продолжала сражаться, окруженная трупами убитых. Видя, что руки врагов готовятся схватить ее, она еще имела присутствие духа крикнуть: «Сдаюсь королю Франции» и таким образом избежала папской тюрьмы.
История Сиены отмечает один из наиболее славных примеров женского мужества и нравственной силы. Когда Сиену осаждал Карл V, – Моунлюк, командовавший городом, сделал воззвание к жителям, убеждая их принять участие в защите. Тогда сорок самых знатных дам города приняли на себя этот тяжелый труд: они стали таскать корзины с землей. Все прочие дамы Сиены разделились на три отряда. Первый отряд, во главе с синьорой Фортегуерра, был весь одет в костюмы фиолетового цвета; второй отряд, которым командовала одетая в ярко-красный шелк синьора Пикколомини, весь был в ярко-красных платьях; во главе третьего отряда была синьора Ливия Панса, одетая в белое, как и ее команда. В каждом отряде было по тысяче женщин.
Из рядов простого народа вышло также немало героинь. Так, по словам легенды, девушка из народа остановила вторжение Аттилы. К низшему и среднему классу принадлежали и Жанна Гашет, увлекшая женщин Бовэ на защиту против Карла Смелого и отнявшая знамя у бургундцев, и Жаклина Робен, которая, рискуя жизнью, спрятала в своей лодке военные припасы, необходимые для Сент-Омерского гарнизона, осажденного герцогом Мальборо во время испанской войны за освобождение.
Эпоха революции и империи, так сильно поднявшая воинственный дух французской нации, дала множество воинственных героинь. 26 июня 1793 г. Национальный Конвент назначил пенсию в 300 лир одному подпоручику за «заслуги перед отечеством». Этот подпоручик была женщина Катерина Пошела. При взятии Аллогви в Испании 14 авг. 1793 г. Александрина Барро, служившая во 2-м Тарнском батальоне под командой Ла-Тур д’Оверня, стояла в ряду солдат между мужем и братом. Тот и другой были убиты, но Александрина, мстя за них, продолжала стрелять до последнего заряда. Затем прикладом ружья она разбила череп одному испанцу и покинула поле сражения лишь после победы французов.
Но высшую форму храбрости, нежели та, которая необходима для кровавых сцен войны, выказали те женщины, которые из ненависти к тирании и ради веры добровольно шли навстречу смерти; те, которые вынесли гонения и пытки с мужеством, не уступающим мужеству самых прославленных героев. Анна Эшью, говорит Смайльс, подвергнутая жестокой пытке, не испустила ни одного крика, не шевельнула ни одним мускулом и смотрела в лицо своим палачам, не признавая своей вины и не беря назад своих слов. Латимея и Ридлей не только не жаловались на свою судьбу, но шли на смерть с веселостью невест, идущих к алтарю, поддерживая бодрость друг друга. «С Божьей помощью, – говорили они, – мы зажжем в. Англии такой светоч, который никогда уже не угаснет».
Шарлотта Кордэ была девушка кроткого нрава и прелестной наружности. Когда ее спросили, как она могла, столь неопытная и слабая, без сообщников, убить Марата, она отвечала: «гнев наполнил мое сердце и указал мне путь к достижению цели». Отправляясь на эшафот, на котором последним ее жестом был жест стыдливости, она написала Барбару, что друзья ее не должны оплакивать ее смерть, ибо тот, кто, как она, имеет живое воображение и чувствительное сердце, не может не подвергаться бурям жизни, и добавила: «Плохой народ для республики тот, который не понимает, что женщина, жизнь которой не нужна никому, может хладнокровно пожертвовать собой ради отечества!»