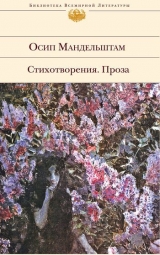
Текст книги "Полное собрание сочинений и писем в 3 томах. Том 1. Стихотворения."
Автор книги: Осип Мандельштам
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 36 страниц)
К девятнадцатому веку применимы слова Бодлэра об альбатросе: «Шатром гигантских крыл он пригвожден к земле».
Начало столетия еще пробовало бороться с тягой земли, судорожными прыжками, мешковатыми и грузными полуполетами, конец столетия покоился уже неподвижно – прикрытый огромной палаткой непомерных крыл. Покой отчаянья. Крылья давят, противоречат своему естественному назначению.
Гигантские крылья девятнадцатого века – ses ailes de gigant – это его познавательные силы. Познавательные способности девятнадцатого века не стояли ни в каком соответствии с его волей, с его характером, с его нравственным ростом. Как огромный, циклопический глаз – познавательная способность девятнадцатого века обращена в прошлое и будущее. Ничего, кроме зрения, пустого и хищного, с одинаковой жадностью пожирающего любой предмет, любую эпоху.
Державин на пороге девятнадцатого столетия нацарапал на грифельной доске несколько стихов, которые могли бы послужить лейтмотивом всего грядущего столетия:
Река времен в своем теченьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.
Здесь на ржавом языке одряхлевшего столетия со всей мощью и проницательностью высказана потаенная мысль грядущего – извлечен из него высший урок, дана его моральная основа. Этот урок – релятивизм, относительность: «а если что и остается» и т. д.
Сущность познавательной деятельности девятнадцатого столетия заключается в проэкции. Минувший век не любил говорить о себе от первого лица, но он любил проецировать себя на экране чужих эпох, и в этом была его жизнь, его движение. Своей бессонной мыслью, как огромным шалым прожектором, он раскатывал по черному небу истории; гигантскими световыми щупальцами шарил в пустоте времен; выхватывал из мрака тот или другой кусок, сжигал его ослепительным блеском исторических законов и равнодушно предоставлял ему снова окунуться в ничтожество, как будто ничего не случилось.
И не один прожектор шарил по этому страшному небу: все науки превратились в собственные, отвлеченные и чудовищные, методологии (за исключением математической). Торжество голого метода над познанием по существу было полным и исключительным, – все науки говорили о своем методе откровеннее, охотнее, более одушевленно, нежели о прямой своей деятельности. Метод определяет науку: сколько наук, столько методологий. Наиболее типична философия: на всем протяжении столетия она предпочитала ограничиваться «введением в философию», вводила и вводила без конца, куда-то заводила и бросала. И все науки вместе шарили по беззвездному небу (а небо этого столетия было удивительно беззвездным) своими методологическими щупальцами, не встречая сопротивления в мягкой отвлеченной пустоте.
Меня все тянет к цитатам из наивного и умного восемнадцатого века, и сейчас мне вспоминаются строчки из знаменитого ломоносовского послания:
Неправо о вещах те думают, Шувалов,
Которые стекло чтут выше минералов.
Откуда этот пафос, высокий пафос утилитаризма, откуда это внутреннее тепло, согревающее поэтическое размышление о судьбах обрабатывающей промышленности, какая разительная противоположность с блестящим и холодным безразличием методологической научной мысли девятнадцатого столетия…
Восемнадцатый век был веком секуляризации, то есть обмирщения человеческой мысли и деятельности. Ненависть к жречеству, гиератическому культу, ненависть к литургии глубоко заложена в его крови. Не будучи веком социальной борьбы по преимуществу, он был промежутком времени, когда общество болезненно чувствовало касту. Унаследованный от средневековья детерминизм тяготел над философией и просвещением и над его политическими опытами вплоть до «tiers états»[43]43
Третье сословье (фр.) — буржуазия.
[Закрыть].
Каста жрецов, каста воинов, каста земледельцев – вот понятия, которыми оперировали «просвещенные умы». Это отнюдь не классы: все перечисленные элементы мыслились необходимыми в священной архитектонике всякого общества. Огромная накопившаяся энергия социальной борьбы искала себе выхода. Вся агрессивная потребность века, вся сила его принципиального негодования обрушилась на жреческую касту. Казалось, вся наковальня великих принципов служила только для того, чтобы выковать молот, которым можно было бы сокрушить ненавистных жрецов. Не было столетия более чуткого ко всему, что пахнет жречеством, – кадильный дым и всяческие курения обжигали его ноздри и заставляли выпрямляться позвоночник хищного зверя.
Лук звенит, стрела трепещет,
И клубясь издох Пифон…
Литургия была занозой в теле восемнадцатого века. Он не видел вокруг себя ничего, что так или иначе не было бы связано с литургией, не происходило бы от нее. Архитектура, музыка, живопись – все излучалось из одного центра, а этот центр подлежал уничтожению. В живописной композиции существует один вопрос, обусловливающий движение и равновесие красок: где источник света? Так восемнадцатый век, отвергнув источник света, исторически им унаследованный, должен был разрешить заново для себя его проблему. И он разрешил ее своеобразно, прорубив окно в им же самим выдуманное язычество, в мнимую античность, отнюдь не филологическую и не подлинную, а в вспомогательную, утилитарную, сочиненную ad hoc, для удовлетворения назревшей исторической потребности.
Рационалистические моменты мифологии как нельзя лучше подходили к этой потребности века, позволяя ему населить опустошенное небо образами человечными, податливыми и послушными капризному самолюбию эпохи. Что же касается деизма, то он терпел все, готов был стерпеть все, лишь бы за ним сохранили скромное значение подмалевка, если это не был пустой холст.
По мере приближения Великой французской революции псевдоантичная театрализация жизни и политики делала все большие успехи, и к моменту самой революции практическим деятелям пришлось уже двигаться и бороться в густой толпе персонификаций и аллегорий, в узком пространстве настоящих театральных кулис, на подмостках инсценированной античной драмы. Когда в этот жалкий картонный театр сошли настоящие фурии античного беснования, в напыщенной трескотне гражданских праздников и муниципальных хоров сначала трудно было поверить, и только поэзия Шенье, поэзия подлинного античного беснования, наглядно доказала, что существует союз ума и фурий, что древний ямбический дух, распалявший некогда Архилоха к первым ямбам, еще жив в мятежной европейской душе.
Дух античного беснования с пиршественной роскошью и мрачным великолепием проявился во Французской революции. Разве не он бросил Жиронду на Гору и Гору на Жиронду? Разве не он вспыхнул в язычках фригийского колпака и в неслыханной жажде взаимного истребления, раздиравшей недра Конвента? Свобода, равенство и братство – в этой триаде не оставлено места для беснующихся фурий подлинной беснующейся античности. Ее не пригласили на пир, она пришла сама, ее не звали, она явилась непрошеной, с ней говорили на языке разума, но понемногу она превратила в своих последователей самых яростных своих противников.
Французская революция кончилась, когда от нее отлетал дух античного беснования; она испепелила жречество, убила социальный детерминизм, довела до конца дело обмирщения Европы и выплеснулась на берег девятнадцатого столетия уже непонятая – не голова Горгоны, а пучок морских водорослей. Глубокое уважение к минувшему девятнадцатому столетию заставляет относиться с достаточным доверием к его реакционной глубине. Из союза ума и фурий родился ублюдок, одинаково чуждый и высокому рационализму энциклопедий, и античному воинству революционной бури – романтизму.
Но романтизм все-таки прямой потомок. В дальнейшем своем течении девятнадцатый век ушел от своего предшественника гораздо дальше, чем романтизм.
Девятнадцатый век был проводником буддийского влияния в европейской культуре. Он был носителем чужого, враждебного и могущественного начала, с которым боролась вся наша история, – активная, деятельная, насквозь диалектическая, живая борьба сил, оплодотворяющих друг друга. Он был колыбелью Нирваны, не пропускавшей ни одного луча активного познания, —
В пещере пустой
Зыбки качанье
Под чьей-то рукой, —
Молчанье, молчанье…
Скрытый буддизм, внутренний уклон, червоточина. Век не исповедовал буддизма, но носил его в себе как внутреннюю ночь, как слепоту крови, как тайный страх и головокружительную слабость. Буддизм в науке – подрумяненной личиной и озабоченной суетой позитивизма; буддизм в искусстве – в аналитическом романе Гонкуров и Флобера; буддизм в религии – глядящий из всех дыр теории прогресса, подготовляющий торжество новейшей теософии, которая не что иное, как буржуазная религия прогресса, религия аптекаря, господина Гомэ, изготовляющаяся к дальнейшему плаванию и снабженная метафизическими снастями.
Не случайно, кажется мне, тяготенье Гонкуров и их единомышленников, первых французских импрессионистов, к японскому искусству, к гравюре Хокусая, к форме танки во всех ее видах, то есть к совершенной и замкнутой в себе и неподвижной композиции. Вся «Мадам Бовари» написана по системе танок. Потому Флобер так медленно и мучительно ее писал, что через каждые пять слов он должен был начинать сначала.
Танка – излюбленная форма атомистического искусства, – она не миниатюрна, и было бы грубой ошибкой благодаря ее краткости смешивать ее с миниатюрой. У нее нет масштаба, потому что в ней нет действия. Она никак не относится к миру, потому что есть сама мир и постоянное внутреннее вихревое движение внутри атома.
Вишневая ветка и снежный конус излюбленной горы, покровительницы японских граверов, отразились в сияющем лаке каждой фразы полированного флоберовского романа. Здесь все покрыто лаком чистого созерцанья, и, как поверхность палисандрового дерева, стиль романа может отобразить любой предмет. Если подобные произведения не испугали современников, это следует отнести к их поразительной нечуткости и художественной невосприимчивости. Из всех критиков Флобера, быть может, наиболее проницательным был королевский прокурор, угадавший в романе какую-то опасность. Но, увы, он ее искал не там, где она скрывалась.
Девятнадцатый век в самых крайних своих проявлениях должен был прийти к форме танки, к поэзии небытия и буддизму в искусстве. В сущности, Япония и Китай совсем не Восток, а крайний Запад: они западнее Лондона и Парижа.
Минувший век углублялся именно в направлении Запада, а не Востока и встретился с крайним востоком-западом в своем стремлении к пределу.
Рассматривая аналитический французский роман как вершину западнического буддизма девятнадцатого столетия, убеждаемся в полном его бесплодии в литературном отношении. Он не имел продолжателей и не мог их иметь по существу, у него были только наивные эпигоны, и сейчас еще есть в очень большом количестве. Романы Толстого – чистый эпос и вполне здоровая европейская форма искусства. Синтетический роман Ромена Роллана резко порвал с традицией французского аналитического романа и примыкает к синтетическому роману восемнадцатого века, главным образом к «Вильгельму Мейстеру» Гете, с которым его связывает основной художественный прием.
Существует особый вид синтетической слепоты к индивидуальным явлениям. Гете и Ромен Роллан живописуют психологические ландшафты, ландшафты характеров и душевных состояний, но они не могут или не хотят дать диалога, им претит подойти вплотную к индивидуальности, а тем более им чужда эстетическая пытка психологического анализа, с ее внутренней формой японско-флоберовской аналитической танки. В жилах каждого столетия течет чужая, не его кровь, и чем сильнее, исторически интенсивнее век, тем тяжелее вес этой чужой крови.
После восемнадцатого, который ничего не понимал, не располагал малейшим чутьем сравнительно-исторического метода и, как слепой котенок в корзине, был заброшен среди непонятных ему миров, наступил век всепонимания – век релятивизма, с чудовищной способностью к перевоплощению, – девятнадцатый. Но вкус к историческим перевоплощениям и всепониманию – непостоянный и преходящий, и наше столетие начинается под знаком величественной нетерпимости, исключительности и сознательного непониманья других миров. В жилах нашего столетия течет тяжелая кровь чрезвычайно отдаленных монументальных культур, быть может египетской и ассирийской:
Ветер нам утешенье принес,
И в лазури почуяли мы
Ассирийские крылья стрекоз,
Переборы коленчатой тьмы.
В отношении к этому новому веку, огромному и жестоковыйному, мы являемся колонизаторами. Европеизировать и гуманизировать двадцатое столетие, согреть его теологическим теплом – вот задача потерпевших крушение выходцев девятнадцатого века, волею судеб заброшенных на новый исторический материк.
И в этой работе легче опереться не на вчерашний, а на позавчерашний исторический день. Элементарные формулы, общие понятия восемнадцатого столетия могут снова пригодиться. «Энциклопедии скептический причет», правовой дух естественного договора, столь высокомерно осмеянный наивный материализм, схематический разум, друг целесообразности, – еще послужат человечеству. Теперь не время бояться рационализма. Иррациональный корень надвигающейся эпохи, гигантский неизвлекаемый корень из двух, подобно каменному храму чужого бога, отбрасывает на нас свою тень. В такие дни разум – ratio энциклопедистов – священный огонь Прометея.
Конец романаОтличие романа от повести, хроники, мемуаров или другой прозаической формы заключается в том, что роман – композиционно замкнутое, протяженное и законченное в себе повествование о судьбе одного лица или целой группы лиц. Жития святых, при всей разработанности фабулы, не были романами, потому что в них отсутствовал светский интерес к судьбе персонажей, а иллюстрировалась общая идея. Но греческая повесть «Дафнис и Хлоя» считается первым европейским романом, так как эта заинтересованность впервые в ней появляется самостоятельной движущей силой. На протяжении огромного промежутка времени форма романа совершенствовалась и крепла, как искусство заинтересовывать судьбой отдельных лиц, причем это искусство совершенствуется в двух направлениях: композиционная техника превращает биографию в фабулу, то есть диалектически осмысленное повествование. Одновременно с фабулой крепнет другая сторона романа, вспомогательная по существу, – искусство психологической мотивировки. Рассказчики кватроченто и «Cent nouvelle novelle»[44]44
«Сто новых новелл» (фр.) — памятник французской повествовательной прозы (ок. 1455).
[Закрыть] в своей мотивировке ограничивались исключительно ситуацией, то есть комбинацией внешнего положения, что придавало рассказам исключительную сухость, изящную легкость и занимательность. Романисты-психологи вроде Флобера и Гонкуров за счет фабулы уделяли все внимание психологическому обоснованию и блестяще справились с этой задачей, превратив вспомогательный прием в самодовлеющее искусство.
Вплоть до последних дней роман был центральной насущной необходимостью и организованной формой европейского искусства. «Манон Леско», «Вертер», «Анна Каренина», «Дэвид Копперфилд», «Rouge et Noir»[45]45
«Красное и черное» (фр.).
[Закрыть] Стендаля, «Шагреневая кожа», «Мадам Бовари» – были столько же художественными событиями, сколько и событиями в общественной жизни. Происходило массовое самопознание современников, глядевших в зеркало романа, и массовое подражание, приспособление современников к типическим организмам романа. Роман воспитывал целые поколения, он был эпидемией, общественной модой, школой и религией. В эпоху наполеоновских войн вокруг биографии Наполеона образовался целый вихрь подражательных маленьких биографий, воспроизводивших судьбу центральной исторической фигуры, не доводя ее, конечно, до конца, а варьируя на разные лады. Стендаль в «Rouge et Noir» рассказал одну из этих подражательных вихревых биографий.
Если первоначально действующие лица романа были люди необыкновенные, герои, или уже одаренные необычайными мыслями и чувствами, то на склоне европейского романа наблюдается обратное явление: героем романа становится обыкновенный человек, с обыкновенными чувствами и мыслями, и центр тяжести переносится на социальную мотивировку, то есть настоящим действующим лицом является уже общество, как, например, у Бальзака или у Золя.
Все это наводит на догадку о связи, которая существует между судьбой романа и положением в данное время вопроса о судьбе личностей в истории; здесь не приходится говорить о действительных колебаниях роли личности в истории, а лишь о ходячем распространенном решении этого вопроса в данную минуту, постольку, поскольку оно воспитывает и образует умы современников.
Расцвет романа в XIX веке следует поставить в прямую зависимость от наполеоновской эпопеи, необычайно повысившей акции личности в истории и через Бальзака и Стендаля утучнившей почву для всего французского и европейского романа. Типическая биография захватчика и удачника Бонапарта расплывалась у Бальзака в десятки так называемых «roman de réussite» – «романов удачи», где основной движущей темой является не любовь, а карьера, то есть стремление пробиться из низших, из средних социальных слоев в верхние. Крупнейшее событие конца XIX века – Парижская коммуна – до сих пор не нашло достаточно убедительного отражения в романе, и до сих пор книга Lessagare, простая хроника, является единственным настоящим «Романом Парижской коммуны».
Ясно, что, когда мы вступили в полосу могучих социальных движений, массовых организованных действий, когда борьба классов становится единственным настоящим и общепризнанным событием, акции личности в истории падают в сознании современников, и вместе с ними падают влияние и сила романа, для которого общепризнанная роль личности в истории является как бы манометром, показывающим давление социальной атмосферы. Мера романа – человеческая биография или система биографий. С первых же шагов новый романист почувствовал, что отдельной судьбы не существует, и старался нужное ему социальное растение вырвать из почвы со всеми корнями, со всеми спутниками и атрибутами. Таким образом, роман всегда предлагает нам систему явлений, управляемую биографической связью, измеряемую биографической мерой, и лишь постольку держится роман композитивно, поскольку в нем живет центробежная тяга планетной системы, поскольку вообще существуют в данном обществе такие системы, поскольку центростремительная тяга, тяга от периферии к центру, не возобладала окончательно над центробежной.
Последним примером центробежного биографического европейского романа можно считать «Жан-Кристофа» Ромена Роллана, эту лебединую песнь европейской биографии, величавой плавностью и благородством синтетических приемов приводящую на память «Вильгельма Мейстера» Гете. «Жан-Кристоф» замыкает круг романа; при всей своей современности, это старомодное произведение; в нем собран старинный центробежный мед германской и латинской расы. Для того чтобы создать последний роман, понадобилось две расы, сочетавшиеся в личности Ромена Роллана, но этого было мало. Все-таки «Жан-Кристоф» приводится в движение тем же мощным толчком наполеоновского революционного удара (роль личности в истории), как и весь европейский роман, через бетховенскую биографию Кристофа, через соприкосновение с мощной фигурой музыкального мифа, рожденного тем же наполеоновским половодьем личности в истории.
Дальнейшая судьба романа будет не чем иным, как историей распыления биографии как формы личного существования, даже больше чем распыления – катастрофической гибелью биографии.
Ныне, извлекая из общей связи явлений облюбованную им особь со всем, что ее непосредственно окружает, писатель-романист уже не может остановиться, а неизбежно притягивает вместе с личностью весь огромный мир общественных явлений; хочет он или не хочет, он пишет социальный роман, хронику, летопись, то есть разбивает композиционную цельность замысла, выходит из рамок романа как системы явлений, непосредственно относящихся к личности. Чувство времени, принадлежащего человеку для того, чтобы действовать, побеждать, гибнуть, любить, – это чувство времени составляло основной тон самочувствия европейского романа, ибо, еще раз повторяю, композиционная мера романа – человеческая биография. Простая совокупность всего, что считается человеком, еще не есть биография и не дает позвоночника роману. Человек, действующий во времени старого европейского романа, является как бы сторожем всей системы явлений, группирующихся около него: тем более велико было искусство последних европейских романистов, в качестве такого стержня избиравших людей заурядных и ничем не замечательных.
Ныне европейцы выброшены из своих биографий, как шары из бильярдных луз, и законами их деятельности, как столкновением шаров на бильярдном поле, управляет один принцип: угол падения равен углу отражения. Человек без биографии не может быть тематическим стержнем романа, и роман, с другой стороны, немыслим без интереса к отдельной человеческой судьбе, фабуле и всему, что ей сопутствует. Кроме того, интерес к психологической мотивировке, куда так искусно спасался упадочный роман, уже предчувствуя свою гибель, в корне подорван и дискредитирован наступившим бессилием психологических мотивов перед реальными силами, чья расправа с психологической мотивировкой час от часу становится более жестокой. Самое понятие действия для личности подменяется другим, более содержательным социально, понятием приспособления.
Современный роман сразу лишился и фабулы, то есть действующей в принадлежащем ей времени личности, и психологии, так как она не обосновывает уже никаких действий. Любопытно, что кризис романа, то есть фабулы, насыщенной временем, совпал с провозглашением принципа относительности Эйнштейном. Любопытно и то, что выхода из создавшегося положения писатели-романисты ищут в смещении планов, как, например, Андрей Белый и бессознательно подражающий ему Келлерман. А. Н. Толстой пишет свои романы на память и доводит их приблизительно до 1917 года и дальше не знает, что делать. Но большинство прозаиков уже совершенно отказались от романа и, не боясь упреков в газетности и злободневности, бессознательно пишут хронику (Пильняк, серапионовцы и др.). Очевидно, силою вещей современный прозаик становится летописцем, и роман возвращается к своим истокам – к «Слову о полку Игореве», к летописи, к агиографии, к Четьи-Минеи. Снова мысль прозаика векшей растекается по дереву истории, и не нам заманить эту векшу в ручную клетку.








