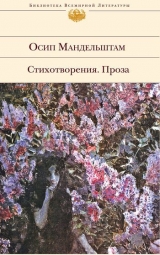
Текст книги "Полное собрание сочинений и писем в 3 томах. Том 1. Стихотворения."
Автор книги: Осип Мандельштам
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 36 страниц)
Мне хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием времени. Память моя враждебна всему личному. Если бы от меня зависело, я бы только морщился, припоминая прошлое. Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых-внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаньями. Повторяю – память моя не любовна, а враждебна, и работает она не над воспроизведеньем, а над отстраненьем прошлого. Разночинцу не нужна память, ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, – и биография готова. Там, где у счастливых поколений говорит эпос гекзаметрами и хроникой, там у меня стоит знак зиянья, и между мной и веком провал, ров, наполненный шумящим временем, место, отведенное для семьи и домашнего архива. Что хотела сказать семья? Я не знаю. Она была косноязычна от рожденья, – а между тем у ней было что сказать. Надо мной и над многими современниками тяготеет косноязычье рожденья. Мы учились не говорить, а лепетать – и лишь прислушиваясь к нарастающему шуму века и выбеленные пеной его гребня, мы обрели язык.
Революция – сама и жизнь, и смерть и терпеть не может, когда при ней судачат о жизни и смерти. У нее пересохшее от жажды горло, но она не примет ни одной капли влаги из чужих рук. Природа – революция – вечная жажда, воспаленность (быть может, она завидует векам, которые по-домашнему смиренно утоляли свою жажду, отправляясь на овечий водопой. Для революции характерна эта боязнь, этот страх получить что-нибудь из чужих рук, она не смеет, она боится подойти к источникам бытия).
Но что сделали для нее эти «источники бытия»? Куда как равнодушно текли их круглые волны! Для себя они текли, для себя соединялись в потоки, для себя закипали в ключ! («Для меня, для меня, для меня», – говорит революция. «Сам по себе, сам по себе, сам по себе», – отвечает мир.)
У Комиссаржевской была плоская спина курсистки, маленькая голова и созданный для церковного пения голосок. Бравич был асессор Брак, Комиссаржевская была Геддой. Ходить и сидеть она скучала. Получалось, что она всегда стоит; бывало, подойдет к синему фонарю окна профессорской гостиной Ибсена и долго-долго стоит, показывая зрителям чуть сутулую, плоскую спину. В чем секрет обаянья Комиссаржевской? Почему она была вождем, какой-то Жанной д’Арк? Почему Савина рядом с ней казалась умирающей барыней, разомлевшей после Гостиного двора?
В сущности, в Комиссаржевской нашел свое выражение протестантский дух русской интеллигенции, своеобразный протестантизм от искусства и от театра. Недаром она тянулась к Ибсену и дошла до высокой виртуозности в этой протестантски-пристойной профессорской драме. Интеллигенция всегда не любила театра и стремилась справить театральный культ как можно скромнее и пристойнее. Комиссаржевская шла навстречу этому протестантизму в театре, но зашла слишком далеко и вышла из пределов русского почти в европейский. Для начала она выкинула всю театральную мишуру: и жар свечей, и красные грядки кресел, и атласные гнезда лож. Деревянный амфитеатр, белые стены, серые сукна – чисто, как на яхте, и голо, как в лютеранской кирке. Между тем у Комиссаржевской были все данные большой трагической актрисы, но в зародыше. В отличье от всех тогдашних русских актеров, да, пожалуй, и теперешних, Комиссаржевская была внутренне музыкальна, она подымала и опускала голос так, как это требовалось дыханьем словесного строя; ее игра была на три четверти словесной, сопровождаемой самыми необходимыми скупыми движеньями, и те были все наперечет, вроде заламыванья рук над головой. Создавая театр Ибсена и Метерлинка, она нащупывала европейскую драму, искренне убежденная, что лучшего и большего Европа дать не может.
Румяные пироги Александрийского театра так мало походили на этот бестелесный, прозрачный мирок, где всегда был великий пост. Сам театрик Комиссаржевской был окружен атмосферой исключительно сектантской приверженности. Не думаю, чтобы отсюда раскрывалась какая-нибудь театральная дорога. Из маленькой Норвегии пришла к нам эта комнатная драма. Фотографы. Приват-доценты. Асессоры. Смешная трагедия потерянной рукописи. Аптекарю из Христиании удалось сманить грозу в профессорский курятник и поднять до высот трагедии зловеще-вежливые препирательства Гедды и Брака. Ибсен для Комиссаржевской был иностранной гостиницей, не больше. Комиссаржевская вырвалась из российского театрального быта, как из сумасшедшего дома, – она была свободна, но сердце театра останавливалось.
Когда Блок склонился над смертным ложем русского театра, он вспомнил и назвал Кармен, то есть то, от чего бесконечно далека была Комиссаржевская. Дни и часы ее маленького театра всегда были сочтены. Здесь дышали ложным и невозможным кислородом театрального чуда. Над театральным чудом зло посмеялся Блок в «Балаганчике», и Комиссаржевская, сыграв «Балаганчик», посмеялась над собой. Среди хрюканья и рева, нытья и декламации мужал и креп ее голос, родственный голосу Блока. Театр жил и будет жить человеческим голосом. Петрушка прижимает к небу медную створку, чтоб изменить голос. Лучше Петрушка, лучше Кармен и Аида, чем свиное рыло декламации.
«В не по чину барственной шубе»К полуночи по линиям Васильевского острова носились волны метели. Синие желатинные коробки номеров пылали на углах и подворотнях. Булочные, не стесненные часом торговли, сдобным паром дышали на улицу, но часовщики давно закрыли лавки, наполненные горячим лопотаньем и звоном цикад.
Неуклюжие дворники, медведи в бляхах, дремали у ворот.
Так было четверть века назад. И сейчас горят там зимой малиновые шары аптек.
Спутник мой, выйдя из литераторской квартиры-берлоги, из квартиры-пещеры с зеленой близорукой лампой и тахтой-колодой, с кабинетом, где скупо накопленные книги угрожают оползнем, как сыпучие стенки оврага, выйдя из квартирки, где табачный дым кажется запахом уязвленного самолюбия, – спутник мой развеселился не на шутку и, запахнувшись в не по чину барственную шубу, повернул ко мне румяное, колючее русско-монгольское лицо.
Он не подозвал, а рявкнул извозчика таким властным морозным зыком, словно целая зимняя псарня с тройками, а не ватная лошаденка дожидалась его окрика.
Ночь. Злится литератор-разночинец в не по чину барственной шубе. Ба! Да это старый знакомец! Под пленкой вощеной бумаги к сочиненьям Леонтьева приложенный портрет: в меховой шапке-митре – колючий зверь, первосвященник мороза и государства. Власть и мороз. Тысячелетний возраст государства. Теория скрипит на морозе полозьями извозчичьих санок. Холодно тебе, Византия? Зябнет и злится писатель-разночинец в не по чину барственной шубе.
Новгородцы и псковичи – вот так же сердились на своих иконах: ярусами, друг у друга на головах, стояли миряне, справа и слева, спорщики и ругатели, удивленно поворачивая к событию умные мужицкие головы на коротких шеях. Мясистые лица и жесткие бороды спорщиков, обращенные к событию с злобным удивлением. В них чудится мне прообраз литературной злости.
Как новгородцы злобно голосуют бороденками на Страшном суде, так литература злится столетие и косится на событие – пламенным косоглазием разночинца и неудачника, злостью мирянина, разбуженного не вовремя, призванного, нет, лучше за волосья притянутого в свидетели-понятые на византийский суд истории.
Литературная злость! Если б не ты, с чем бы стал я есть земную соль?
Ты приправа к пресному хлебу пониманья, ты веселое сознанье неправоты, ты заговорщицкая соль, с ехидным поклоном передаваемая из десятилетия в десятилетие, в граненой солонке, с полотенцем! Вот почему мне так любо гасить жар литературы морозом и колючими звездами. Захрустит ли снегом? Развеселится ли на морозной некрасовской улице? Если настоящая – то да.
Вместо живых лиц вспоминать слепки голосов. Ослепнуть. Осязать и узнавать слухом. Печальный удел! Так входишь в настоящее, в современность, как в русло высохшей реки.
А ведь то были не друзья, не близкие, а чужие, далекие люди! И все же лишь масками чужих голосов украшены пустые стены моего жилища. Вспоминать – идти одному обратно по руслу высохшей реки!
Первая литературная встреча непоправима. То был человек с пересохшим горлом. Давно выкипели фетовские соловьи: чужая барская затея. Предмет зависти. Лирика. «Конный или пеший», – «Рояль был весь раскрыт», – «И горящею солью нетленных речей».
Больные, воспаленные веки Фета мешали спать. Тютчев ранним склерозом, известковым слоем ложился в жилах. Пять-шесть последних символических слов, как пять евангельских рыб, оттягивали корзину; среди них большая рыба: «Бытие».
Ими нельзя было накормить голодное время, и пришлось выбросить из корзины весь пяток, и с ними большую дохлую рыбу: «Бытие».
Отвлеченные понятия в конце исторической эпохи всегда воняют тухлой рыбой. Лучше злобное и веселое шипенье хороших русских стихов.
Рявкнувший извозчика был В. В. Гиппиус, учитель словесности, преподававший детям вместо литературы гораздо более интересную науку – литературную злость. Чего он топорщился перед детьми? Детям ли нужен шип самолюбия, змеиный свист литературного анекдота?
Я и тогда знал, что около литературы бывают свидетели, как бы домочадцы ее: ну хотя бы разные пушкинианцы и пр. Потом узнал некоторых. До чего они пресны в сравнении с В. В.!
От прочих свидетелей литературы, ее понятых, он отличался именно этим злобным удивленьем. У него было звериное отношение к литературе как к единственному источнику животного тепла. Он грелся о литературу, терся о нее шерстью, рыжей щетиной волос и небритых щек. Он был Ромулом, ненавидящим свою волчицу, и, ненавидя, учил других ее любить.
Прийти к В. В. домой почти всегда значило его разбудить. Он спал на жесткой кабинетной тахте, сжимая старую книжку «Весов» или «Северные цветы» «Скорпиона», отравленный Сологубом, уязвленный Брюсовым и во сне помнящий дикие стихи Случевского «Казнь в Женеве», товарищ Коневского и Добролюбова – воинственных молодых монахов раннего символизма.
Спячка В. В. была литературным протестом, как бы продолженьем программы старых «Весов» и «Скорпиона». Разбуженный, он топорщился, с недоброй усмешечкой расспрашивал о том, о другом. Но настоящий его разговор был простым перебираньем литературных имен и книг, с звериной жадностью, с бешеной, но благородной завистью.
Он был мнителен и больше всех болезней боялся ангины, болезни, которая мешает говорить.
Между тем вся сила его личности заключалась в энергии и артикуляции его речи. У него было бессознательное влечение к шипящим и свистящим звукам и «т» в окончаньи слов. Выражаясь по-ученому, пристрастие к дентальным и небным.
С легкой руки В. В. и поныне я мыслю ранний символизм как густые заросли этих «щ». «Надо мной орлы, орлы говорящие». Итак, мой учитель отдавал предпочтенье патриархальным и воинственным согласным звукам боли и нападенья, обиды и самозащиты. Впервые я почувствовал радость внешнего неблагоразумия русской речи, когда В. В. вздумалось прочесть детям «Жар-птицу» Фета – «На суку извилистом и чудном»: словно змеи повисли над партами, целый лес шелестящий змей. Спячка В. В. меня пугала и притягивала.
Неужели литература – медведь, сосущий свою лапу, – тяжелый сон после службы на кабинетной тахте?
Я приходил к нему разбудить зверя литературы. Послушать, как он рычит, посмотреть, как он ворочается: приходил на дом к учителю «русского языка». Вся соль заключалась именно в хожденьи «на дом», и сейчас мне трудно отделаться от ощущенья, что тогда я бывал на дому у самой литературы. Никогда после литература не была уже домом, квартирой, семьей, где рядом спят рыжие мальчики в сетчатых кроватках.
Начиная от Радищева и Новикова, у В. В. устанавливалась уже личная связь с русскими писателями, желчное и любовное знакомство, с благородной завистью, ревностью, с шутливым неуваженьем, кровной несправедливостью, как водится в семье.
Интеллигент строит храм литературы с неподвижными истуканами. Короленко, например, так много писавший о зырянах, сдается мне, сам превратился в зырянского божка. В. В. учил строить литературу не как храм, а как род. В литературе он ценил патриархальное отцовское начало культуры. Как хорошо, что вместо лампадного жреческого огня я успел полюбить рыжий огонек литературной (В. В. Г.) злости.
Власть оценок В. В. длится надо мной и посейчас. Большое, с ним совершенное, путешествие по патриархату русской литературы от Новикова с Радищевым до Коневца раннего символизма так и осталось единственным. Потом только почитывал.
Болтается шнурочек вместо галстука. В цветном некрахмальном воротничке беспокойны движенья короткой шеи, подверженной ангине. Из гортани рвутся шипящие, клокочущие звуки: воинственные «щ», «и», «г».
Казалось, этот человек находился постоянно в состоянии воинственной и пламенной агонии. Предсмертие было в самой его природе и мучило его и будоражило, питая усыхающие корни его духовного существа.
Кстати, в обиходе символистов приняты были примерно такие разговорчики: «Как поживаете, Иван Иванович?» – «Да ничего, Петр Петрович, предсмертно живу».
В. В. любил стихи, в которых энергично и счастливо рифмовались: пламень – камень, любовь – кровь, плоть – господь.
Словарем его бессознательно управляли два слова: «бытие» и «пламень». Если бы дать ему пестовать всю российскую речь, думаю не шутя, неосторожно обращаясь, он сжег бы, загубил весь русский словарь во славу «бытия» и «пламени».
Литература века была родовита. Дом ее был полная чаша. За широким раздвинутым столом сидели гости с Вальсингамом. Скинув шубу, с мороза входили новые. Голубые пуншевые огоньки напоминали приходящим о самолюбии, дружбе и смерти. Стол облетала произносимая всегда, казалось, в последний раз просьба: «Спой, Мери», мучительная просьба позднего пира.
Но не менее красавицы, поющей пронзительную шотландскую песнь, мне мил и тот, кто хриплым, натруженным беседой голосом попросил ее о песне.
Если мне померещился Константин Леонтьев, орущий извозчика на снежной улице Васильевского острова, то лишь потому, что из всех русских писателей он более других склонен орудовать глыбами времени. Он чувствует столетия, как погоду, и покрикивает на них.
Ему бы крикнуть: «Эх, хорошо, славный у нас век!» – вроде как: «Сухой выдался денек!» Да не тут-то было! Язык липнет к гортани. Стужа обжигает горло, и хозяйский окрик по столетию замерзает столбиком ртути.
Оглядываясь на весь девятнадцатый век русской культуры – разбившийся, конченый, неповторимый, которого никто не смеет и не должен повторять, я хочу окликнуть столетие, как устойчивую погоду, и вижу в нем единство «непомерной стужи», спаявшей десятилетия в один денек, в одну ночку, в глубокую зиму, где страшная государственность – как печь, пышущая льдом.
И, в этот зимний период русской истории, литература в целом и в общем представляется мне как нечто барственное, смущающее меня: с трепетом приподымаю пленку вощеной бумаги над зимней шапкой писателя. В этом никто не повинен, и нечего здесь стыдиться. Нельзя зверю стыдиться пушной своей шкуры. Ночь его опушила. Зима его одела. Литература – зверь. Скорняк – ночь и зима.
Феодосия
Начальник портаБелый накрахмаленный китель – наследье старого режима – чудесно молодил его и мирил с самим собой: свежесть гимназиста и бодрость начальника – сочетанье, которое он ценил в себе и боялся потерять. Весь Крым представлялся ему ослепительным, туго накрахмаленным географическим кителем. За Перекопом начиналась ночь. Там, за солончаками, уже не было ни крахмала, ни прачек, ни радостной субординации, и там невозможна была эта походка, упругая, как после купанья, – это постоянное возбужденье: смешанное чувство хорошо купленной валюты, ясной государственной службы и, в сорок лет, ощущенье удачно выдержанного экзамена.
Обстоятельства складывались чересчур хорошо. Деловой портфель располагался с легким домашним изяществом дорожного несессера с ямочками для бритвы, мыльницы и разных щеток: помимо него, то есть без начальника порта, ни одной тонны ячменникам и пшеничникам, ни одной тонны отправителям зерна – ни самому Рошу, вчерашнему комиссионеру, сегодня – выскочке, легендарному Каниферштану, ленивому и томному на итальянский манер, отправляющему ячмень на Марсель, ни пшеничному Лившицу, сухопарому индюку, министру сквера Айвазовского, ни Центросоюзу, ни Рейзнерам, у которых дела так хороши, что вместо серебряной отпраздновали золотую свадьбу и отец от счастья подружился с сыном.
Каждый из грязных пароходов, с запахом кухни и сои, с мулатской прислугой и жарко натопленной, как международное купе, но более похожей на каморку богатого швейцара капитанской каютой увозил и его тонны, незаметно смешанные с прочими.
Люди отлично знали, что вместе с зерном продают землю, по которой они ходят, но продолжали продавать эту землю, наблюдая за тем, как она осыпается в море, рассчитывая уехать, когда зашевелится под ногами последний оползень этой сыпучей земли.
Когда начальник порта шел по тенистой в корне, любезной старожилам Итальянской улице, его поминутно останавливали, брали под руку, отводили в сторону, что, впрочем, входило в привычки города, где все дела решались на улице и никто, выйдя из дому, не знал, когда он дойдет и дойдет ли вообще к намеченной цели. Он же выработал в себе привычку с каждым мужчиной говорить приблизительно так, как говорил бы с женой начальника, склонив набок яйцевидную голову, придерживаясь левой стороны, так что собеседник был заранее благодарен и сконфужен.
Некоторых избранных он приветствовал, как друзей, вернувшихся из дальнего плавания, награждая их сочными поцелуями. Эти поцелуи он носил при себе, как коробочку свежих мятных лепешек.
Не принадлежа к уважаемым гражданам города, с наступлением ночи я стучался в разные двери в поисках ночлега. Норд-ост свирепствовал на игрушечных улицах. Гинзбурги, Ландсберги и проч. пили чай с белой еврейской булкой «халой». Ночные сторожа-татары похаживали под окнами меняльных лавок и комиссионных магазинов, где чубуки и гитары драпировались в шелковый полковничий халат. Разве что, гремя подковами английских ботинок, пройдет запоздалая юнкерская рота, потрясая воздух известным пэаном, с некоторыми нецензурными выраженьями, которые опускались днем по настоянию местного раввина.
Тогда, в лихорадке, знакомой каждому бродяге, я метался в поисках ночлега. И Александр Александрович открывал мне, в качестве ночного убежища, управление порта.
Я думаю, никогда не бывало более странной ночной гостиницы. На электрический звонок открывал заспанный, тайно-враждебный парусиновый служитель. Сахарно-белые сильные лампочки, вспыхнув, освещали огромные карты Крыма, таблицы морских глубин и течений, диаграммы и хронометрические часы. Бережно снимал я бронзовую чернильницу с крытого зеленым сукном стола морских заседаний. Здесь было тепло и чисто, как в хирургической палате. Все английские и итальянские пароходы, когда-либо будившие Александра Александровича, зарегистрированные в толстых журналах, библиями спали на полках.
Чтоб понять, чем была Феодосия при Деникине – Врангеле, нужно знать, чем была она раньше. У города был заскок – делать вид, что ничего не переменилось, а осталось совсем, совсем по-старому. В старину же город походил не на Геную, гнездо военно-торговых хищников, а скорей на нежную Флоренцию. В обсерватории, у начальника Сарандинаки, не только записывали погоду и чертили изотермы, но собирались еженедельно слушать драмы и стихи как самого Сарандинаки, так и других жителей города. Сам полицмейстер однажды написал драму. Директор Азовского банка – Мабо был более известен как поэт. А когда Волошин появился на щербатых феодосийских мостовых в городском костюме: шерстяные чулки, плисовые штаны и бархатная куртка, – город охватывало как бы античное умиленье и купцы выбегали из лавок.
Спору нет – мы должны быть благодарны Врангелю за то, что он дал нам подышать чистейшим воздухом разбойничьей средиземной республики шестнадцатого века. Но аттической Феодосии нелегко было приспособиться к суровому закону крымских пиратов.
Вот почему она сберегла доброго мецената Александра Александровича, морского котенка в пробковом тропическом шлеме, человека, который, сладко зажмурившись, глядел в лицо истории, отвечал на дерзкие ее выходки нежным мурлыканьем. Однако он был морским божеством города и по-своему Нептуном. Чем могущественнее человек, тем значительнее его пробуждение. Короли французские даже не вставали, а восходили, как солнце, и притом дважды: «малым» и «большим восходом». Александр Александрович просыпался вместе с морем. Но как общался он с морем? Общался он с морем по телефону. В полумраке его кабинета сверкали английские бритвы, пахло свежим полотняным бельем и крепким одеколоном, да еще сладковатым привозным табаком. Эта отличная мужская спальня, которой позавидовал бы любой американец, все же была средоточием морских узлов и капитанской рубкой.
Александр Александрович просыпался с первым пароходом. Два служителя, вестовые в белой парусине, вышколенные, как больничные санитары, кидались к первому телефонному звонку и нашептывали начальнику, который в эту минуту походил на разбуженного котенка, что пришел-де и стоит на рейде такой-то английский, турецкий или даже сербский пароход. Александр Александрович открывал крошечные глазки и, хотя он ничего не мог изменить в прибытии парохода, говорил: «А, хорошо, очень хорошо!» Тогда пароход становился гражданином рейда, начинался гражданский день моря, и начальник моря из спящего котенка превращался в покровителя купцов, вдохновителя таможни и биржевого фонтана, в коньячного, ниточного, валютного, одним словом, гражданского морского бога. Было в нем что-то от ласточки, домовито мусолящей гнездо – до поры до времени. И не заметишь, как она тренируется с детенышами на атлантический полет. Эвакуация была для него не катастрофой, не случайностью, а радостным атлантическим перелетом, по инстинкту отца и семьянина; как бы торжеством его жизненной упругости. Он никогда ничего о ней не говорил, но готовился к ней, может быть бессознательно, с первой минуты.








