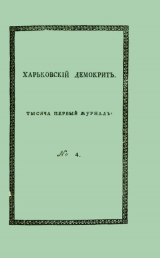
Текст книги "Харьковский Демокрит. 1816. № 4, апрель"
Автор книги: Орест Сомов
Соавторы: Василий Маслович,Григорій Квітка-Основ’яненко,Аким Нахимов
Жанры:
Юмористические стихи
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Разговор приезжего с жителем
Приезжий. – Здесь мрут десятками – что это за причина?
Житель. – Не знаешь ты причины сей?
Какой ты простачина! –
Ведь с войском прибыло немало лекарей.
Русский Солдат. [6]6
Издатель ещё в марте получил пиесы Р. С., но поместить в прошедшем месяце было уже не можно, потому что № 3 «Харьковского Демокрита» почти был уже готов. Издатель узнал и настоящую фамилию Русского Солдата, и долгом поставляет лично благодарить героя за то внимание, которое он оказал тысяча первому журналу; как равномерно и за преучтивое письмо, которое издатель имел честь получить вместе с пиесами.
[Закрыть]
____________________
II
ПРОЗА
20
Ужаление пчелы, или Первый поцелуй
(С немецкого)
Осеняемый жасминовой беседкою и окружённый благовонием цветов оной, сидел я некогда между Амантою и Филлидою. Мы радовались весне, и глаза наши насыщались прелестями цветущей юности. Вдруг пчёлка в лёгком полёте зажужжала около кудрей Филлиды, и ах! пастушка была ужалена прежде, нежели могла осмотреться.
«О, бровь моя! – вскричала она. – Милая подруга! О, как больно! Будто от тысячи уязвлений. Ах! Уже пухнет бровь моя. Какою же буду я казаться!»
«Не воздыхай, – сказала Аманта, и отёрла слёзы на щеках её. – Смотри! Уязвление легко; бедное насекомое жалит по невинности своей, не ведая, что так много вредит. Вот я вынула уже ядовитое жало, а помощью волшебной силы чарования, немногими таинственными приговорками, мгновенно утишу боль твою. Знай: одна нимфа научила меня таинству сему, и я, в благодарность за то, жертвую ей каждую весну корзиною наилучших и любимых цветов моих».
Нежно прикоснулась она розовыми устами до брови девицы Филлиды; потом с важностью прошептала невнятную чаровательную приговорку, и, чудо из чудес! – силою ли волшебного шептания или действием прекрасных, пленительных губ – короче сказать, мучение пастушки окончилось мгновенно. – Радость и сладостное упоение опять окружили чело любезнейшей невинности.
Что я чувствовал тогда? – В безмолвном исступлении питаясь любовным пламенем, давно уже поставлял я всё счастье моё насыщаться прекрасным взором Аманты и слышать приятный голос её, раздающейся подобно звуку тихо журчащего ручья; но теперь страсти мои заговорили смелее, возбудилось желание, никогда ещё не ощущаемое. «Прекрасные губы! – говорил я сам себе, – О, розы! О, румянец! О, если бы беспрестанно увиваясь около них, прильнуть к ним навсегда и сокровенно вдыхать сладость любви. – Ах! Кто бы ни отдал за такую цену прекрасного мая жизни своей!»
Любовь богата хитростями, а в пылу страстей даже и самый робкий человек делается смелым. Я недолго вымышлял, и невинный обман был уже готов.
«О, губы мои! – возопил я. – Какое адское мучение! Они горят, горят несносным пламенем! О, проклятое насекомое! Уже весь рот пухнет! – Ах, Аманта! – Но ты не простишь мне сего, ты по девичьей стыдливости тотчас убежишь, лишь только то услышишь. – О, проклятое насекомое! Какая же нестерпимая боль! Мои губы горят, горят ужасным пламенем! – Милая пастушка! Не осердись: я должен, должен просить, ибо кто не любит жизни своей? Скажи, не помогает ли то лёгкое средство доброй нимфы также и юношам? – А ежели оное может пособить, то спаси, милая, от боли моей, ах! может быть, от смерти меня, у ног твоих молю о милосердии: не пожертвуй мечтательной стыдливости жизнью моею».
Девица усмехнулась: робко смотрела она то на Филлиду, то на просителя, который уже с полною надеждою, прижимая губы свои к лебединой руке её, ощущал предвкушение исцеления.
«При случае, – говорила она, закрасневшись, – нимфа, уча меня, сказывала: "При случае можешь ты и юношу исцелить от пчелиного жала; но только бы юноша сей был такой, который никогда ещё не забавлялся в сумерки с пастушкою, такой юноша, который бы не всюду болтал о подарках, даваемых богинями девушкам; да и то не многих юношей, ах! одного только, если можно, должна ты исцелить. Но и сему одному должна ты редко и втайне благодетельствовать чаровательным вспомоществованием твоим. Приманчивость и сила его исчезают, когда многие воспользуются оным!"»
Засим с ангельскою приятностью девушка наклонилась ко мне. – Боги! Чаял ли я, чтобы невинный обман, чтобы пылкая в исступлении ощущённая минута могла навсегда похитить весь покой сердца моего? – Каково было мне при сей райской мечте, когда она с нежностью прикоснулась ко мне, уста прижались к устам? – О! Сего никакой язык никогда не выразит! Она шептала чаровательную приговорку, которая, потрясшись в груди её, исходила воздыханием; – но ах! чем более роса любви от её поцелуя проницала в душу мою, тем неутолимее было желание моё.
«Неужели ещё болит?» – «О, девица! Твоё чудодейство велико! Когда губы твои прильнуты к моим, тогда исцеление разливается по всему составу моему; когда же оные отнимешь от моих, ах! тогда боль опять возвращается». – Простак я, выпросил у девушки ещё три поцелуя и три шептания! Аманта, ты меня удивительно переменила! Только от пчелиного уязвления хотела ты исцелить меня, ах! и поцелуями твоими жестоко произвела глубокую рану в сердце моём.
И. Мв.
____________________
21
О обычаях
Люди придерживаются своих обычаев более, нежели нравов, более, нежели законов, и часто более, нежели веры своей.
Обычаи народа составляют часть его нравов, с тем завсегда различием, что нравы сопряжены с главными правилами, всем известными и уважаемыми, и не иначе могут измениться, как разве народ сделается лучшим или худшим. Напротив того, перемена в обыкновеньях, которые всегда бывают местные и коих происхождение часто бывает неизвестно или удерживается только по народным преданиям, может ни малого не иметь участия в судьбе того же самого народа, и никакой не делает перемены в его благосостоянии.
Пусть зарывают мёртвых, как ныне, или пусть сожигают их, как прежде: это такие обычаи, перемена коих мало окажет влияния на судьбу народа, который позволит себе оную; но самый сей народ упадает и развращается, когда перестанет уважать гробницы.
Пусть едят, лёжа на кровати, как древние, или сидя на стуле, как наши современники: это также равно, как для здоровья, так и для нравственности; но привычка к пресыщению и пьянству равномерно противна добрым нравам и здоровью.
Если какой-нибудь обычай древен, хорошо обдуман и повсюду установлен, то никак нельзя оставить его, не быв подверженным прослыть за циника или за человека чужестранного в собственной своей отчизне. Таковы, например, обыкновения носить траур по усопшим, благодарить тех, кои нас одолжают, приветствовать друзей, посылать взаимные поздравления с наступлением нового года и не говорить грубо с родителями и старшими.
Неблагоразумно даже опровергать слишком открыто скоропреходящие установления моды. Живучи в свете, должно жить, одеваться и говорить, как и все прочие. «Мудрый, – говорит Фонтенель,* – позволяет себя одевать своему портному». Одеваясь по-армянски посреди Парижа, Ж. Ж. Руссо хотел сделаться заметным, и успел только в том, что все над ним смеялись.
Многие, подобно Ж. Ж. Руссо, думали отличиться, пренебрегая общепринятые обыкновения, или противясь общим мнениям. Сего рода мятежничество может иметь успех, когда оно выдерживается с великим разумом. В противном случае оно извлекает улыбку сожаления, возбудив наперед минутное удивление.
«Иной, – говорит Дюкло,* – признаётся за дурака потому только, что хотел утверждать противное. Никогда не мстят вполовину, быв обмануты его уверениями». Но уважая обычаи своей земли, не должно думать, что обычаи другой земли смешны или достойны презрения. Умеренность в таком случай есть первая статья устава общественного.
«Если кто-нибудь думает, – говорит ещё Фонтенель, – что нельзя ни одеваться, ни приветствовать, ни говорить иначе, как по моде его отчизны; то мой совет, чтобы он путешествовал».
Прежде французский народ был изо всех народов самый ротозейный и насмешливый, потому что он менее других путешествовал. Его обычаи казались ему одни достойными похвалы, одни, которыми можно превозноситься.
В сем случае греки не лучше французов рассуждали. Всё, что было не по-гречески, казалось им варварским.
С одной стороны суетность, а с другой невежество, делают нас несправедливыми и злыми порицателями: человек наилучше воспитанный есть также и самый снисходительный.
Когда все дела управлялись острием меча, тогда оскорблённая честь алкала крови, и за неё сражались. Сей обычай был варварский, но должно было сообразоваться с оным.
Ныне дела решатся остротою ума, друг друга подсмеивают; и сей обычай забавнее, но не везде терпим.
Когда обедывали в два часа, то ужинали в десять. Вечеринки были тогда приятнейшею вещью в свете. Сей обычай был самый французский.
С того времени, как начали обедать в шесть часов, перестали ужинать и смеяться: но весёлость возвратится с ужинами.
Есть обыкновения, кои теряются во мраке времён и коих происхождение и причину напрасно было бы изыскивать. Таков есть обычай приветствовать снятием шляпы. Какое отношение между почтением и непокрытою головою? Восточные народы в подобном случае довольствуются положением руки на чело.
Есть и другие, кои кажутся быть отринуты здравым смыслом: таков есть обычай давать преимущество правой руке пред левою. Кроме того, что обе руки равномерно нам даны природою, справедливо ещё и то, что мы теряем нечто, не употребляя оных безразлично: ибо та рука, которая меньше служит, становится ленивее и слабее.
Есть ещё обыкновения, которые с первого взгляда кажутся нам странными, несправедливыми и тираническими; но коих мудрость легко познаётся по рассудительнейшем исследовании, и когда мы принимаем труд изыскать происхождение оных во нравах того времени, в какое они установлены.
Таков, между прочими, обычай, заставляющий мужа быть ответчиком и жертвою худого поведения своей жены. Сей обычай, бывший причиною толиких жалоб в судилищах, толикого числа дурных шуток в зрелищах и толиких злословий в обществах, не есть предрассудок, как о том говорят; это последствие, происходящее вместе от силы естественной, которою природа одарила мужчину для защищения и покровительства противу внешних нападений сопутницы его жизни и матери детей его; и от силы нравственной, каковою гражданские законы уполномочивают главу семейства управлять своим домом, удерживать жену в недрах своего семейства и остерегать её от опасности, могущей произойти от собственной её слабости, так как и от сетей, расставляемых для неё тщеславием, жеманством, праздностью и худым примером; научать её находить сладостные удовольствия в исполнении своих обязанностей. Муж, не радящий о жене своей, легко может лишиться оной. Сия потеря навлекает ему бесчестие, а сие бесчестие есть праведное наказание за его нерадивость.
В драме «Нанина»*, баронша говорит графу Ольбану:
«Тот глуп, кто над обычаем смеётся».
Граф отвечает ей брюзгливо:
«Для мудрых никакой обычай не ведётся».
Конечно, сей ответ неразумен, но Вольтер, будучи ревностным споборником системы, предполагавшей переплавить всё старинное общество, никогда не принимал на себя труда исследовать с важностью последствий предприятия, которое увлекало его, со многими другими, к разрушению всех обычаев.
Ничто так не соблазнительно в книгах, как картина золотого века, каковой некоторые экономико-политические писатели хотели возвратить на землю. Известно, чего нам стоило желание привести в событие мечты их воображения. Мы чрез печальный опыт уверились в опасности их правил касательно тщетности чинов, равенства, раздела земель, равновесия могущества и пр. Нельзя более обмануть нас в сем случае, и непозволительно испытывать.
Баронша не без причины призвала в помощь обычаи против неравного брака, могущего обесславить графа, не доставив ему того блаженства, которого он искал в оном. Неравные браки редко доставляли счастливые супружества, и те, кои для оправдания оных говорили, что благородство души гораздо лучше знатного происхождения, сделали ложное употребление из древней и всеми признанной истины.
Страсть, приводившая в заблуждение графа, извиняет его ответ, но не оправдывает оного. Мудрый не презирает ни в каком случае обычаев, установленных в его отчизне, утверждённых временем, и ещё того менее, когда оные одобрены здравым рассудком.
Обычаи, моды и обряды суть законы общества, от знания коих никак нельзя отрекаться, живучи в обществе. Честный человек не может быть рабом оных, но и того менее, их противником и порицателем.
«Должно повиноваться правилами обыкновений, – говорит Монтень,* – но не подчиняться оным, если они не суть те обязанность и служение, коим суть полезны. Жизнь общественная посвящена обрядам; моя, скрытая и частная, наслаждается всею свободою, дарованною нам от природы».
_____________________
22
Вестовщики
(Из Монтескье) [7]7
Здесь изображение сие несколько сокращено.
[Закрыть]
Есть народ, называемый вестовщиками;* при всей своей праздности, они всегда заняты, и, будучи вовсе бесполезны для государства, считают себя однако ж весьма для него полезными, потому что болтают о важных предприятиях и рассуждают о великих выгодах оного. Основанием их разговора служит пустое и смеха достойное любопытство. Не сыщется такого таинственного кабинета, в который бы они не думали проникнуть; они никак не согласятся не знать о чём-нибудь. Коль скоро вычерпают всё настоящее, то принимаются за будущее, и, делаясь как бы предтечами провидения, возвещают наперёд все деяния человеческие; ведут за руку какого-нибудь полководца, и, расхвалив его за тысячу глупостей, которых он не делал, приготовляют ему тысячу других, которых он никогда не сделает; у них войска летают, как журавли, а крепостные стены падают, как будто карточные домики; у них есть мосты на всех реках, потаённые ходы на всех горах и неисчерпаемые магазейны на непроходимых песках:* у них ни в чём нет недостатка, кроме здравого смысла.
_____________________
23
Празднолюбцы
(Из Монтескье)
Говорят, что человек есть животное, любящее общежитие. Принимая в сем смысле, мне кажется, что француз есть более человек, нежели всякий другой: это человек по превосходству, ибо он как будто бы единственно создан для общества.
Но я приметил между ними людей, которые не только общежительны, но сами собою составляют повсеместное общество. Они размножаются по всем уголкам и населяют в одну минуту все четыре части города: сто человек сей породы гораздо заметнее, нежели две тысячи граждан; в глазах чужестранцев они могли бы заменить опустошения, причинённые моровою язвою или голодом.
В школах предлагается вопрос: может ли одно и то же тело находиться в одно и то же время на многих местах? – Они служат доказательством тому, о чём философы вопрошают.
Они находятся в беспрестанном занятии, потому что приняли на себя важное дело спрашивать всех, кого видят: куда идёте? и откуда идёте?
Никогда бы их не разуверил в том, что благопристойность требует посещать ежедневно всю публику по частям, не считая уже тех посещений, который делают они вообще, в тех местах, куда люди сходятся, но как дорога к таковым местам весьма коротка, то сии посещения считаются за ничто в правилах их церемониала.
Они более утомляют ворота всех домов своим стуком, нежели ветры и непогоды. Если бы пересмотреть записную книгу всех приворотников, то каждый день можно бы найти имена их, искажённые в тысячи видах швейцарским писанием. Они влачат жизнь свою, или провожая погребательные шествия, или выражая своё сострадание, или поздравляя со свадьбою. Король никогда не даст награждения кому-либо из своих подданных без того, чтоб они не наняли кареты и не ехали изъявлять радость свою о том; наконец, они возвращаются домой в крайнем изнеможении, и отдыхают, дабы назавтра снова приняться за многотрудные свои подвиги.
Один из них умер недавно от усталости, и на гроб его написали следующую эпитафию:
«Здесь покоится тот, кто никогда не успокаивался: он проводил 530 похорон, радовался о рождении 2680 младенцев; пенсии, с которыми он поздравлял друзей своих, и всегда в разных выражениях, простираются до 2,600,000 ливров; дорога, пройденная им по мостовой, до 9600 стадий,* а по полю – до 36. Разговоры его были весьма занимательны: он помнил наизусть по верному счёту 365 анекдотов; к тому же совершенно знал ещё с малых лет 118 апофегм,* взятых из древности, и употреблял их при отличных случаях; наконец, он умер на 60 году своей жизни. Прохожий! Я молчу; ибо как мог бы я пересказать тебе всё, что он делал и что видел?»
______________________
24
Журналы и журналисты
(Из Монтескье)
Письмо персиянина к своему другу из Парижа
Есть некоторого рода книги, коих не знают у нас в Персии, и которые, мне кажется, здесь в великой моде: они называются журналами, Для лености весьма лестно читать их: ей утешно то, что она может в четверть часа пересмотреть до тридцати книг разного содержания.
В большей части книг сочинитель не досказал ещё обыкновенного предуведомления, как уже читатели находятся при последнем издыхании; он вводит их полумёртвых в содержание книги, затопленное в море слов. – Один хочет соделаться бессмертным, написав книгу в 12 долю; другой своею в 4 долю; третий, имея самые лучшие намерения, берётся написать в лист: и так должно, чтобы он распространил свой предмет соразмерно величине книги, что он делает без всякой жалости, считая за ничто страдания бедного читателя, который мучит себя, стараясь то сократить, что сочинитель с толиким трудом старался распространить.
Не знаю, что хорошего находят писать подобные сочинения: я мог бы столько же их настрочить, если бы захотел расстроить своё здоровье и разорить книгопродавца.
Журналисты очень худо делают, что говорят о новых только книгах, как будто истина может быть нова. Мне кажется, что человеку нет никакой нужды предпочитать старым книгами новые, пока не прочтёт всех первых.
Но налагая на себя закон говорить о сочинениях нововыпечатанных, они налагают на себя ещё другой, именно тот, чтоб быть весьма скучными. Они не берутся критиковать тех книг, из которых делают извлечения, как бы ни сильна была их на то причина; в самом деле, найдётся ли такой смельчак, чтобы согласился делать себе каждый месяц по десятку или по дюжине неприятелей?
Большая часть сочинителей похожи на стихотворцев, которые могут вытерпеть тучу палочных ударов, не жалуясь; но столь мало заботясь о своих плечах, бывают толико ревностны к своим творениям, что не могут вытерпеть самой малейшей критики. Надобно крепко беречься, чтоб не зацепить их за толь чувствительную струну, и журналисты твёрдо сие помнят. Посему они делают совсем напротив: сперва начинают они хвалить содержание сочинения, – первая слабость: оттуда переходят они к похвалам сочинителя – похвалам принуждённым: ибо они имеют дело с людьми, готовыми за себя строго вступиться и поразить ударами перьев дерзновенного журналиста.
О. Сомов.*
__________________
III
СМЕСЬ
1
Песня американская
Прийди ко мни, любезна Зара!
И не сердися на меня,
Утешь ты верного Навара,
Который дышит для тебя!
___
Напрасно, Зара, убегаешь
От быстрой с крыльями любви,
Напрасно ты сокрыться чаешь
От видящей во тьме совы.
___
Ни реки, ни леса, ни горы,
Мой быстрый бег не пресекут,
Везде мои проникнут взоры,
Везде открыт мне будет путь.
___
Я взлезу на древа высоки,
Я реки преплыву глубоки,
Я оборву с кустов листы,
Лишь бы̀ увидеть мне, где ты!
___
Уже на землю ночь нисходит,
И свет очей моих приходит,
Уже сближаются уста:
Будь век такая темнота!
Мслвч.
______________________
9
Двойные акростихи
₁
Могу ли не любить, тебя всечасно зрЯ – – –
Ах! выше сил моих молчать – скрываться в страстИ,
Реши судьбу мою! – чего мне ждать тепеРь? – – –
Иль жизнь с любовью? – смерть, последствие отказА? –
Я жду: скажи скорей!! – писать хочу к другиМ.
₂
На то ль тебя узнал, чтобы отдаться в плеН?
Ах! – сильной страстию горю – часа уж двА,
Других оставил я; – исполнить чтоб обряД –
Я должен же спросить: – счастливым буду ль Я?
₃
Спросить осмелюсь коль – спросить хочу тебЯ;
О чём? – решить презлой судьбы моей напастИ:
Философ я, чудак, монах, но не ТартюФ,*
И так спрошу: – мы любим ли друг друга страстнО?
Я – нет, и не любил; а ты? – мы квит... смеюСь!
₄
Люблю? – люблю! – как никого я не любиЛ,
И постоянно всё люблю тебя – три… днИ!
Зачем страдаю так я в жизни первый раЗ?
Ах! Ехать со двора мешает мне погодА!
₅ и последний
Послушником я был, густа была брадА!*
Амур пощекотал... спасению шабаШ!
Штандарт любви блеснул, иду служить сюдА!
Ах! вечно ль буду я носить любови цеПь!
Г. Квитка.
___________________
3
На просьбу написать песню на снурок
Слышал я, что ты всех просишь,
На снурок чтоб написать;*
Но снурков ты много носишь,
Я не знаю, как начать.
___
Коль снурок ты получаешь
От невинныя красы,
От которой ты страдаешь;
Вздёрни ты его в часы.
___
От старухи коль снурочек
Получил, любезный мой,
Завяжи им вороточек
И платком его закрой.
___
Если от купчихи тучной
Есть снурочек: всем кажи:
«В знак любви благополучной»,
В тросточку снурок ввяжи.
___
Если ж ты прельстил кокетку,
И от ней имеешь снур,
Из снурочка сделай сетку,
Чтоб увязнул в ней Амур!
___
Коль от вздохов нет награды,
Прѐзри мира суеты̀,
Прекрати снурком досады:
На любом повессься ты!
С… М….на








