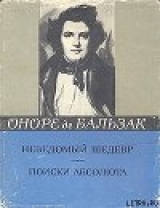
Текст книги "Поиски Абсолюта"
Автор книги: Оноре де Бальзак
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
– Довольна ты своим отцом?
– Вы достойны его, – ответила Маргарита, показывая на портрет Ван-Клааса.
На следующее утро Валтасар в сопровождении Лемюлькинье поднялся в лабораторию как бы для того, чтобы проститься с надеждами, которые он лелеял и которые здесь оживали перед ним в начатых работах. Хозяин и слуга обменялись меланхолическим взглядом, взойдя на чердак, быть может, в последний раз. Валтасар рассматривал машины, над которыми так долго парили его мысли: каждая была связана с воспоминаниями о каких-нибудь поисках, о каком-нибудь опыте. Печально приказал он Лемюлькинье выпустить ядовитые газы и кислоты, подальше одно от другого спрятать вещества, от соединения которых мог бы произойти взрыв. Принимая такие меры, он горько сетовал на свою судьбу, – как сетует осужденный на смерть, готовясь итти на эшафот.
– Вот, однако, очень важный опыт, и результата его следовало бы подождать, – сказал он, останавливаясь перед капсюлей, куда были погружены оба провода вольтова столба. – Если бы он удался – какая ужасная мысль! – мои дети не прогнали бы отца, – ведь я бросил бы алмазы к их ногам… Вот комбинация углерода и серы, – добавил он, разговаривая сам с собою, – тут углерод играет роль положительного электрода, кристаллизация должна начаться на отрицательном электроде, и в случае разложения углерод оказался бы кристаллизованным…
– Ах, вот как! – сказал Лемюлькинье, с восхищением смотря на хозяина.
– Ведь эта комбинация подвергается воздействию вольтова столба, а оно может не прекращаться!.. – немного погодя продолжал Валтасар.
– Если вам, барин, угодно, я еще усилю его…
– Нет, нет, нужно его оставить таким, как оно есть. Покой и время условия, существенные для кристаллизации!..
– Черт возьми! Приходится дать ей время, этой кристаллизации, воскликнул лакей.
– Если температура понизится, сернистый углерод кристаллизуется, сказал Валтасар, сопровождая невнятными, отрывистыми словами размышление, которое в уме его складывалось в убедительной и ясной форме, – но если действие вольтова столба будет происходить при каких-то неизвестных мне условиях… нужно бы наблюсти… это возможно… Но о чем же я думаю? О химии нечего говорить, друг мой, едем в Бретань ведать окладными сборами…
Клаас стремительно покинул лабораторию и сошел вниз, к последнему семейному завтраку, на который были приглашены Пьеркен и де Солис. Валтасар спешил кончить со своей научной агонией, он простился с детьми вместе с дядей сел в экипаж; вся семья провожала его до порога. Когда Маргарита горестно обняла отца и он шепнул ей на ухо: «Ты добрая дочь, никогда не стану на тебя сердиться!» – она пробежала через двор, скрылась в зале, пала на колени там, где умерла ее мать, и вознесла богу зрячую молитву, прося сил для выполнения суровых трудов в новой своей жизни. Когда вернулись сестра и брат, Эммануил и Пьеркен, проводив взглядом коляску, пока на не скрылась из глаз, сердце Маргариты уже подкрепил некий внутренний голос, в котором ей послышалось одобрение ангелов и благодарность матери.
– Что же вы теперь будете делать? – сказал ей Тьеркен.
– Спасать семью, – ответила она просто. – У нас есть около тысячи трехсот десятин в Вэньи. Я намереваюсь их расчистить, разделить на три фермы, возвести необходимые для хозяйства постройки, отдать в аренду и, думаю, что через несколько лет, при большой бережливости и терпении, у каждого из нас, сказала она, показывая на сестру и брата, – будет по ферме в четыреста с лишним десятин, которая со временем будет давать до пятнадцати тысяч франков дохода. На долю брата Габриэля остается дом и бумаги государственного казначейства. Со временем мы вернем отцу его состояние чистым от обязательств, потребив наши доходы на погашение его долгов.
– Дорогая кузина, – сказал нотариус, изумленный ее деловитостью и трезвым рассудком, – ведь вам нужно более двухсот тысяч франков, чтобы расчистить землю, построить фермы и купить скот… Где достанете вы такую сумму?
– Здесь начинаются затруднения, – сказала она, поглядывая то на нотариуса, то на г-на де Солиса, – у дедушки просить я не смею, он уже внес залог за отца!
– У вас есть друзья! – воскликнул Пьеркен, вдруг осознав, что обе барышни Клаас были как-никак невестами, по меньшей мере на пятьсот тысяч франков каждая.
Эммануил де Солис умиленно посмотрел на Маргариту, а Пьеркен при всем своем энтузиазме, к несчастью для себя, остался нотариусом и продолжал так:
– Вот, я предлагаю вам эти двести тысяч франков!
Эммануил и Маргарита, молчаливо советуясь, обменялись взглядом, от которого все стало ясно Пьеркену. Фелиция залилась румянцем – она была счастлива, что ее Пьеркен оказался таким великодушным, как ей хотелось. Она взглянула на сестру, которая сразу догадалась, что за время ее отсутствия бедняжка поддалась на банальные ухаживания Пьеркена.
– Я возьму с вас только пять процентов, – сказал он. – Вернете, когда захотите, дадите мне закладную на вашу землю; но будьте покойны, вам придется только оплатить издержки по составлению договоров, я сам отыщу вам хороших арендаторов и все дела буду вести бесплатно, чтобы помочь вам как добрый родственник.
Эммануил подал знак Маргарите, чтобы она отказалась; но та слишком внимательно следила за малейшей сменой выражений на лице сестры, чтобы заметить его знак. Помолчав, она иронически посмотрела на нотариуса и сама, к великой радости де Солиса, сказала:
– Вы очень добрый родственник, другого от вас я и не ждала; но пять процентов замедлят наше избавление, я подожду совершеннолетия брата, тогда продадим его ренту.
Пьеркен закусил губу; Эммануил тихо улыбнулся.
– Фелиция, дорогая, проводи Жана в коллеж, – сказала Маргарита, показывая на брата. – С тобой пойдет Марта. А ты, Жан, ангел мой, будь умницей, не рви платья, мы не настолько богаты, чтобы шить новое так часто, как делали это до сих пор. Ну, иди, малыш, учись хорошенько.
Фелиция с братом ушли.
– Вы оба, конечно, навещали отца, когда меня не было? – обратилась Маргарита к Пьеркену и де Солису. – Благодарю вас за эти знаки дружбы. Надеюсь, не откажете вы в них и нам, двум бедным девушкам, нуждающимся в совете. Но условимся заранее… Когда я буду жить здесь, в городе, мы с величайшей радостью готовы принимать вас у себя; когда же Фелиция будет оставаться одна с Жозетой и Мартой, она, само собой разумеется, не должна никого видеть, будь то старый друг или преданнейший родственник. Мы очутились в таких обстоятельствах, что должны держать себя безупречно строго. Итак, мы обречены на долгий труд и уединение.
Некоторое время царило молчание. Эммануил, погруженный в созерцание лица Маргариты, точно онемел. Пьеркен не знал, что сказать. Нотариус распростился с Маргаритой, кляня в душе самого себя; он понял, что Маргарита любит Эммануила и что он, Пьеркен, вел себя сейчас, как дурак.
– Эх, Пьеркен, друг мой, – сам к себе обратился он с речью на улице. Кто скажет, что ты порядочная скотина, тот будет прав. Ну, не глуп ли я! У меня двести тысяч ливров ренты помимо моей конторы, не считая еще наследства от дядюшки Дэраке, у которого я единственный наследник, так что он удвоит мне состояние рано или поздно (впрочем, смерти я ему не желаю, ведь он бережлив!), а я так опозорился, потребовав от Маргариты Клаас процентов. Уверен, что они вдвоем смеются теперь надо мною. Нечего мне больше думать о Маргарите! Нет! В конце концов Фелиция кроткое и доброе существо и, право, больше мне подходит. У Маргариты железный характер, она захотела бы повелевать мною и повелевала бы! Ну, проявим великодушие, не будем же до такой степени нотариусом, разве уж так трудно мне сбросить с себя эту сбрую. Тысяча чер… нильниц! Буду любить Фелицию и на том стоять!.. У нее будет ферма в четыреста тридцать десятин, которая в свое время даст пятнадцать двадцать тысяч ливров дохода, ведь земля в Вэньи неплоха. Вот умрет мой дядя Дэраке, бедняжка, – тогда продаю свою контору и становлюсь господином с пять-ю-де-сять-ю ты-сяч-а-ми лив-ров рен-ты. Жена моя – Клаас, я породнюсь со знатными домами. Черт возьми! посмотрим, откажутся ли все эти Куртвили, Магалены, Савароны де Саварусы посетить Пьеркен-Клааса-Молина-Ноуро! Стану в Дуэ мэром, получу крест, могу быть депутатом, всего достигну… Вот так! Пьеркен, друг мой, на этом и стой, глупостей больше делать не будем, тем более что, честное слово, Фелиция… мадмуазель Фелиция Ван-Клаас любит тебя.
Когда влюбленные остались одни, Эммануил протянул руку Маргарите; девушка не могла удержаться и подала ему свою. Не сговариваясь, они сразу встали и направились к своей скамейке в саду, но, проходя по залу, Эммануил не вытерпел и голосом, дрожащим от радостного волнения, сказал Маргарите:
– У меня есть для вас триста тысяч франков!..
– Как, – воскликнула она, – бедная моя маменька передала вам еще?.. Нет… Так что же?
– О моя Маргарита, все, что мне принадлежит, – ваше! Разве не вы первая произнесли «мы»?
– Дорогой Эммануил! – сказала она, сжимая его, руку, которую все еще держала в своей, и, вместо того, чтобы итти в сад, бросилась в кресло.
– Не меня, а вас нужно благодарить, – сказал он с любовью в голосе, за то, что вы соглашаетесь принять.
– Эта минута, дорогой мой возлюбленный, – сказала она, – способна изгладить много горя, она приближает нас к счастливому будущему. Да, я принимаю твое богатство, – продолжала она, и по губам ее порхала ангельская улыбка, – я знаю, как сделать, чтобы оно стало моим.
Она взглянула на портрет Ван-Клааса, точно призывая его в свидетели. Молодой человек, следивший за взглядом Маргариты, не видал, как она сняла с пальца девичье колечко, и заметил это, только когда услыхал ее слова:
– Среди глубоких наших бедствий вдруг рождается счастье. Отец мой по беспечности предоставил мне свободно распоряжаться собою, – сказала она, протягивая кольцо, – возьми, Эммануил! Моя мать любила тебя, она сдобрила бы мой выбор.
Слезы выступили на глазах Эммануила, он побледнел, упал на колени и сказал Маргарите, давая ей перстень, который всегда носил:
– Вот обручальное кольцо моей матери. Маргарита моя, – продолжал он, целуя кольцо, – получу ли я еще иной залог?
Она нагнулась, подставляя лоб губам Эммануила.
– Увы! бедный мой возлюбленный, хорошо ли мы поступаем? – сказала она в сильном волнении. – Ведь нам так долго придется ждать.
– Мой дядя говорил, что обожание – это насущный хлеб терпения, подразумевая любовь христианина к богу. Так и тебя могу я любить, уже давно я не отличаю тебя от вседержителя: принадлежу тебе, как ему.
Некоторое время они оставались охваченными сладостным волнением. То было искреннее и спокойное излияние чувства, которое, подобно ручью, вышедшему из берегов, разливалось непрерывными струями. События, разлучившие влюбленных, были поводом для меланхолии, которая сделала их счастье еще живее, придав ему как бы остроту боли. Слишком для них рано вернулась Фелиция. Повинуясь прелестной чуткости, свойственной тем, кто любит, Эммануил оставил сестер вдвоем, – лишь на прощание обменялся он с Маргаритой взглядом, и она могла увидать, чего стоила ему такая сдержанность, до того ясно выразил этот взгляд всю жажду счастья, долгожданного и только что освященного обручением сердец.
– Поди-ка сюда, сестрица, – сказала Маргарита, нежно обвив рукой шею Фелиции.
Она повела ее в сад, и они уселись на скамейке, которой каждое поколение вверяло свои любовные речи скорбные вздохи, свои размышления и планы. Несмотря на веселый тон и нежно-лукавую улыбку сестры, Фелиция ощутила волнение, похожее на страх. Маргарита взяла ее за руку и почувствовала, что эта рука дрожит.
– Послушайте, мадмуазель Фелиция, – сказала старшая сестра, наклоняясь к уху младшей. – Я читаю в вашей душе. Пьеркен часто приходил, пока меня не было, он приходил каждый вечер, говорил вам приятные слова, а вы их слушали.
Фелиция покраснела.
– Не оправдывайся, ангел мой, – продолжала Маргарита, – ведь так естественно – любить! Быть может, твое сердечко воздействует немного на натуру Пьеркена: он эгоистичен, расчетлив, но он человек порядочный, и, может быть, даже его недостатки послужат тебе к счастью. Он будет любить тебя, как самую красивую свою вещь, устроит твою жизнь, как привык устраивать свои дела. Прости мне такие слова, милый друг! От скверной привычки видеть во всем только выгоду ты отучишь его тем, что преподашь ему законы сердца.
Фелиции ничего не оставалось, как обнять сестру.
– К тому же, – продолжала Маргарита, – он состоятелен. Семья его принадлежит к высшей и стариннейшей буржуазии. Да и мне ли противиться твоему счастью, если ты не хочешь его искать в блестящей партии?
– Дорогая сестра! – шепнула Фелиция.
– О да, ты можешь мне довериться! – воскликнула Маргарита. – Признаться друг другу в наших тайнах – что может быть естественней для нас с тобою?
Ее задушевные слова повели к той очаровательной беседе, когда молодые девушки все говорят друг другу. Маргарита, которую любовь сделала прозорливой, поняла, что творится в сердце Фелиции, и в заключение сказала:
– Ну, хорошо, дорогое мое дитя, удостоверимся, что Пьеркен действительно тебя любит, и тогда…
– Предоставь мне действовать самой, – ответила Фелиция со смехом, – у меня есть образец для подражания.
– Дурочка! – сказала Маргарита, целуя ее в лоб.
Хоть Пьеркен принадлежал к тому разряду людей, которые в браке видят обязательства, исполнение законов общества и способ передачи имущества, и хотя ему безразлично было, жениться ли на Фелиции, или на Маргарите, раз у той и другой одна и та же фамилия и одинаковое приданое, – тем не менее он заметил, что обе они, по его выражению, девицы романические и сентиментальные (два прилагательных, употребляемых бессердечными людьми, чтобы посмеяться над дарами, которые природа скупой рукой сеет по бороздам человечества), и нотариус, вероятно, решил: с волками жить, по-волчьи выть, на следующий день он пришел к Маргарите, таинственно увел ее в садик и заговорил о чувствах, раз таковы требования предварительного договора, который, по законам света, предшествует договору нотариальному.
– Дорогая Маргарита, – сказал он ей, – не всегда были мы одного мнения относительно того, какие средства употребить, чтобы добиться успеха в ваших делах; но вы должны теперь признать, что всегда мною руководило огромное желание быть вам полезным. Ну, вот. Вчера, предлагая вам помощь, я все испортил по фатальной привычке, происходящей от нотариального склада ума, понимаете?.. Мое сердце не соучастник в содеянной мною глупости. Я очень полюбил вас, но мы, нотариусы, не лишены некоторой прозорливости, и я заметил, что вам не нравлюсь. Сам виноват! Другой был более ловок. Ну, так вот, теперь я пришел, чтобы сообщить вам чистосердечно, что питаю подлинную любовь к сестре вашей Фелиции. Отнеситесь ко мне как к брату! Занимайте у меня, попросту берите! Эх, что там, чем больше возьмете, тем больше докажете свою дружбу. Весь к вашим услугам, без процентов, понимаете? Не только двенадцати, даже четверти процента не возьму. Найдут меня достойным Фелиции, я буду доволен. Простите мне мои недостатки, они развились во мне от деловой практики, сердце же у меня доброе, и ради счастья своей жены я готов буду хоть броситься в Скарпу.
– Вот и славно! – сказала Маргарита. – Но все зависит от сестры и отца…
– Знаю, дорогая Маргарита, – сказал нотариус, – но ведь вы заступили для всего семейства место матери, и как к таковой я к вам и обращаюсь.
Эта манера говорить достаточно рисует честного нотариуса. Позже Пьеркен прославился своим ответом коменданту Сент-Омерского лагеря, который приглашал его на военный праздник; ответ начался так: «Г. Пьеркен-Клаас де Молина-Ноуро, мэр города Дуэ, кавалер ордена Почетного легиона, в ответ на таковое же приглашение…»
Маргарита согласилась принять помощь нотариуса, но только в том, что относилось до его профессии, чтобы нисколько не нанести ущерба ни своему женскому достоинству, ни будущему своей сестры, ни независимости отца. В тот же день она поручила сестру заботам Жозеты и Марты, которые душой и телом были преданы молодой хозяйке и помогали ей в хозяйственных планах. Маргарита тотчас отправилась в Вэньи и принялась там за дела под умелым руководством Пьеркена. Нотариус прикинул в уме, что, переведенная на язык цифр, преданность окажется превосходной спекуляцией; свои заботы, свои труды он, так сказать, вкладывал в земельную собственность и не скупился на них. Раньше всего он постарался избавить Маргариту от трудностей расчистки и распашки земли, предназначавшейся для ферм. Он разузнал о трех сыновьях богатых фермеров, желавших завести собственное хозяйство, соблазнил их перспективами, какие сулило плодородие почвы, и склонил их к заключению арендного договора на три фермы, которые предстояло устроить. При условии бесплатного пользования фермами в течение трех лет, фермеры обязались вносить по десяти тысяч франков арендной платы на четвертый и пятый год, двенадцать тысяч – на шестой и по пятнадцати тысяч за остальное время аренды, вырыть канавы, произвести посадки, купить скот. Пока строились фермы, фермеры расчищали землю. Через четыре года после отъезда отца Маргарита почти восстановила состояние брата и сестры. Двухсот тысяч франков хватило на все постройки. Ни в помощи, ни в советах не было недостатка у смелой девушки, поведение которой вызывало в городе восторг. Маргарита наблюдала за постройкой, за выполнением договоров и условий с тем здравым смыслом, активностью и постоянством, на которые способны женщины, когда их одушевляет большое чувство. Начиная с пятого года, она уже могла употреблять тринадцать тысяч франков, приносимых фермами, ренту брата и доходы с отцовских имений на выкуп заложенного имущества и на восстановление дома, столь пострадавшего от страсти Валтасара. Так как проценты по займам все уменьшались, выкуп был уже не за горами. Кроме того, Эммануил де Солис предложил Маргарите сто тысяч франков, оставшихся от наследства дяди, но она не стала их тратить, а присоединила к двадцати тысячам собственных сбережений и таким образом к третьему году своей деятельности расплатилась с долгами на значительную сумму. Такая жизнь, полная напряженной работы, лишений и самопожертвования, не прекращалась целых пять лет; впрочем, все клонилось к успеху и удачам с тех пор, как управляла всем и влияла на все Маргарита.
Став инженером путей сообщения, Габриэль, при поддержке дедушки, получил подряд на канал, так что быстро составил себе состояние, и сумел понравиться своей кузине Конинкс, обожаемой своим отцом, одной из богатейших наследниц в обеих Фландриях. К 1824 году собственность Клаасов освободилась от долгов, и дом на Парижской улице восстановлен был в прежнем виде. Пьеркен уже официально просил у Валтасара руки Фелиции, так же как де Солис – руки Маргариты.
В начале января 1825 года Маргарита и г-н Конинкс поехали за отцом-изгнанником, прибытия которого все ждали с нетерпением; он уже подал в отставку, чтобы остаться в семье и завершить ее счастье. Во время отсутствия Маргариты, часто выражавшей сожаление, что к приезду отца не удалось заполнить пустые рамы в панелях галереи и приемных комнат, Пьеркен и де Солис сговорились с Фелицией устроить Маргарите сюрприз, которым младшая сестра внесла бы, так сказать, свою долю в восстановление дома Клаасов. Они вдвоем купили несколько прекрасных картин и подарили их Фелиции для украшения галереи. Подобная же мысль возникла и у Конинкса. Желая засвидетельствовать Маргарите удовлетворение тем, как благородно она себя держала и с каким самопожертвованием выполняла завет матери, он распорядился привезти пятьдесят принадлежавших ему превосходных холстов, в том числе и те, которые когда-то продал ему Валтасар, так что удалось вполне восстановить галерею Клаасов. Уже несколько раз Маргарита вместе с сестрой или Жаном ездила повидаться с отцом; всякий раз она находила в нем все большие и большие перемены; но со времени последнего ее посещения старость стала обнаруживаться у Валтасара страшными признаками, чему, конечно, способствовало еще и то, что жил он скаредно, растрачивая большую часть своего жалованья на опыты, вечно обманывавшие его надежды. Хотя ему было только шестьдесят пять лет, но выглядел он восьмидесятилетним стариком. Глаза ввалились, брови поседели, волосы остались только на затылке; он отпустил бороду, которую сам подстригал ножницами, когда она начинала ему мешать; он согнулся, как престарелый виноградарь; беспорядок в одежде дошел до того, что она казалась нищенским рубищем, а дряхлость Клааса придавала ей еще более отвратительный вид. Хотя его величественное лицо, до неузнаваемости изборожденное морщинами, оживлялось мощной мыслью, все же остановившийся взгляд, выражение отчаяния, постоянное беспокойство запечатлели на нем черты безумия, или, вернее, всех безумий сразу. То появлялась на нем восторженная надежда, придававшая Валтасару выражение, свойственное мономану; то раздражение из-за невозможности угадать тайну, мелькавшую перед Клаасом, как блуждающий огонек, отпечатлевалось на его лице как бы симптомом бешенства; то вдруг взрыв смеха выдавал его безумие; а чаще всего полная подавленность приводила к тому, что все оттенки страсти находили себе итог в холодной, тупой меланхолии. Как ни беглы и мало приметны для чужих людей были подобные признаки, к несчастью слишком чувствительными становились они для тех, кто знал высокую доброту Клааса, величие его сердца и красоту лица, от которых сохранились лишь неясные следы. Лемюлькинье тоже состарился и, подобно своему барину, утомился от постоянных трудов, но ему не приходилось испытывать усталости мысли; на его лице странно соединились тревога за барина и восторг перед ним, легко вводившие в заблуждение; хотя он почтительно прислушивался к каждому его слову, хотя малейшие движения его ловил с какой-то нежностью, – все же он заботился об ученом, как мать заботится о младенце-несмышленыше; часто у него появлялся покровительственный вид, так как он действительно покровительствовал Валтасару в делах житейских, о которых тот никогда не думал. Оба старика, объятые одной идеей, верившие в реальность своей надежды, вдохновляемые одним и тем же желанием, представлявшие собою один оболочку, а другой – душу их совместной жизни, являли собою зрелище ужасное и вместе с тем трогательное. Когда приехали Маргарита с Конинксом, оказалось, что Клаас живет в гостинице: преемник его не заставил себя ждать и уже вступил в должность.
Как ни поглотила Валтасара наука, желание вновь увидать родину, дом, семью волновало его; письмо дочери уведомило его о счастливых событиях; он думал завершить свою деятельность рядом опытов, которые должны были привести его к решению проблемы, поэтому он ждал Маргариту с чрезвычайным нетерпением. Дочь бросилась в объятия отца, плача от радости. На этот раз она явилась получить награду за свою скорбную жизнь и прощение за свою фамильную гордость. Она чувствовала себя преступной, подобно великим людям, которые ради спасения отечества нарушают принципы свободы. Но, взглянув на отца, она вздрогнула при виде перемен, произошедших в нем со времени последнего ее посещения, Тайный испуг внучки разделил и Конинкс, он настаивал на том, чтобы как можно скорее отвезти племянника в Дуэ, где влияние родины может восстановить его разум и здоровье, если он вернется к счастливой жизни у домашнего очага. После первых сердечных излияний, со стороны Валтасара более сильных, чем ожидала Маргарита, он стал проявлять исключительную внимательность по отношению к ней, выразил сожаление, что принимает ее в плохой комнате гостиницы, осведомился о ее вкусах, с усердием любовника расспрашивал, что приготовить ей на обед, – словом, держал себя, как обвиняемый, который хочет склонить на свою сторону судью. Маргарита так хорошо знала отца, что угадала причину этих нежностей, предположив, что у него накопились здесь кое-какие долги, которые ему нужно выплатить перед отъездом. Она некоторое время наблюдала за отцом и увидала сердце человеческое во всей его наготе. Валтасар очень опустился. Сознание своего упадка и уединение, к которому его понуждали занятия наукой, развили в нем робость и как бы ребячество в отношении ко всему, что было чуждо любимым его занятиям; старшая дочь внушала ему почтение; с каждым днем ее все больше, должно быть, возвеличивали в его глазах воспоминания о ее прошлом самопожертвовании и об энергии, обнаруженной ею, сознание ее власти, которую он сам же ей предоставил, ее богатство и не поддающиеся определению чувства, понемногу овладевшие им с тех пор, как он отрекся от своего отцовского авторитета, уже сильно пошатнувшегося. Конинкс для Валтасара как бы ничего собою и не представлял, он видел только дочь и думал только о ней, опасаясь, казалось, ее, как иные слабые мужья опасаются жены, взявшей над ними верх и покорившей их себе; когда он поднимал на нее глаза, Маргарита огорченно подмечала в них выражение боязни, как у провинившегося ребенка. Благородная девушка не знала, как примирить величественный и грозный вид черепа, обнаженного наукой и трудами, с наивной угодливостью и с мальчишеской улыбкой на губах и на всем лице Валтасара. Оскорбительным был для нее контраст такого величия и такого ничтожества, и она обещала себе добиться, чтобы отец вновь обрел все свое достоинство в тот торжественный день, когда опять появится в кругу своей семьи. Прежде всего она улучила минуту, когда они остались одни, и сказала ему на ухо:
– Вы что-нибудь здесь задолжали?
Валтасар покраснел и ответил смущенно:
– Не знаю, Лемюлькинье все расскажет тебе. Он честный слуга, а в моих делах более осведомлен, чем я сам.
Маргарита позвонила, и, когда лакей явился, она почти невольно стала вглядываться в лица обоих стариков.
– Что вам угодно, барин? – спросил Лемюлькинье.
У Маргариты, которая была вся гордость и благородство, сжалось сердце, когда она по тону и всей манере лакея заметила, что между отцом и его товарищем по работам установилась какая-то дурная фамильярность.
– Отец не может без вас сосчитать, сколько он здесь должен, – сказала Маргарита.
– Барин, – ответил Лемюлькинье, – должен…
При этих словах Валтасар сделал лакею какой-то тайный знак, заметив который Маргарита почувствовала себя униженной.
– Говорите же, сколько должен отец! – воскликнула она.
– Здесь барин задолжал тысячу экю аптекарю, который оптом торгует москательными товарами и поставлял нам едкий поташ, свинец, цинк и реактивы.
– Это все? – сказала Маргарита.
Валтасар снова подал знак Лемюлькинье, который, как зачарованный, ответил:
– Да, барышня.
– Хорошо, – продолжала она, – сейчас я их вам отдам.
Валтасар радостно обнял дочь со словами:
– Ты для меня ангел, дитя мое.
И он вздохнул легче, взглянул на нее веселее, но, несмотря на эту радость, Маргарита легко заметила на его лице следы глубокой тревоги и решила, что тысячу экю составляют только самые неотложные долги по лаборатории.
– Будьте откровенны, папенька, – сказала она, когда, подчиняясь желанию отца, уселась к нему на колени. – У вас есть еще долги? Признавайтесь мне во всем, возвращайтесь домой, не тая никаких опасений среди общего счастья.
– Дорогая Маргарита, – сказал он, взяв ее руки и целуя их с грацией, напоминавшей об его далекой юности, – ты будешь на меня ворчать…
– Нет, – сказала она.
– Правда? – ответил он, и у него вырвался жест ребяческой радости. – Значит, все тебе могу сказать, ты заплатишь?..
– Да, – сказала она, сдерживая слезы, выступившие у нее на глазах.
– Так вот, я должен… о! не смею…
– Говорите же, папенька.
– Сумма значительная, – продолжал он.
Она в отчаянии умоляюще сложила руки.
– Тридцать тысяч франков должен я Проте и Шифревилю.
– Тридцать тысяч составляют все мои сбережения, но я с удовольствием подарю их вам, – сказала она, почтительно целуя его в лоб.
Он встал, схватил дочь в объятия и стал кружиться по комнате, подкидывая ее, как ребенка, потом посадил ее в то же кресло, воскликнув:
– Милое дитя, ты настоящее сокровище любви! Ведь мне житья не давали. Шифревили написали мне три угрожающих письма, хотели начинать тяжбу со мной, со мной, обогатившим их…
– Папенька, – печально сказала Маргарита, – значит, вы продолжаете свои исследования?..
– Продолжаю, – сказал он, улыбаясь, как безумный. – Погоди, я еще найду… Если бы ты знала, чего мы достигли.
– Кто это – мы?
– Я говорю о Мюлькинье; он теперь стал понимать меня, прекрасно мне помогает… Славный малый, он так мне предан.
Вошел Конинкс, и разговор прервался. Маргарита сделала отцу знак молчать, боясь, как бы он не уронил себя в глазах дяди. Она была в ужасе от того, каким опустошениям подвергся его великий ум, поглощенный исследованием проблемы, может быть неразрешимой. Валтасар, который, вероятно, ничего, кроме своих горнов, не видел, не догадывался даже о том, что состояние его свободно от долгов. На следующий день они отправились во Фландрию. Путешествие было довольно продолжительно, и Маргарита успела кое-что понять во взаимоотношениях отца и Лемюлькинье. Не получил ли лакей той власти над господином, какую берут иногда над величайшими умами люди, лишенные всякого образования, но чувствующие себя необходимыми и, добиваясь уступки за уступкою, идущие к господству с упорством, которое дается навязчивой идеей? Или же барин питал к слуге привязанность, рожденную привычкой и похожую на отношение рабочего к своему инструменту-созидателю или араба к своему скакуну-освободителю? Маргарита подметила в поведении слуги кое-какие черты, встревожившие ее, и решила освободить Валтасара из-под унизительного ига, если ее опасения подтвердятся. Проездом она остановилась на несколько дней в Париже, чтобы расплатиться с долгами отца и просить фабрикантов химических продуктов ничего не присылать в Дуэ, предварительно не уведомив ее о заказах, которые сделает Клаас. Она уговорила отца переменить костюм и одеться соответственно своему положению. Такое наружное восстановление облика Валтасара вернуло ему внешнее достоинство, что было хорошим знаком возможной перемены умонастроения. Вскоре дочь, уже предвкушая счастье видеть, как поразят отца все неожиданности, с которыми он встретится в собственном доме, поехала дальше в Дуэ.
В трех милях от города Валтасар увидал Фелицию верхом на лошади, в сопровождении обоих братьев, Эммануила, Пьеркена и близких друзей всех трех семейств. Путешествие невольно отвлекло химика от его обычных мыслей, картины Фландрии подействовали на его сердце; а когда он заметил веселую свиту, которую составили ему его дети и друзья, то ощутил в себе волнение столь сильное, что глаза его увлажнились, голос задрожал, веки покраснели. Он так страстно обнимал детей, будучи не в силах от них оторваться, что, наблюдая эту сцену, все были растроганы до слез. Вновь увидав свой дом, он побледнел, живо, совсем как молодой человек, выскочил из дорожной кареты, радостно вдохнул чудный аромат сада, принялся разглядывать все кругом, и в каждом его движении чувствовалось удовольствие; он выпрямился, снова помолодело его лицо. Когда он вошел в залу, слезы появились у него на глазах: по тому, как точно воспроизвела дочь проданные им старинные серебряные подсвечники, он увидел, что беды, должно быть, все поправлены. Роскошный завтрак подали в столовой, где все поставцы были полны редкостными предметами и серебром, по крайней мере той же ценности, что и вещи, находившиеся здесь когда-то. Хотя семейная трапеза длилась немало времени, его едва хватило на рассказы, которых Валтасар требовал от каждого из своих детей. Нравственно потрясенный возвращением домой, он проникся счастьем семьи и вполне показал себя отцом. Его манеры обрели свое прежнее благородство. В первый момент он весь отдался радости обладания, не спрашивая себя, каким образом могло быть восстановлено все потерянное им. Радость его была цельной и полной. Когда кончили завтрак, четверо детей, отец и нотариус Пьеркен перешли в залу, где Валтасар не без тревоги увидал листы гербовой бумаги, которые положил на стол писец, как бы готовясь исполнять распоряжения своего патрона. Дети сели, а изумленный Валтасар остался стоять перед камином.








