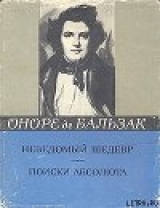
Текст книги "Поиски Абсолюта"
Автор книги: Оноре де Бальзак
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
– Золото принадлежит господину де Солису, который был так добр, что ссудил его мне, чтобы можно было уплатить сполна все наши долги, – ответила Маргарита.
Де Солис покраснел и собирался уйти.
– Постойте, – сказал Валтасар, за руку удерживая его. – Не скрывайтесь от моей благодарности.
– Вы мне ничего не должны. Деньги принадлежат вашей дочери, она берет их у меня взаймы под свои земли, – сказал он, взглянув на возлюбленную, которая поблагодарила его неприметным движением ресниц.
– Этого я не допущу, – сказал Клаас, взяв перо и лист бумаги со стола, за которым обычно писала Фелиция.
И, обернувшись к изумленным молодым людям, он спросил:
– Сколько здесь?
Страсть сделала Валтасара хитрее самого ловкого плута-интенданта: он уже готов был завладеть деньгами. Маргарита и де Солис замялись.
– Сочтемте, – предложил Клаас.
– Здесь шесть тысяч дукатов, – заметил Эммануил.
– Семьдесят тысяч франков, – сказал Клаас.
Взгляд Маргариты придал ее возлюбленному мужества.
– Ваше обязательство ценности не имеет, – сказал он, весь дрожа, простите мне это чисто техническое выражение: нынче утром я ссудил вашей дочери сто тысяч франков, чтобы выкупить векселя, которые вы были не в состоянии оплатить, значит и мне никаких гарантий вы дать не могли бы. Все сто семьдесят тысяч франков принадлежат вашей дочери, которая может располагать ими, как ей угодно, но я даю их взаймы, только взяв с нее обещание подписать закладную на ее долю в землях Вэньи, в тех угодьях, где недавно вырублен лес.
Маргарита отвернулась, чтобы скрыть выступившие у нее на глазах слезы, она знала, каким чистосердечием отличался Эммануил. Воспитанный своим дядей в самом суровом соблюдении добродетелей, предписываемых религией, молодой человек особенно опасался лжи; вручив Маргарите свою жизнь и сердце, он жертвовал теперь и своею совестью.
– Прощайте, – сказал ему Валтасар. – Я думал, вы больше доверяете человеку, который смотрит на вас как на сына…
Эммануил обменялся с Маргаритой печальным взглядом. Марта пошла проводить его и запереть дверь на улицу. Когда отец и дочь остались одни, Клаас сказал дочери:
– Ты любишь меня, не правда ли?
– Бросьте ваши уловки, папенька. Вы хотите денег? Их вы не получите.
Она стала собирать дукаты, отец молча помогал ей поднимать их с полу и пересчитывать, Маргарита приняла его помощь без малейшего недоверия. Когда две тысячи дукатов были сложены в столбики, Валтасар сказал с отчаянием:
– Маргарита, это золото мне необходимо!
– Было бы воровством, если бы вы его взяли, – ответила она холодно. Послушайте, папенька, лучше убить нас сразу, чем заставлять нас каждый день претерпевать тысячу смертей. Что ж, посмотрим, кто одолеет, – вы или мы…
– Значит, вы убьете своего отца! – продолжал он.
– Мы отомстим за мать, – сказала она, указывая на то место, где умерла г-жа Клаас.
– Дочь моя, если бы ты знала, зачем оно мне нужно, ты не произнесла бы таких слов. Послушай, я объясню тебе, какую задачу должен я разрешить… Но ты ведь не поймешь! – вскричал он с отчаянием. – Словом, дай мне деньги! Хоть раз поверь в своего отца… Да, я знаю, я доставил твоей матери много страданий, я расточил, как выражаются невежды, свое состояние и промотал ваше, вы все теперь вынуждены работать из-за моего безумия, как ты это называешь, но, ангел мой, дорогая, любовь моя, моя Маргарита, выслушай же меня! Если мне не удастся, я покорюсь тебе, я буду тебе повиноваться, как должна бы повиноваться мне ты; я буду исполнять твои желания, вверю тебе все свое имущество, откажусь от опеки над детьми, отрекусь от всякой власти. Клянусь памятью твоей матери! – сказал он, проливая слезы.
Маргарита отвернулась, чтобы не видеть лицо его, залитое слезами, и Клаас бросился к ногам дочери, думая, что она готова уступить.
– Маргарита, Маргарита! Дай мне их, дай! Что такое шестьдесят тысяч франков перед вечными угрызениями совести! Ведь я умру, меня это убьет… Выслушай меня! Мое слово свято. Если меня постигнет неудача, я отказываюсь от работы, покидаю Фландрию, даже Францию; если потребуешь, я пойду работать, как поденщик, чтобы со временем по грошу снова сколотить состояние и вернуть детям все, что отняла у них Наука.
Маргарита хотела поднять отца, но он продолжал стоять на коленях и говорил, заливаясь слезами.
– В последний раз будь нежной, покорной дочерью! Если меня постигнет неудача, я сам признаю твою правоту, как бы сурово ты вы обращалась со мной. Зови меня тогда сумасшедшим стариком! Называй отцом-злодеем! Говори даже, что я невежда! Я в ответ буду целовать тебе руки. Можешь бить меня, если захочешь, и когда ударишь, я стану благословлять тебя, как лучшую из дочерей, вспоминая, что ты ради меня пожертвовала собою.
– Если бы нужно было пожертвовать только собою, я бы это сделала, но могу ли я допустить, чтобы наука убила моего брата и сестру? Нет!.. Довольно, довольно! – сказала она, вытирая слезы и отталкивая ласкающие руки отца.
– Мне нужно только шестьдесят тысяч франков и два месяца сроку, – воскликнул он, поднимаясь в бешенстве с колен. – Но дочь становится между славой, богатством и мною… Будь проклята! – сказал он. – Ты не дочь, не женщина, ты бессердечна! Не быть тебе ни матерью, ни женой!.. Позволь взять деньги! Ну, скажи, что позволяешь, милая моя детка, дитя мое возлюбленное! Я буду обожать тебя, – закончил он, с яростной решимостью протягивая руку к золоту.
– Против насилия я беззащитна, но бог и великий Клаас нас видят! сказала Маргарита, показывая на портрет.
– Ладно, живи, запятнанная кровью отца! – закричал Валтасар, бросая на нее ужасный взгляд.
Он встал, оглядел комнату и медленно направился к выходу. Дойдя до двери, он повернулся и, как нищий, умоляюще протянул руку, но Маргарита отрицательно покачала головой.
– Прощайте, дочь моя! – сказал он кротко, – попытайтесь жить счастливо!
Когда он исчез, Маргарита осталась в оцепенении, ей казалось, что она отделилась от земли: она уже не была здесь, в этой комнате, не чувствовала своего тела, у нее выросли крылья, и она парила в пространствах мира духовного, где все беспредельно, где мысль преодолевает пространство и время, где некая божественная рука приподнимает покров, простертый над будущим. Ей казалось, что целые дни протекали после каждого шага отца, когда он поднимался по лестнице; затем она вздрогнула от ужаса, услыхав, что он вошел к себе в спальню. Подчиняясь предчувствию, осветившему ее душу пронзительным блеском молнии, она, не зажигая света, бесшумно, с быстротой стрелы промчалась по лестнице и увидала, что отец приложил ко лбу дуло пистолета.
– Все берите! – закричала она, бросаясь к нему.
Она упала в кресло. Валтасар, видя, как она бледна, принялся плакать по-стариковски; он сделался совсем ребенком, он целовал ее в лоб, говорил ей бессвязные слова, чуть не прыгал от радости и, казалось, готов был дурачиться с нею, как влюбленный дурачится со своей подругой, добившись блаженства.
– Будет, будет, папенька! – сказала она. – Подумайте о своем обещании! Если не достигнете успеха, будете мне повиноваться?
– Да.
– О моя мать! – сказала она, обернувшись к комнате г-жи Клаас. – Ведь вы все отдали бы, не правда ли?
– Спи спокойно, – сказал Валтасар, – ты добрая дочь.
– Спать! – сказала она. – Прошли счастливые сны моей юности; вы с каждым днем старите меня, папенька, как с каждым днем иссушали сердце моей матери…
– Бедное дитя, я хотел бы ободрить тебя, объяснить тебе значение великолепного опыта, который я только что задумал, ты поняла бы. – Я понимаю только то, что мы разорены, – сказала она, уходя.
Утром на следующий день, который был отпускным в школе, Эммануил де Солис привел Жана.
– Ну, как? – печально спросил он, подходя к Маргарите.
– Я уступила, – ответила она.
– Жизнь моя! – сказал он с какой-то меланхолической радостью. – Если вы устояли бы, я восхищался бы вами; а такую, слабую, я вас боготворю!
– Бедный, бедный Эммануил, что останется на нашу долю?
– Предоставьте мне действовать, – воскликнул молодой человек, просияв, мы друг друга любим, все пойдет хорошо!
Несколько месяцев протекло совершенно спокойно. Де Солис внушил Маргарите, что все равно состояния не скопишь, урезывая себя в мелочах, и советовал ей не экономить на хозяйстве, а для поддержания в доме достатка взять остальные деньги, которые были у него на хранении. В это время Маргариту не раз охватывала тревога, которая при подобных же обстоятельствах некогда волновала ее мать. Как ни мало было в ней веры, все же она стала возлагать надежды на гений отца. Хотя это необъяснимо, но многие надеются, не имея веры. Надежда – цвет желания, вера – плод убежденности. Маргарита думала: «Если отец добьется своей цели, мы будем счастливы». Только один Клаас да Лемюлькинье говорили: «Мы добьемся!» К несчастью, с каждым днем все более омрачалось лицо Клааса. Приходя обедать, он иногда не смел взглянуть на дочь, иногда же бросал на нее торжествующие взгляды. Ежедневно молодой де Солис весь вечер разъяснял Маргарите трудные места в законах; она забрасывала отца вопросами об их семейных связях. Так закончила она свое мужское образование, очевидно, готовясь выполнить план, задуманный ею на случай, если отец еще раз потерпит поражение в поединке с Неизвестным (X).
В начале июля Валтасар провел целый день, сидя на скамье в саду, погрузившись в печальные размышления. Не раз взглянул он на клумбу, лишенную тюльпанов, на окна комнаты, где жила Жозефина; без сомнения, он содрогался от мысли, во что обошлась его борьба; по всему было видно, что он думает не о науке. Незадолго до Маргарита подсела к нему с работой.
– Что же, папенька, не удалось?
– Нет, дитя мое…
– Ах, я не сделаю вам ни малейшего упрека, мы оба виноваты, – нежно сказала Маргарита. – Я требую только, чтобы вы свое слово выполнили, оно должно быть свято; ведь вы – Клаас. Любовью и уважением окружают вас дети, но с нынешнего дня вы у меня под властью и обязаны повиноваться. Будьте спокойны, правление мое будет мягким, и я даже постараюсь, чтобы оно кончилось скоро. Я беру с собой Марту и уезжаю на месяц или около того, чтобы устроить ваши дела; ведь вы мое дитя, – добавила она, целуя его в лоб. Завтра хозяйничать начнет Фелиция. Бедной девочке только семнадцать лет, ей против вас не устоять; будьте великодушны, ни копейки не просите у нее, ей дано ровно столько, сколько нужно для домашних расходов. Соберитесь с духом, на два-три года откажитесь от ваших работ и замыслов. Научная задача ваша созреет, я соберу деньги, необходимые для ее решения, и вы ее решите. Вот так. Разве королева ваша не милостива, скажите?
– Значит, не все потеряно! – сказал старик.
– Нет, если вы верны вашему слову.
– Буду покорен вам, дочь моя, – ответил Клаас с глубоким волнением.
На следующий день за Маргаритой заехал ее двоюродный дед Конинкс из Камбрэ. Он приехал в дорожной карете и пожелал остановиться у своего родственника только на короткое время, пока соберутся в дорогу Маргарита и Марта. Клаас приветливо принял родственника, но по всему было видно, как хозяин печален и унижен. Старый Конинкс угадал мысли Валтасара и за завтраком сказал ему с грубоватой откровенностью:
– У меня висят некоторые из ваших картин, люблю хорошие картины разорительная страсть, но мы все безумствуем, каждый по-своему…
– Дорогой мой дедушка! – сказала Маргарита.
– Идут слухи, что вы разорены, но у Клаасов всегда сохраняются сокровища вот здесь, – сказал он, ударяя себя по лбу. – И здесь также, не правда ли?.. – добавил, указывая себе на сердце. – А потому полагаюсь на вас! У меня в мошне нашлось несколько экю, можете ими располагать.
– Ах! – воскликнул Валтасар, – я отдам вам целые сокровища…
– Единственные сокровища, которыми мы во Фландрии обладаем, – это терпение и труд, – сурово отвечал Конинкс. – Два эти слова начертаны на лбу у нашего предка, – сказал он, показывая на портрет Ван-Клааса, председателя суда.
Маргарита обняла отца, простилась с ним и, дав распоряжения Жозете и Фелиции, в почтовой карете отправилась в Париж. Овдовев, дедушка остался лишь с двенадцатилетней дочерью, а владел он огромным состоянием, – таким образом, представлялось вполне возможным, что он захочет жениться; и вот обитатели Дуэ решили, что Маргарита Клаас выходит за него замуж. Слухи об этом богатом женихе и привели нотариуса Пьеркена в дом Клаасов. Значительные перемены произошли в понятиях сего превосходного калькулятора. Последние два года городское общество разделено было на два враждебных лагеря. Дворянство сплотилось в один высший круг, буржуазия – во второй, естественно, очень враждебный первому. Это внезапное разделение произошло по всей Франции и образовало в ней две отдельные, враждующие между собою нации, в которых все возрастало взаимное завистливое раздражение, послужившее в провинции одной из главных предпосылок для успеха июльской революции 1830 года. Между двумя общественными кругами, из которых один был крайне монархичен, другой крайне либерален, очутились чиновники, допускаемые, смотря по чину, в тот или другой круг и в момент падения законной власти оставшиеся нейтральными. В начале борьбы между дворянством и буржуазией роялистские кофейни завели у себя неслыханную роскошь и так блестяще соперничали с кофейнями либералов, что их своеобразные гастрономические праздники, говорят, стоили жизни многим особам, которые, подобно плохо отлитым мортирам, не выдержали такого испытания. Разумеется, оба круга замкнулись и освободились от посторонних. Хотя Пьеркен и был, по провинциальной мерке, очень богат, его не приняли в аристократическое общество и оттеснили к буржуазному. Самолюбие его сильно страдало от ряда понесенных им неудач, когда он видел, как мало-помалу спроваживают его от себя те, с кем прежде он поддерживал отношения. Он достиг сорокалетнего возраста – крайний срок, когда подумывающий о браке мужчина еще может жениться на молодой особе. Партии, на какие он мог изъявлять притязания, относились к кругу буржуазному, тогда как честолюбие тянуло его в высший свет, куда должен был открыть ему доступ аристократический брак.
Живя уединенно, семейство Клаасов осталось чуждо этим общественным переменам. Хотя Валтасар Клаас принадлежал к старинной провинциальной аристократии, можно было предполагать, что, погруженный в свои изыскания, он не проникся антипатиями, создавшимися от такого нового разделения общества. Как ни была бедна дочь Клааса, супруг получил бы за нею в приданое удовлетворенное тщеславие, столь ценимое всеми выскочками. И вот Пьеркен вернулся к Клаасам с тайным намерением принести необходимые жертвы, только бы добиться заключения брака, осуществлявшего теперь все его честолюбивые желания. Навещая Валтасара и Фелицию во время отсутствия Маргариты, он хотя и с запозданием признал Эммануила де Солиса опасным соперником. Наследство покойного аббата считалось значительным, и человек, переводивший все в жизни на цифры, в деньгах молодого наследника видел силу более важную, чем соблазны чувства, о которых Пьеркен никогда не беспокоился. Этим богатством возвращалось имени Солиса все его значение. Золото и родовитость были подобны двум люстрам, которые усиливают свой блеск, отражая одна другую. Искренняя привязанность молодого директора к Фелиции, с которой он обращался, как с сестрой, возбудила соревнование нотариуса. Он попытался затмить Эммануила модным жаргоном и поверхностно галантными словечками, в сочетании с мечтательным видом и элегической озабоченностью, которые были ему так к лицу. Говоря, что во всем на свете разочарован, он поглядывал на Фелицию так, точно она одна могла бы примирить его с жизнью. Фелиция, к которой впервые мужчина обращался с комплиментами, прислушивалась к таким речам, всегда столь приятным, даже если они лживы; пустоту она приняла за глубину, и, испытывая потребность на что-нибудь направить те неясные чувства, что переполняли ее сердце, ока обратила внимание на своего родственника. Быть может, безотчетно, но она завидовала тому, как Эммануил расточал сестре нежные знаки внимания, и, вероятно, ей хотелось самой привлекать к себе взгляды, мысли и заботы мужчины. Пьеркен без труда разобрал, что Фелиция предпочитает его Эммануилу, и это было для него основанием удвоить свои усилия, – в результате он запутался больше, чем сам того хотел. Эммануил наблюдал за началом чувства, быть может притворного у нотариуса, но наивного у Фелиции, вся будущность которой делалась ставкой в игре. Потом у Пьеркена с Фелицией пошли тихие беседы, словечки, произнесенные шопотом за спиной Эммануила, маленькие уловки, придающие взглядам и словам особую обманчивую приятность, которая приводит к простодушным заблуждениям. Пользуясь отношениями с Фелицией, Пьеркен пытался проникнуть в тайну предпринятого Маргаритой путешествия, чтобы узнать, не идет ли дело о браке и не должен ли он отказаться от своих надежд; но, как он тонко ни действовал, ни Валтасар, ни Фелиция ничего не могли объяснить ему по той причине, что сами они ничего не знали о проекте Маргариты, которая, принимая власть, следовала, казалось, правилам всех властителей и молчала о своих намерениях. Скучными стали вечера из-за угрюмой печали и вялости Валтасара. Хотя Эммануилу и удалось приучить химика к игре в триктрак, Валтасар играл рассеянно; да и вообще этот человек столь большого ума производил теперь впечатление глупца. Потеряв надежду, униженный тем, что поглотил три состояния, чувствуя себя игроком, у которого нет денег, он сгибался под тяжестью разорения, под бременем надежд, обманутых, но не разрушенных. Человек гениальный, которому нужда связала руки, который сам себя проклинал, являл собою зрелище поистине трагическое, способное растрогать человека самого бесчувственного. Даже Пьеркен с невольным уважением смотрел на этого льва в клетке, который только взглядом, исполненным затаенной силы, спокойным и печальным, потускневшим от слишком яркого света, просил милостыни, не смея ничего произнести устами. Порой молния пробегала по иссохшему лицу, оживлявшемуся от мысли о каком-нибудь новом опыте; иногда – если, окидывая взором залу, он глядел на то место, где умерла его жена, – скупые слезы, как горячие крупицы песку, навертывались в пустыне его глаз, широко раскрытых в созерцании какой-то идеи, и он низко опускал голову. Он, как титан, поднял на своих руках мир, и вновь мир, еще тяжелее, упал ему на грудь. Эта скорбь гиганта, которую он мужественно сдерживал, действовала на Пьеркена и на Эммануила, иногда они бывали растроганы до того, что готовы были предложить ему сумму, необходимую для ряда опытов, – так заразительна убежденность гения! Оба они начинали понимать, как могли г-жа Клаас и Маргарита бросать в пучину миллионы; но разум вскоре останавливал порывы сердца, и их растроганность выражалась лишь в словах утешения, от которых только острее становились муки пораженного молнией титана. Клаас совсем не говорил о своей старшей дочери, не беспокоился о том, что ее здесь нет, что она хранит молчание, не пишет ни ему, ни Фелиции. Когда Солис и Пьеркен спрашивали о ней, казалось, это действовало на Клааса неприятно. Предчувствовал ли он, что Маргарита замышляет что-то против него? Или сознавал он себя униженным тем, что передал дочери свои высокие отцовские права? Меньше ли стал любить ее оттого, что она становилась отцом, а он – ребенком? Быть может, много причин, много необъяснимых чувств, проносящихся в душе, как облака, обусловили ту молчаливую немилость, на которую он обрекал Маргариту. Как ни велики в своих исканиях великие люди, известные или неизвестные, счастливые или несчастливые, но им тоже свойственна мелочность, роднящая их с обыкновенными людьми. Вдвойне несчастные, они не меньше страдают от своих достоинств, чем от недостатков; быть может, и Валтасару пришлось свыкаться с муками оскорбленного тщеславия. Жизнь, какую он вел, и вечера, когда в отсутствие Маргариты они собирались вчетвером, были, таким образом, отмечены печалью, полны смутных опасений. То были дни бесплодные, как сухие степи, где тем не менее они подбирали кое-какие цветы, редкие утешения. Атмосфера казалась туманной в отсутствии старшей дочери, сделавшейся душой, надеждой и силой семьи. Так прошло два месяца, в течение которых Валтасар терпеливо дожидался приезда Маргариты. Ее привез в Дуэ дедушка, который, вместо того чтобы возвратиться в Камбрэ, остался в доме Клаасов, вероятно, рассчитывая своим авторитетом поддержать государственный переворот, задуманный племянницей. Приезд Маргариты стал маленьким семейным праздником. Фелиция и Валтасар пригласили в этот день к обеду нотариуса и Эммануила де Солиса. Когда дорожный экипаж остановился у ворот дома, все четверо, громко выражая свою радость, вышли встретить путешественников. Казалось, Маргарита была счастлива вновь очутиться под отчим кровом, глаза ее наполнились слезами, когда она проходила через двор, направляясь в залу. Однако, когда она обнимала отца, в ласках ее чувствовалась какая-то затаенная мысль. Маргарита краснела, как виноватая жена, не умеющая притворяться; но вновь стали ясными ее глаза, когда она взглянула на Эммануила, в котором, казалось, она черпала силы, чтобы осуществить до конца свой тайный замысел. За обедом, несмотря на веселость, оживлявшую лица и речи, отец и дочь посматривали друг на друга недоверчиво и пытливо. Валтасар не спрашивал Маргариту о пребывании ее в Париже, конечно, из чувства отцовского достоинства. Эммануил де Солис подражал ему в сдержанности. Но Пьеркен, привыкший узнавать все семейные тайны, сказал Маргарите, прикрывая любопытство притворным простодушием:
– Ну, как же, дорогая кузина, посмотрели вы Париж, побывали в театрах?
– Ничего не видала я в Париже, не для развлечений ездила я туда, – ответила она. – Дни у меня шли так печально, слишком нетерпеливо я ожидала, когда снова увижу Дуэ.
– Не побрани я Маргариту, она и в Оперу не пошла бы, да и там, впрочем, скучала, – сказал г-н Конинкс.
Наступил тягостный вечер, все чувствовали себя стесненно, улыбались нерадостно или старались скрыть тревогу под показной веселостью. Маргариту и Валтасара охватило глухое, жестокое беспокойство, и это действовало на всех. С каждым часом отец и дочь все хуже сдерживали себя. Иногда Маргарита пыталась улыбнуться, но жесты, взор и звук голоса выдавали ее сильную озабоченность. Конинкс и де Солис знали причину тайного беспокойства благородной девушки и точно подбадривали ее выразительными взглядами. Задетый тем, что его не посвятили в планы и хлопоты, предпринятые ради него, Валтасар понемногу отдалялся от детей и друзей, предпочитая хранить молчание. Ему, вероятно, вскоре предстояло услышать от Маргариты, что она решила относительно него. Для незаурядного человека и для отца это положение было невыносимо. Дожив до такого возраста, когда от детей ничего не скрывают, когда широта мысли придает силу чувствам, он делался все более серьезным, задумчивым и печальным, видя, как приближается момент его гражданской смерти. Этот вечер принес с собой перелом во внутренней жизни семьи, которому можно дать лишь образное пояснение. На небе скопились тучи и молнии, в полях раздавался смех; было душно, жарко; все предчувствовали грозу, тревожно поднимали голову, но продолжали свой путь. Г-н Конинкс первый пошел спать, и Валтасар проводил его в отведенную ему комнату. Тем временем ушли Пьеркен и г-н де Солис. Маргарита благосклонно простилась с нотариусом и ничего не сказала Эммануилу, только пожала ему руку, бросив ему влажный взгляд. Она отослала Фелицию, и, когда Клаас вернулся в залу, он застал там только свою старшую дочь.
– Отец, – сказала она с дрожью в голосе, – только тяжелые обстоятельства, в каких мы очутились, могли заставить меня покинуть дом; но после многих тревог, преодолев неслыханные трудности, я возвращаюсь с кое-какими шансами на спасение всех нас. Благодаря вашему имени, влиянию дяди и протекции господина де Солиса мы добились для вас места управляющего окладными сборами в Бретани; оно дает, говорят, восемнадцать – двадцать тысяч в год. Дядя внес залог… Вот ваше назначение, – сказала она, вынимая из сумки письмо. – Жить здесь в эти годы жертв и лишений было бы для вас невыносимо. Наш отец должен остаться в положении по крайней мере таком же, какое он всегда занимал. Из вашего жалованья я ничего не потребую, употребляйте его, как вам заблагорассудится. Только умоляю вас подумать о том, что у нас нет ни копейки дохода и что мы все будем жить на то, сколько уделит нам Габриэль. В городе ничего не будут знать о нашей монастырской жизни. Если бы вы остались дома, то были бы помехой для того, что мы с сестрою предпримем с целью вернуть семье благосостояние. Злоупотребила ли я данной мне властью, ставя вас в такое положение, что вы сами можете поправить свои дела? Через несколько лет, если захотите, вы будете главноуправляющим окладными сборами.
– Итак, Маргарита, – кротко сказал Валтасар, – ты выгоняешь меня из моего дома.
– Я не заслуживаю такого сурового упрека, – ответила дочь, сдерживая бурное биение сердца. – Вы вернетесь к нам, когда вам можно будет жить в родном городе, как вам подобает. Впрочем, папенька, разве вы мне не дали слова? – продолжала она холодно. – Вы должны мне повиноваться. Дедушка остался, чтобы вы поехали в Бретань с ним вместе, а не путешествовали один.
– Не поеду! – воскликнул Валтасар, поднимаясь. – Ни в чьей помощи не нуждаюсь, чтобы поправить свои дела и выплатить долги детям.
– Но я вам предлагаю наилучший исход, – невозмутимо продолжала Маргарита. – Попрошу вас подумать о взаимных наших отношениях, которые я вам в немногих словах объясню. Если вы остаетесь в этом доме, ваши дети уедут отсюда, предоставляя вам здесь быть хозяином.
– Маргарита! – крикнул Валтасар.
– Затем, – продолжала она, не желая замечать раздражения отца, – придется уведомить министра о вашем отказе, раз вы не хотите принять доходного и почетного места, которого мы, несмотря на хлопоты и протекцию, не получили бы, если бы дядя ловко не вложил несколько тысячефранковых билетов в перчатку одной дамы…
– Покинуть меня!
– Или вы нас покинете, или мы бежим от вас, – сказала она. – Будь я единственным у вас ребенком, я подражала бы матери, не ропща на уготованную вами участь. Но сестра моя и оба брата не погибнут от голода и отчаяния возле вас; так обещала я той, которая умерла здесь, – сказала она, показывая на место, где стояло ложе матери. – Мы таили от вас наши горести, мы страдали молча; а теперь силы наши истощились. Мы уже не на краю пропасти, а на самом дне, отец! Одно только наше мужество нас не спасет, нужно еще, чтобы наши усилия не уничтожались беспрестанными прихотями страсти…
– Милые дети, – воскликнул Валтасар, хватая руку Маргариты, – я буду вам помогать, буду работать, я…
– Вот пути к тому, – ответила она, показывая на министерское письмо.
– Ангел мой, для того чтобы поправить состояние таким способом, каким ты предлагаешь, потребуется слишком много времени! Из-за тебя я потеряю плоды десятилетних работ и огромные суммы, вложенные в мою лабораторию. Вот где, сказал он, указывая на чердак, – все источники нашего богатства.
Маргарита пошла к дверям со словами:
– Отец, выбирайте!
– Ах, дочь моя, вы очень суровы! – ответил он, садясь в кресло и предоставляя ей уйти.
На следующий день утром Маргарита узнала от Лемюлькинье, что Клааса нет дома. При таком простом сообщении она побледнела, и такой ужас был написан на ее лице, что старый лакей сказал ей:
– Будьте покойны, барышня, барин сказал, что вернется в одиннадцать часов к завтраку. Они не ложились. В два часа утра стояли еще в зале и смотрели в окно на крышу лаборатории. Я дожидался в кухне и видел, они плакали, у них горе. А ведь настал славный июль месяц, когда солнце способно всех нас обогатить, и если бы вам было угодно…
– Довольно! – сказала Маргарита, угадывая, какие мысли, должно быть, осаждали отца.
С Валтасаром в самом деле произошло то, что имеет силу над всеми домоседами; жизнь его зависела, так сказать, от мест, с которыми он себя отождествил, мысль его настолько была связана с лабораторией и домом, что они стали ему необходимы, как биржа игроку, для которого праздники потерянные дни. Здесь были его надежды, здесь нисходила с неба единственная атмосфера, в которой его легкие могли вдыхать живительный воздух. Такая зависимость от места и вещей, столь властная у натур слабых, становится почти тиранической у людей знания и науки. Покинуть свой дом – для Валтасара это значило отказаться от науки, от своей задачи, значило умереть.
Маргарита была в крайнем волнении до самого завтрака. Ей пришла на память сцена, чуть не доведшая Валтасара до самоубийства, и при том отчаянном положения, в каком находился отец, она боялась трагической развязки. Взад и вперед ходила она по зале, вздрагивая при каждом звонке у двери. Наконец, Валтасар вернулся. Пока он пересекал двор, Маргарита с тревогой приглядывалась к его лицу и увидала лишь выражение бурной скорби. Когда он вошел в залу, она подбежала к нему поздороваться; он нежно взял ее за талию, прижал к сердцу, поцеловал в лоб и сказал на ухо:
– Я ходил за паспортом.
Звук голоса, покорный взгляд и движения отца – все сокрушило сердце бедной девушки; она отвернулась, чтобы скрыть слезы, но, будучи не в силах справиться с ними, пошла в сад и вернулась, лишь когда наплакалась вволю. За завтраком Валтасар казался веселым, как человек, принявший решение.
– Значит, дядя, едем в Бретань, – сказал он г-ну Конинксу. – Мне всегда хотелось посмотреть эти края.
– Жить там дешево, – ответил старик.
– Папа уезжает? – воскликнула Фелиция.
Вошел де Солис, он привел Жана.
– Оставьте нам его нынче на весь день, – сказал Валтасар, сажая сына около себя. – Я завтра уезжаю, хочу проститься с ним.
Эммануил взглянул на Маргариту, которая опустила голову. Мрачен был этот день, все были печальны и боролись с тягостными мыслями или со слезами. То была не отлучка, а изгнание. Да и все инстинктивно чувствовали, сколько унижения для отца в том, что он так публично признается в своих неудачах, поступая на службу и, несмотря на свои преклонные годы, покидая семью. Но в нем чувствовалось величие, как в Маргарите – твердость; казалось, благородно несет он возмездие за ошибки, бывшие увлечениями его гениального ума. Когда вечер прошел и отец остался наедине с дочерью, Валтасар, весь день державший себя нежно и внимательно, как то было в лучшие дни его патриархальной жизни, протянул руку Маргарите и сказал ей голосом нежным и вместе с тем полным отчаяния:








