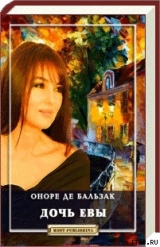
Текст книги "Дочь Евы"
Автор книги: Оноре де Бальзак
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
– Ну, что? – спросила она.
Лицо Мари-Эжени было ответом: оно сияло наивной радостью, которую многие приписали удовлетворенному тщеславию.
– Он будет спасен, дорогая, но только на три месяца, а мы тем временем подумаем о более надежном способе поддержать его. Баронесса Нусинген хочет получить четыре векселя, каждый на десять тысяч франков, подписанные кем угодно, чтобы ты не была скомпрометирована, Она объяснила мне, как они должны быть написаны; я в этом ничего не поняла; тебе их приготовит господин Натан. Я только подумала, что в этом деле нам может быть полезен наш старый учитель Шмуке; он их подпишет. Если ты к этим четырем векселям присоединишь письмо, в котором поручишься госпоже Нусинген в уплате, то она завтра вручит тебе деньги. Сделан все сама, никому не доверяйся. Я решила, что со стороны Шмуке не будет никаких возражений. Чтобы отвратить подозрение, я сказала, что ты хочешь удружить нашему бывшему учителю музыки, которого постиг несчастный случай. Таким образом, я могла просить о сохранении полной тайны.
– Ты умна, как ангел! Только бы баронесса Насинен не проболталась до того, как даст мне деньги, – сказала графиня, подняв глаза, словно взывая к богу, хотя и сидела в театральной ложе.
– Шмуке живет в Неверском переулке, близ набережной Конти, не забудь этого. Поезжай туда сама.
– Спасибо, – сказала графиня, пожимая руку сестре. – Ах, я отдала бы десять лет жизни…
– Из тех, что придут в старости…
– Чтобы навсегда покончить с этими тревогами, – сказала графиня, улыбнувшись поправке.
Все те, кто лорнировал в эту минуту обеих сестер, восхищаясь их простодушным смехом, могли думать, что они заняты пустяками; но кое-кто среди праздных людей, приходящих в Оперу не столько ради удовольствия, сколько для наблюдения за туалетами и физиономиями, мог бы угадать тайну графини, заметив сильное волнение, вдруг погасившее радость на этих двух прелестных лицах. Рауль, не боявшийся ночью сыщиков, бледный и вялый, с тревогой во взгляде, с печалью на челе, появился на ступеньке лестницы, где он обычно стоял. Он устремил взгляд на ложу графини, увидел, что она пуста, и обхватил обеими руками лоб, облокотившись на перила.
«Может ли она быть в Опере!» – думал он.
– Погляди же на нас, бедный великий человек, – прошептала г-жа дю Тийе.
А Мари, рискуя привлечь к себе внимание зала, устремила на него тот острый и пристальный взгляд, в котором воля излучается из глаз, как световые волны из солнца, и который, как утверждают магнетизеры, пронизывает того, на кого он направлен. К Раулю словно прикоснулась волшебная палочка: он поднял голову, и глаза его вдруг встретились с глазами обеих сестер. С милой находчивостью, никогда не покидающей женщин, графиня взяла бриллиантовый крест, сверкавший у нее на груди, и показала его Раулю, едва заметно и выразительно улыбнувшись. Бриллианты метнули лучи в глаза Рауля, он ответил радостным выражением лица: он понял.
– Разве этого мало? – сказала сестре графиня. – Вот так возвращать жизнь мертвецам!.
– Ты можешь записаться в общество спасения на водах, – ответила, улыбаясь, Эжени.
– Каким он пришел грустным, подавленным, и каким уйдет довольным!
– Ну, как ты себя чувствуешь, душа моя? – спросил дю Тийе, подойдя к Раулю с самым дружелюбным видом и пожимая ему руку.
– Как человек, только что получивший превосходные известия о выборах, – ответил, сияя, Рауль. – Я буду депутатом.
– Очень рад, – ответил Тийе. – Нам понадобятся деньги для газеты – Мы их разыщем, – сказал Рауль.
– На стороне женщин – сам дьявол! – сказал это Тине, хотя и не совсем доверял словам Натана, которого он прозвал Шарнатаном – Это ты к чему?
– В ложе у жены сидит моя свояченица, – продолжал банкир. – Здесь что-то кроется. Графиня, как мне кажется, обожает тебя, она тебе кланяется через всю залу – Погляди, – сказала сестре г-жа дю Тийе, – жен-шин называют фальшивыми созданиями. Мой муж любезничает с господином Натаном, а между тем он-то и сможет засадить его в тюрьму!
– И мужчины еще смеют нас упрекать! – воскликнула графиня – Я открою ему глаза.
Она встала, снова оперлась на руку Ванденеса, ждавшего ее в коридоре, и, сияя, вернулась в свою ложу; затем уехала из Оперы, велела подать наутро карету к восьми часам и уже в половине девятого, заглянув на улицу Майль, прибыла на набережную Конти.
Карета не могла въехать в узкий Неверский переулок, но Шмуке жил на углу набережной, и графине не пришлось шагать по грязи, – спрыгнув с подножки, она сразу очутилась у замызганного и полуразрушенного подъезда этого старого темного дома, скрепленного железными скобками, как фаянсовая посуда у швейцаров, и покривившегося так, что прохожие поглядывали на него с опаскою. Старый капельмейстер жил в четвертом этаже и любовался прекрасным видом на Сену от Нового моста до холма Шайо. Добряк был так поражен и растерян, когда лакей графини возвестил ему появление его бывшей ученицы, что впустил ее к себе. Графиня никогда не могла бы ни предугадать, ни вообразить внезапно открывшуюся перед ней картину жизни Шмуке, хотя ей давно известно было его полное пренебрежение к костюму и безучастие ко всему земному. Кто мог бы представить себе такую неряшливость существования, такую совершенную беспечность? Шмуке был музыкальным Диогеном, он не стыдился своего беспорядка и даже не замечал его, настолько к нему привык. Непрерывное употребление славной большущей немецкой трубки покрыло потолок и жалкие, кое-где изодранные кошкой обои золотистым налетом, который придавал предметам обстановки вид позлащенной жатвы Цереры. Кошка находилась тут же, как хозяйка дома, бородатая, важная и спокойная; на ее роскошную шелковистую шкурку, мохнатую и взъерошенную, позарилась бы не одна привратница. Торжественно восседая на крышке превосходного венского фортепьяно, она устремила на вошедшую графиню вкрадчивый и холодный взгляд, каким бы ее приветствовала каждая женщина, удивленная ее красотою Она не выказала никакого беспокойства, только шевельнула двумя серебряными нитями прямых своих усов и перевела на Шмуке золотистые глаза Дряхлое фортепьяно дорогого дерева, покрытое черным лаком с позолотой, но грязное, выцветшее, облупленное, скалило свои клавиши, истертые, как зубы у старой лошади, и пожелтевшие от табачного дыма. Кучки пепла на пюпитре говорили о том, что накануне Шмуке на своем старом инструменте мчался на какой-нибудь музыкальный шабаш. Пол был усеян пятнами высохшей грязи, клочками бумаги, пеплом из трубки и всяким мусором, как это бывает в меблированных комнатах, где пол не подметали целую неделю и слуге приходится выгребать целую груду невообразимого хлама, представляющего собою нечто среднее между навозом и тряпьем Более опытный, чем у графини, глаз нашел бы сведения о жизни Шмуке в кожуре каштанов и яблок, в скорлупе крашеных пасхальных яиц, в разбитых по неловкости тарелках со следами тушеной капусты. Эти отложения германской культуры образовали ковер пыльных отбросов, хрустевших под ногами. Он сливался с грудой золы, которая величественно низвергалась из покрашенного облупившегося камина, где за двумя словно испускающими дух головешками высилась раскаленная горка углей. Над камином висело зеркало, в котором отражения плясали сарабанду; по одну его сторону висела знаменитая трубка, по другую стояла китайская ваза, где Шмуке хранил свой табак. Два по случаю купленных кресла, тощая плоская кушетка, комод без мраморной доски и весь в червоточинах хромоногий стол, на котором виднелись остатки скудного завтрака, – вот и вся меблировка, немногим более сложная, чем в индейском вигваме. Зеркальце для бритья, висевшее на шпингалете окна без занавесок, и изрезанный ремень для правки бритвы свидетельствовали о жертвах, которые Шмуке приносил грациям и свету. Кошке, существу слабому и нуждающемуся в покровительстве, предоставлена была лучшая доля: она пользовалась старой диванной подушкой, подле которой стояли фарфоровая чашка и блюдце. Но никаким пером не описать состояния, в которое привели всю мебель старик Шмуке, кошка и трубка – вся эта дружная троица. Трубка там и сям прожгла стол Кошка и голова Шмуке так засалили плюшевую обивку обоих кресел, что лишили ее всего ворса. Если бы не роскошный хвост кошки, составлявший часть хозяйственного инвентаря, свободные места на комоде и камине так и оставались бы необметенными. В углу валялись во множестве башмаки, заслуживающие эпически подробного описания. Комод и фортепьяно завалены были потными тетрадями, с обтрепанными, вспоротыми корешками, с побелевшими, затупившимися уголками, в которых картон расслоился на тысячу листков. Вдоль стен приклеены были облатками адреса учениц. Следы облаток без бумажек указывали число прекративших занятия. На обоях можно было прочесть записанные мелом счета. Комод уставлен был кружками накануне выпитого пива, и они казались новыми и яркими посреди всего этого старья и бумажного хлама. Гигиена представлена была кувшином с водою, накрывавшим его полотенцем и куском простого мыла, белого в синих крапинках, увлажнившего во многих местах розовое дерево комода. Две одинаково ветхие шляпы и тот самый долгополый сюртук с тремя воротниками, который графиня всегда видела на Шмуке, висели на вешалке. На подоконнике стояли три горшка с цветами, без сомнения немецкими, а подле него дубовая трость. Зрение и обоняние графини были неприятно поражены, но улыбка и взгляд Шмуке скрасили нищету обстановки небесными лучами, от которых заблестел золотистый налет на всех вещах и оживился этот хаос. Дивная душа человека, знавшая и постигавшая столько дивных вещей, сияла, как солнце. Смех, которым он разразился при виде одной из своих «святых Цецилий», такой искренний, такой простодушный, звучал молодостью, радостью, невинностью. Эти рассыпанные перед гостьей сокровища, самые бесценные для человека, обратились в лучезарную пелену, скрывшую под собой его бедность. Даже самый надменный выскочка, быть может, счел бы низостью обращать внимание на обстановку, среди которой взволнованно жил этот великолепный апостол музыкальной религии.
– Какими судьбами ви сдесь, торогая графинья? – воскликнул он. – Уш не пропеть ли мне в моем фозрасте «Nunc dimittis»?[1]1
Ныне отпущаеши (лат.).
[Закрыть] – Эта мысль усилила приступ его безудержного веселья. – Какое сшастье мне прифали-ло? – продолжал он с лукавым видом и снова закатился детским смехом. – Вы приекали ради музики, а не ради бетного старика, я снаю, – сказал он вдруг меланхолично, – но ради чего би ви ни пришли, снайте, что сдесь все принадлешит вам, душа, тело и весь мой имус-шество!
Он взял руку графини, поцеловал и уронил на нее слезу, ибо добряк никогда не забывал добра, которое делали ему. От радости он на миг лишился памяти, потом мысли его прояснились. Он схватил мел, вскочил на кресло у фортепьяно и со стремительностью юноши написал на обоях крупными буквами: 17 февраля 1835 года.
Этот порыв, такой милый, такой наивный, исполненный такой горячей благодарности, глубоко тронул графиню.
– Сестра моя тоже приедет к вам.
– И сестра тоше! Когта? Когта? Только бы я не умер до тех пор!
– Она приедет вас поблагодарить за большую услугу, о которой я приехала вас попросить от ее имени.
– Скорей, скорей, скорей! – закричал Шмуке. – Что нушно сделать? Мошет быть, отправиться с поручением к тьяволу? Я готоф.
– Нужно только написать на каждой из этих вот бумажек: «Повинен заплатить десять тысяч франков», – сказала она, вынимая из муфты четыре векселя, которые по всей форме заготовил Натан.
– О, это стелать недолго, – с кротостью ягненка ответил Шмуке. – Я только не снаю, где мой перья и чернильница… Ступай отсюда, mein Herr Murr, – прикрикнул он на кошку, холодно смотревшую на него. – Это моя кошка, – сказал он, показывая на нее графине. – Это бетное животное всегта живет с бетным Шмуке! Красавица! Не правда ли?
– Да, – согласилась графиня.
– Хотите? Возьмите его себе, – сказал он.
– Что вы! – возразила графиня. – Ведь она ваш Друг!
Кошка, заслонявшая чернильницу, догадалась, чего хочет Шмуке, и прыгнула на кушетку.
– Она хитрый, как обезьяна, – заметил Шмуке, кивая в сторону кошки. – Я насиваю ее Мурр в шесть нашего берлинца Гофмана, я его корошо снал.
Добряк подписывал векселя с невинностью ребенка, который делает то, что мать ему велит, и, хотя ничего не понимает, уверен, что поступает хорошо. Его гораздо больше занимало впечатление, произведенное кошкой на графиню, чем эти бумаги, грозившие ему, согласно законам для иностранцев, пожизненным лишением свободы.
– Вы уферены, что эти листки гербофой бумага…
– Будьте совершенно спокойны, – сказала графиня.
– Я нишуть не беспокоюс, – прервал он ее. – Я спрашиваю, доставят ли удофольствие госпоше дю Тийе эти листки гербофой бумаги.
– О да, – ответила она, – вы окажете ей услугу, какую мог бы оказать родной отец.
– Ну, я сшастлив, если на что-нибудь ей приготился. Послушайте-ка мой музыка! – сказал он и, оставив бумаги на столе, подбежал к фортепьяно.
Уже пальцы этого ангела забегали по старым клавишам, уже взгляд его сквозь кровлю устремился в небо, уже расцветало в воздухе и проникало в душу самое сладостное из всех песнопений; но графиня недолго дала этому наивному глашатаю небесных радостей наделять глаголом дерево и струны, как это делает Рафаэлева святая Цецилия для внемлющих ей ангелов, – лишь только высохли чернила, она поднялась, положила векселя в муфту и возвратила на землю сияющего своего учителя из эфирных пространств, где он парил.
– Добрый мой Шмуке, – сказала она, похлопывая его по плечу – Так скоро! – воскликнул он с грустной покорностью. – Сачем же вы тогда приехаль?
Он не возроптал, он насторожился, как верная собака, чтобы выслушать графиню.
– Добрый мой Шмуке, – продолжала она, – на карту поставлена человеческая жизнь, минуты сберегают кровь и слезы.
– Ви все та ше, – сказал он. – Ступайте, ангел! Осушайте слесы лютские! Снайте, что бедний Шмуке ценит ваше посесшение выше вашей пенсии.
– Мы еще увидимся, – сказала она, – вы будете приходить каждое воскресенье музицировать и обедать со мною, иначе я с вами рассорюсь. Я жду вас в ближайшее воскресенье.
– Это прафта?
– Пожалуйста, приходите, и моя сестра, наверное, тоже назначит вам день.
– Тогда мне нишего не останется шелать, – сказал он, – потому што я веть видсль вас только на Елисейски полях, когда ви проезшали в коляске, и ошень ретко!
От этой мысли высохли слезы, выступившие у него на глазах, и он предложил руку своей прекрасной ученице; она почувствовала, как сильно бьется у старика сердце.
– Вы, стало быть, нас вспоминали? – спросила она.
– Всяки раз, когда ел свой клеб! – ответил он. – Снашала как свой благотетельниц, а потом, как первих двух девушек, достойних любви, которих я вител!
Графиня больше ничего не посмела сказать: в этой фразе прозвучала необычайная, почтительная и благоговейная торжественность. Прокопченная дымом и заваленная сором комната была светлым храмом, воздвигнутым двум богиням. Чувство тут с каждым часом усиливалось, без ведома тех, кто внушал его.
«Здесь мы, значит, любимы, крепко любимы», – подумала она Волнение, с которым старый Шмуке смотрел, как графиня садилась в карету, передалось и ей. Кончиками пальцев она послала ему нежный поцелуй, каким женщины издали приветствуют друг друга. Увидев это, Шмуке словно прирос к земле и долго еще стоял после того, как скрылась карета. Спустя несколько минут графиня въехала во двор особняка Нусингенов. Баронесса еще не вставала; чтобы не заставить ждать столь высокопоставленную гостью, она накинула на себя пеньюар и шаль – Речь идет об одном добром деле, баронесса, – заговорила графиня, – быстрота в таких случаях – спасение; иначе я бы вас не потревожила в такой ранний час.
– Помилуйте, я очень рада, – сказала жена банкира. Взяв четыре векселя и поручительство графини, она позвонила горничной.
– Тереза, скажите кассиру, чтобы он сейчас же сам принес мне сорок тысяч франков.
Затем, запечатав письмо графини де Ванденес, она спрятала его в потайной ящик стола.
– У вас прелестная комната, – сказала графиня.
– Господин Нусинген собирается меня лишить ее, – он строит новый дом.
– А этот вы, вероятно, подарите вашей дочери? Говорят, она выходит замуж за господина де Растиньяка.
В эту минуту появился кассир, и баронесса ничего не ответила на вопрос. Она взяла у кассира деньги и отдала ему векселя.
– Это в покрытие выданной суммы, – сказала она.
– Если не считать учетного процента, – ответил кассир. – Этот Шмуке – музыкант из Ансбаха, – прибавил он, взглянув на подпись, и слова его бросили в дрожь графиню.
– Разве я гонюсь за выгодой? – произнесла г-жа Нусинген, бросив на кассира укоряющий, высокомерный взгляд. – Я беру это на себя.
Как ни присматривался кассир то к баронессе, то к графине, лица у них были непроницаемы.
– Можете идти, – сказала ему баронесса.
– Будьте добры, посидите со мною еще несколько минут, чтобы он не подумал, что вы имеете какое-нибудь отношение к этой сделке, – сказала она г-же де Ванденес.
– Я попрошу вас еще об одной любезности – не выдавайте моей тайны, – сказала графиня.
– Ради доброго дела – это само собою разумеется, – улыбаясь, ответила баронесса. – Я отошлю вашу карету и распоряжусь, чтобы она ждала вас в конце сада. Потом мы вместе пройдем через сад, и никто не увидит, как вы отсюда вышли: это будет совершенно необъяснимо.
– Вы участливы, как все люди, которым пришлось страдать, – сказала графиня.
– Не знаю, участлива ли я, но страдала я много, – сказала баронесса. – Надеюсь, что ваша участливость досталась вам дешевле.
Отдав распоряжение, баронесса надела меховые туфли и шубку и проводила графиню до садовой калитки.
Кто составил план действий, подобный тому, какой был намечен банкиром дю Тийе против Натана, тот не доверит его никому. Нусинген кое-что знал о нем, но его жене были совершенно неизвестны эти макиавеллевские расчеты. Однако, зная стесненное положение Натана, баронесса отнюдь не далась в обман двум сестрам; она догадалась, в чьи руки попадут эти деньги, и была очень рада услужить графине; кроме того, она глубоко сочувствовала несчастьям такого рода. Растиньяк, поставивший себе задачей разгадать махинации обоих банкиров, приехал завтракать к баронессе Нусинген. Дельфина и Растиньяк не имели секретов друг от друга, она ему рассказала сцену с графиней. Растиньяку и в голову не могло прийти, что баронесса окажется замешанной в это дело, которое в его глазах, впрочем, не имело особенного значения, представляя собою один из обычных способов борьбы. Он просветил Дельфину: она, быть может, разрушила надежды дю Тийе попасть в палату, сделала бесполезными происки и жертвы целого года. Объяснив баронессе положение вещей, Растиньяк посоветовал ей молчать о своей вине.
– Только бы кассир не проговорился Нусингену, – сказала она.
За несколько минут до полудня, когда дю Тийе завтракал, ему доложили о приходе Жигонне.
– Просите сюда, – сказал банкир, хотя за столом была его жена. – Ну что, старый Шейлок, упрятали нашего молодца за решетку?
– Нет.
– Как? Сказал же я вам: на улице Майль, гостиница…
– Он заплатил, – сказал Жигонне, вытаскивая из бумажника сорок банковых билетов. На лице дю Тийе выразилось отчаяние.
– Никогда не следует оказывать деньгам дурной прием, – сказал бесстрастный сообщник дю Тийе, – это приносит несчастье.
– Где вы взяли эти деньги, сударыня? – спросил банкир у жены и так взглянул на нее, что она покраснела до корней волос.
– Я не понимаю вашего вопроса, – ответила она.
– Я разгадаю эту тайну, – ответил он, вставая в ярости. – Вы опрокинули мои самые важные планы.
– Вы опрокинете свой завтрак, – сказал Жигонне, удержав скатерть, которую дю Тийе зацепил полою халата.
Госпожа дю Тийе спокойно встала из-за стола. Слова мужа привели ее в смятение. Она позвонила.
– Карету! – сказала она лакею. – Позовите Виржини, я хочу одеться.
– Куда вы едете? – спросил дю Тийе.
– Хорошо воспитанные люди не допрашивают своих жен, – ответила она, – а вы еще притязаете на светские манеры.
– Я не узнаю вас эти два дня, с тех пор как вы виделись дважды с вашей дерзкой сестрою.
– Вы сами приказали мне быть дерзкой, – сказала она. – Вот я и пробую на вас, – Честь имею кланяться, сударыня, – сказал, уходя, Жигонне, мало интересовавшийся семейными сценами.
Дю Тийе пристально взглянул на жену, она не опустила глаз.
– Что это значит? – крикнул он, – Это значит, что я уже не маленькая девочка и вы меня не запугаете. Я всегда была и буду добродетельной и хорошей женой; вы можете быть моим господином, если желаете, но не тираном.
Дю Тийе вышел. После такого напряжения сил Мари-Эжени вернулась в свою комнату совершенно разбитая. «Не будь моя сестра в опасности, – подумала она, – я никогда бы не решилась на такой отпор, но, как говорит пословица, нет худа без добра».
За ночь г-жа дю Тийе перебрала в памяти то, что ей доверила сестра. Убедившись, что Рауль спасен, она уже думала только о страшной опасности, грозившей сестре. Вспомнила, с какою энергией графиня говорила, что убежит с Натаном, чтобы утешить его, если не удастся отвратить катастрофу. Поняла, что этот человек способен в порыве благодарности и любви заставить ее сестру сделать то, что благоразумная Эжени считала безумием. В большом свете были недавние примеры таких побегов, когда сомнительные радости были куплены ценою раскаяния, позора, связанного с ложным положением, и Эжени припоминала их ужасные последствия. Слова дю Тийе довели ее страх до предела; она боялась, что все раскроется, пред ее глазами стояла подпись графини де Ванденес среди бумаг фирмы Нусингена; она решила умолить свою сестру признаться во всем Феликсу.
Госпожа дю Тийе не застала сестры, но Феликс был дома. Внутренний голос говорил ей: «Спаси сестру! Быть может, завтра будет поздно». Она много взяла на себя, но решилась все рассказать графу. Неужели он не будет снисходителен, узнав, что честь его еще не пострадала? Графиня не столько согрешила, сколько сбилась с пути. Эжени было страшно пойти на низость и предательство, разоблачив тайны, которые хранит все общество, единодушное в таких вопросах; но, представив себе будущее сестры, она затрепетала от мысли, что Мари останется когда-нибудь одна, разоренная Натаном, бедная, больная, несчастная, подавленная отчаянием, и, отбросив колебания, она велела передать графу, что хочет его видеть. Феликс, удивленный этим визитом, имел со свояченицей длинный разговор, в котором обнаружил такое спокойствие и самообладание, что она задрожала от страха: ей показалось, что он принял какое-то ужасное решение.
– Не тревожьтесь, – сказал ей Ванденес, – я поведу себя так, что моя жена когда-нибудь будет благословлять вас Конечно, для вас мучительно таиться от любимой сестры после того, как вы все открыли мне, но окажите мне услугу, ничего не говорите ей несколько дней. Мне надо всего несколько дней, чтобы проникнуть в тайны, о которых вы не подозреваете, а особенно для того, чтобы все обдумать и действовать осмотрительно. Быть может, я все узнаю сразу. Виновен в этом только я, сестра. Все любовники ведут игру одинаково; но не все женщины имеют счастье видеть жизнь в ее истинном свете.
Госпожа дю Тийе уехала успокоенная. Феликс немедленно взял из банка сорок тысяч франков и помчался к баронессе Нусинген; он застал ее дома, поблагодарил за оказанное его жене доверие и возвратил ей деньги, объяснив этот таинственный заем безрассудной благотворительностью, которую он хочет ввести в должные границы.
– Граф, объяснения излишни, если ваша супруга вам во всем призналась, – сказала баронесса Нусинген.
«Она знает все», – подумал Ванденес.
Баронесса отдала ему поручительство графини и послала за четырьмя векселями. Ванденес тем временем смотрел на баронессу проницательным взглядом политического деятеля, почти смутившим ее. Он решил, что это благоприятный момент для переговоров.
– Мы живем в такую эпоху, баронесса, когда все неустойчиво, – сказал он. – Троны воздвигаются и рушатся во Франции с ужасающей быстротой. Пятнадцать лет сокрушили великую империю, монархию, революцию. Никто не решился бы поручиться за будущее. Вам известна моя преданность легитимизму. Пусть не удивляют вас эти слова в моих устах. Представьте себе государственный переворот: разве не было бы вам удобно иметь друга в победившей партии?
– Конечно, – сказала она улыбаясь.
– Так не желаете ли вы иметь в моем лице обязанного вам втайне человека, который мог бы в случае нужды поддержать барона Нусингена, мечтающего о титуле пэра?
– Чего вы хотите от меня? – воскликнула она.
– Безделицы, – ответил он. – Расскажите все, что вы знаете про Натана.
Баронесса пересказала ему свою утреннюю беседу с Растиньяком и, вручая бывшему пэру Франции четыре векселя, которые принес кассир, сказала;
– Не забудьте своего обещания.
Но Ванденес так хорошо помнил это чудодейственное обещание, что воспользовался им как приманкою и для барона Растиньяка, чтобы получить от него некоторые другие сведения, Уйдя от Растиньяка, он продиктовал наемному писцу следующее анонимное письмо на имя Флорины:
«Если мадемуазель Флорина хочет узнать, какая первая роль ей предназначена, то ее просят быть на ближайшем маскараде в Опере а сопровождении г-на Натана».
Отправив по почте это письмо, он поехал к своему поверенному, очень ловкому и сметливому, хотя и честному человеку, и предложил ему сыграть роль приятеля Шмуке, которому немец якобы рассказал про визит графини де Ванденес, несколько поздно призадумавшись над значением четырежды повторенной фразы «повинен заплатить десять тысяч франков», и который от имени Шмуке должен попросить у господина Натана вексель на сорок тысяч франков, в виде контррасписки. Это значило идти на большой риск. Натану могло уже быть известно, как уладилось дело, но надо было рискнуть немногим, чтобы выиграть многое. Могла же Мари в своем смятении забыть взять у Рауля расписку для Шмуке. Поверенный сейчас же поехал в редакцию и вернулся в пять часов к графу победителем, с контрраспиской на сорок тысяч франков; во время разговора с Натаном он с первых же слов понял, что спокойно может выдать себя за человека, посланного графиней. Теперь для успеха своего плана Феликсу нужно было помешать встрече жены с Раулем до бала в Опере, куда он собирался ее повести, чтобы она своими глазами убедилась в характере отношений Натана с Флориной. Он знал ревнивую гордость графини; он хотел помочь ей отречься от своей любви добровольно, не давать ей повода краснеть перед ним и вовремя показать Мари ее письма к Натану, которые он рассчитывал выкупить у Флорины. Этому столь остроумному, столь быстро составленному плану, отчасти уже удавшемуся, суждено было сорваться по прихоти случая, все изменяющего в этом бренном мире. После обеда Феликс перевел разговор на бал в Опере и, заметив, что Мари еще никогда на маскарадах не бывала, предложил доставить ей это развлечение на следующий день.
– Я вам найду жертву для мистификации, – сказал он.
– Ах, вы мне доставите большое удовольствие!
– Чтобы как следует позабавиться, женщина должна выбрать себе достойную добычу, какую-нибудь знаменитость, талантливого человека, заинтриговать его, а потом натянуть ему нос. Хочешь, изберем жертвой Натана? От человека, знакомого с Флориной, я могу разузнать такие секреты, что он будет ошеломлен.
– С Флориной? – спросила графиня. – С актрисой? Мари уже слышала это имя от Кийе, рассыльного из редакции газеты Точно молния сверкнула в ее мозгу.
– Ну да, она ведь его любовница, – ответил граф. – Что тебя удивляет?
– Я думала, господин Натан так занят, что ему не до любовниц. Разве у писателей есть время любить?
– Я не говорю, что они любят, друг мой; но надо же им где-нибудь «квартировать», как всем другим мужчинам; и когда у них нет своего угла, когда их преследуют сыщики коммерческого суда, они «квартируют» у своих любовниц. Это может вам показаться предосудительным, но это несравненно приятнее, чем «квартировать» в тюрьме.
Щеки у графини пылали ярче, чем огонь в камине.
– Хотите избрать его жертвой на маскараде? Вы его приведете в ужас, – продолжал граф, не обращая внимания на то, как Мари изменилась в лице. – Я вам предоставлю возможность доказать ему, что ваш зять дю Тийе провел его, как мальчишку. Этот негодяй хочет засадить его в тюрьму, чтобы не допустить к баллотировке в округе, где избран был Нусинген. Я знаю от одного приятеля Флорины, какую сумму она выручила от продажи своей обстановки и дала Натану на газету; я знаю, сколько денег она посылала ему из сборов, которые делала в этом году в провинции и в Бельгии, – а деньги эти пошли в конечном счете на пользу Нусингену, дю Тийе и Массолю. Они втроем заранее продали газету министерству, так уверены они, что устранят этого «великого человека», – Господин Натан не способен брать деньги у актрисы.
– Вы совсем не знаете таких людей, моя дорогая, – сказал граф. – Вот увидите, он не станет отрицать факты.
– Я непременно поеду на маскарад.
– Вам будет весело, – продолжал Ванденес. – С таким оружием в руках вы жестоко израните самолюбие Натана и, право, окажете ему услугу. Он будет приходить в ярость, успокаиваться, вставать на дыбы от ваших колких насмешек, но, подшучивая над ним, вы откроете глаза даровитому человеку на грозящую ему опасность, и вам будет забавно, когда под вашим бичом эти дурацкие скакуны «золотой середины» замечутся в собственной конюшне… Ты меня не слушаешь, дитя мое?
– Напротив, очень внимательно слушаю, – ответила она. – Я вам позже скажу, почему для меня важно во всем этом увериться, – Увериться? – повторил Ванденес. – Останься в маске, я тебя посажу ужинать вместе с Натаном и Флориной: женщине твоего общественного положения будет преинтересно разжечь любопытство актрисы и принудить все мысли великого человека загарцевать вокруг столь важных тайн; ты впряжешь его и эту особу в общую мистификацию. Я узнаю, с кем изменяет Флорине Натан. Если мне удастся разведать подробности какого-нибудь недавнего его похождения, ты насладишься великолепным зрелищем гнева куртизанки. Гнев Флорины заклокочет, как альпийский водопад: она обожает Натана, он для нее все; она льнет к нему, как плоть к кости, как львица к своему детенышу. Помню, в молодости я видел одну знаменитую актрису, писавшую нисколько не грамотнее кухарки. Она явилась к одному из моих приятелей с требованием возвратить ей письма; нельзя представить себе ничего поразительнее этой спокойной ярости, этой наглой величавости, этих повадок дикарки… Ты нездорова, Мари?








