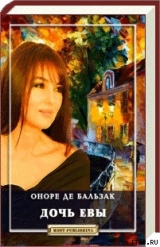
Текст книги "Дочь Евы"
Автор книги: Оноре де Бальзак
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
Механизм прессы ей был так мало известен, что ее не могли беспокоить средства успеха, – женщины склада Флорины понимают только результаты. Что до Натана, то с этого времени он стал думать, что ближайшая сессия введет его в правительство вместе с двумя бывшими журналистами, из которых один, в ту пору уже министр, старался выжить своих коллег, чтобы самому укрепиться. После шестимесячной разлуки Натан был рад свидеться с Флориною и беспечно вернулся к своим привычкам. На грубой канве этой жизни он втайне вышивал прекраснейшие цветы своей идеальной страсти и тех удовольствий, которые рассыпала по ней Флорина. Его письма к Мари были шедевром любви, изящества, стиля. Он изображал ее солнцем своей жизни, ничего не предпринимал, не спросив совета у своего доброго гения. Досадуя на свое демократическое направление, он подумывал по временам, не стать ли ему на защиту аристократии; но, несмотря на свою акробатическую ловкость, понимал совершенную невозможность перескочить слева направо; сделаться министром было легче. Драгоценные письма Мари он прятал в портфеле с секретным замком работы Гюре или Фише, одного из тех двух механиков, которые афишами и объявлениями оспаривали в Париже первенство друг у друга в искусстве делать самые неприступные и крепко хранящие тайну замки. Этот портфель хранился в новом будуаре Флорины, где работал Рауль. Нет ничего легче, чем обмануть женщину, привыкшую к полной откровенности со стороны любовника. Она ни о чем не догадывается, она думает, что все видит и все знает. К тому же со времени своего возвращения актриса наблюдала жизнь Натана и не видела в ней ничего необычного. Никогда не могло бы ей прийти в голову, что этот портфель, почти не замеченный ею, небрежно положенный в ящик, содержит сокровища любви, письма соперницы, которые посылались по адресу редакции газеты, как о том попросил графиню Рауль. Таким образом, с виду положение Рауля было блестяще: у него было много друзей; две пьесы, написанные в сотрудничестве с другими авторами, прошли с успехом, и это позволило ему роскошествовать, освобождало его от всякой тревоги за будущее. Его нимало не беспокоил долг, который он обязан был вернуть дю Тийе, своему другу.
– Можно ли сомневаться в друге? – говорил он, когда у Блонде, привыкшего все анализировать, возникали порою сомнения.
– Зато во врагах сомневаться нам не приходится, – замечала Флорина.
Натан защищал дю Тийе. Дю Тийе – прекраснейший, самый покладистый, самый честный человек на свете. Существование Натана, канатного плясуна без шеста, могло бы испугать всякого, кто проник бы в его тайну, даже равнодушного человека; но дю Тийе наблюдал за ним со спокойствием и безучастием выскочки. В дружеском добродушии его обращения с Натаном проскальзывала жестокая ирония. Однажды, уходя от Флорины, он пожал ему руку и смотрел, как Рауль садился в кабриолет.
– Вот как лихо этот малый мчится в Булонский лес, – сказал он Этьену Лусто, великому завистнику, – а через полгода он, пожалуй, окажется в долговой тюрьме.
– Он-то? Никогда! – воскликнул Лусто. – На то и Флорина.
– Кто тебе поручится, дружок, что он ее сохранит? А вот ты через полгода наверняка будешь у нас главным редактором. Он ведь тебе и в подметки не годится.
В октябре векселям Рауля вышел срок, дю Тийе любезно обменял их на новые, но уже сроком на два месяца и на большую сумму, с включением добавочной ссуды и учетного процента. Рауль, уверенный в победе, спокойно влезал в долги. Графиня де Ванденес должна была вернуться через несколько дней, на месяц раньше, чем обычно, влекомая безумным желанием видеть Натана, и он хотел освободиться от денежных забот, готовясь возобновить свою беспокойную жизнь. Переписка, в которой перо всегда смелее языка, в которой мысль, украшенная цветами красноречия, берется за все и может все выразить, довела графиню до крайней степени экзальтации; она видела в Рауле одного из прекраснейших гениев эпохи, дивную, непонятную, незапятнанную душу, достойную поклонения; она рисовала его себе отважно протягивающим руку к власти. Вскоре речь его, столь упоительная в любви, загремит на трибуне. Теперь Мари жила лишь этой жизнью, состоявшей, подобно шару, из взаимно пересекающихся кругов, в центре которых находился большой свет. Не находя вкуса в спокойных семейных радостях, она прониклась волнениями этой ключом кипящей жизни, которые доносило к ней искусное и влюбленное перо; она целовала эти письма, написанные посреди газетных битв, отнимавшие драгоценное для газетчика время, понимала всю их ценность и была уверена, что он любит только ее, что, кроме славы и честолюбия, у нее нет соперниц; живя в уединении, она находила применение всем своим силам и была счастлива своим удачным выбором: Натан был ангелом в ее глазах.
К счастью, ее отъезд в имение и преграды, лежавшие между нею и Раулем, положили конец светским сплетням.
В последние дни осени Мари и Рауль возобновили наконец свои прогулки по Булонскому лесу, – только там они могли встречаться, пока не открылись двери гостиных. Рауль мог несколько свободнее вкушать чистые, изысканные наслаждения своей идеальной жизни и скрывать ее от Флорины: он работал немного меньше, в газете дела шли заведенным ходом, каждый сотрудник знал свои обязанности. Невольно он делал сравнения между актрисой и графиней, результат был всегда в пользу первой, хотя вторая от этого не теряла. Снова, изнемогая от ухищрений и уловок, на которые его обрекало сердечное и головное увлечение великосветскою женщиной, Рауль находил в себе нечеловеческие силы, необходимые для того, чтобы подвизаться одновременно на трех аренах: света, газеты и театра. И между тем как Флорина, благодарная за все, чуть ли не разделяющая с ним его труды и разделяющая его тревоги, вовремя появляясь и исчезая, щедро дарила ему подлинное счастье, без громких фраз, без всякой примеси упреков, – графиня, с ненасытными глазами, с целомудренными чувствами, забывала про его каторжный труд и огромные усилия, которых ему часто стоила минута свидания с нею. Вместо того чтобы командовать, Флорина позволяла ему быть с нею, покидать ее, снова возвращаться к ней, со спокойствием кошки, которая падает всегда на лапки и только потряхивает ушками. Эта легкость нравов отлично согласуется с повадками людей умственного труда, и всякий художник воспользовался бы ею, как это делал Натан, в то же время преследовавший идеал прекрасной любви, великолепной страсти, которая чаровала его поэтические инстинкты, его затаенное честолюбие, его социальное тщеславие. Уверенный в том, что разоблачение его тайны повлекло бы за собою катастрофу, он решил: «Ни Флорина, ни графиня ничего не узнают. Они так далеки друг от друга!» С наступлением зимы Рауль вновь появился в свете в апогее своей славы: он был почти значительной особой. Растиньяк, упав заодно с министерством, расшатанным смертью де Марсе, опирался на Рауля и подпирал его своими похвалами. Теперь графине захотелось узнать, переменил ли ее муж свое мнение о Натане. Спустя год она повторила свой вопрос, думая на этот раз блестяще отыграться, а реванш доставляет радость всем женщинам, даже самым благородным, наименее земным; можно без риска биться об заклад, что ангелы, и те не лишены самолюбия, когда выстраиваются вокруг святая святых.
– Ему только и оставалось, что стать игрушкою в руках интриганов, – ответил граф.
Феликс, у которого благодаря его светскому и политическому опыту были зоркие глаза, понял положение Рауля. Он спокойно объяснил жене, что покушение Фиески имело следствием объединение многих умеренных людей на почве интересов, воплощенных в лице Луи-Филиппа и находившихся под угрозой. Газетам неопределенного оттенка предстояло растерять своих подписчиков, ибо вместе с политикой должна была упроститься и журналистика. Если Натан вложил все свои средства в газету, он скоро будет разорен.
Это суждение, такое правильное, такое ясное, несмотря на краткость, и равнодушно высказанное человеком, умевшим взвешивать шансы всех партий, испугало г-жу де Ванденес.
– Вы им очень интересуетесь? – спросил Феликс жену.
– Он очень остроумный человек, с ним забавно бывает побеседовать.
Она сказала это таким естественным тоном, что граф ничего не заподозрил.
На другой день, в четыре часа. Мари и Рауль встретились в гостиной маркизы д'Эспар и долго разговаривали вполголоса. Графиня высказала опасения, а Рауль рассеял их, очень довольный тем, что градом колкостей ниспроверг супружеский авторитет Феликса. Натану надо было отыграться. Он изобразил графа человеком отсталым, с узким кругозором, прикладывающим к Июльской революции мерку Реставрации, закрывающим глаза на победу средних классов, новой общественной силы, пусть даже недолговечной, но реальной. С властью знати покончено, настало господство подлинно выдающихся людей. Вместо того чтобы обдумать непредубежденное мнение стороннего наблюдателя, политического мыслителя, высказанное беспристрастно, Рауль заважничал, взобрался на ходули и облачился в пурпур своего успеха. А существует ли женщина, доверяющая мужу больше, чем любовнику? Госпожа де Ванденес успокоилась, и снова началась для нее жизнь, полная подавленного раздражения, украдкою перехваченных радостей, тайных рукопожатий – всего, чем она питалась и прошлой зимой, но что в конце концов увлекает женщину за черту дозволенного, если мужчина, ею любимый, сколько-нибудь решителен и нетерпелив. По счастью для нее, страсти Рауля, умеряемые Флориною, не были опасны. К тому же он был поглощен интересами, не дававшими ему воспользоваться своей удачей. Тем не менее внезапно случившееся с Натаном несчастье, возникновение новых препятствий, порыв нетерпения могли бы увлечь графиню в пропасть, и Рауль уже начинал об этом догадываться. В такой стадии был их роман в конце декабря, когда дю Тийе попросил вернуть ему деньги. Богатый банкир, ссылаясь на свое стесненное положение, посоветовал Натану занять эту сумму на две недели у ростовщика Жигонне, у этого провидения, которое за двадцать пять процентов выручало всех молодых людей, попадавших в беду. Газета накануне большой новогодней подписки, касса ее должна наполниться. Тогда дю Тийе посмотрит, как быть. Да и почему бы Натану не написать пьесы? Натан из гордости пожелал заплатить, чего бы это ни стоило. Дю Тийе дал ему письмо к ростовщику, и тот отсчитал Раулю деньги под трехнедельные векселя. Вместо того чтобы доискаться причины такой услужливости, Рауль пожалел, что не попросил больше. Так поступают самые замечательные в умственном отношении люди: в серьезном событии они усматривают повод для шутки, они словно приберегают ум для своих произведений и, боясь его умалить, не расходуют на житейские дела. Рауль в этот день рассказал Флорине и Блонде, как он был утром у ростовщика, описал им всего Жигонне, пестренькие обои в его комнате, его лестницу, астматический хрип и козью ножку его колокольчика, истертый половичок, холодный камин и такой же холодный взгляд; он насмешил их портретом своего нового «дяди»; им не внушили никакого беспокойства ни дю Тийе, плакавшийся на безденежье, ни столь сговорчивый ростовщик. Все это причуды!
– Он взял с тебя только пятнадцать процентов, – сказал Блонде, – ты должен его поблагодарить. При двадцати пяти процентах с такими людьми перестают здороваться; ростовщичество начинается с пятидесяти процентов, за такую плату им можно уже выражать презрение.
– Презрение? – сказала Флорина. – Кто же из ваших друзей дал бы вам деньги под такие проценты, не выставляя себя при этом вашим благодетелем?
– Она права, я счастлив, что ничего больше не должен дю Тийе.
Как объяснить такую слепоту в личных делах у людей, привыкших все угадывать? Быть может, ум не способен на совершенство во всех отношениях; быть может, художники настолько живут настоящим, что не могут думать о будущем; быть может, внимание их слишком приковано к смешным чертам и не дает им заметить ловушку, или они не допускают мысли, что их посмеют обмануть… Будущее не заставило себя ждать. Через три недели векселя были опротестованы; но Флорина добилась в коммерческом суде отсрочки платежа на двадцать пять дней. Рауль разобрался в своем положении, потребовал счета: оказалось, что доход газеты покрывает две трети расходов и что подписка падает. Великий человек забеспокоился, стал мрачен, но только перед Флориной, которой он доверял. Флорина посоветовала ему занять деньги под залог будущих пьес, запродав их оптом и переуступив все свои театральные доходы. Натан раздобыл таким путем двадцать тысяч франков и сократил долг до сорока тысяч. Десятого февраля отсрочка платежа по векселям кончилась. Дю Тийе, не желая встретить в лице Натана конкурента в округе, где он собирался баллотироваться, и уступив Массолю другой округ, благоговеющий перед министерством, стал через Жигонне преследовать всеми средствами Натана. Человек, посаженный в тюрьму за долги, не может быть кандидатом в парламент. Долговая тюрьма на улице Клиши – это гроб для будущего министра. Флорина и сама не могла отделаться от судебных приставов из-за своих личных долгов; в этот опасный момент у нее не оставалось никаких ресурсов, кроме «Я» Медеи, ибо ее обстановка была описана. Честолюбец слышал со всех сторон зловещее потрескивание в своем новом, без фундамента воздвигнутом здании. Уже не имея сил поддерживать столь обширное предприятие, он чувствовал себя неспособным взяться за него сызнова… Он должен был погибнуть под развалинами своей фантазии. Любовь к графине еще питала немного его жизнь, оживляла его лицо, но в душе надежда умерла. Он ни в чем не подозревал дю Тийе, он видел перед собою только ростовщика. Растиньяк, Блонде, Верну, Лусто, Фико, Массоль меньше всего были склонны просветить этого человека, деятельный характер которого был для них опасен. Растиньяк, желавший вернуться к власти, действовал теперь в сговоре с Нусингеном и дю Тийе. Остальные испытывали глубочайшее наслаждение, наблюдая агонию одного из равных им, виновного в попытке подняться над ними. Никто из них и не подумал шепнуть словечко Флорине; наоборот, они ей расхваливали Рауля: «У Натана плечи такие крепкие, что выдержат весь мир; он вывернется, все пойдет превосходно!»
– Вчера прибавилось два подписчика, – говорил Блонде серьезным тоном. – Рауль будет депутатом. Когда будет принят бюджет, появится указ о роспуске палаты.
Натан, преследуемый за долги, уже не мог обратиться к ростовщикам. Флорина могла рассчитывать лишь на то, что вдруг ею увлечется какой-нибудь простак, хотя простаки никогда вовремя не подворачиваются. Все друзья Натана были люди без денег и без кредита. Предстоящий арест убивал его надежды на политическую карьеру. В довершение беды он чувствовал, что увяз в огромной, вперед оплаченной работе; он не видел дна в пропасти нищеты, куда скатывался Перед лицом всех этих грозных обстоятельств мужество его покинуло. Согласна ли будет разделить с ним судьбу графиня де Ванденес, бежать в далекие края? Только беззаветная любовь увлекает женщин в такую бездну, а страсть не связала Мари и Рауля таинственными узами счастья. Но пусть бы даже графиня последовала за ним за границу, она уехала бы без средств, нищая и разоренная, она была бы для него только обузой. Ум невысокого полета, гордец, каким был Натан, должен был увидеть и увидел в самоубийстве меч, способный разрубить этот гордиев узел. Мысль о том, что он упадет в глазах этого общества, куда он проник, которое он собирался покорить, что он оставит в нем торжествующую графиню и снова станет жалким рядовым, была невыносима. Безумие плясало и звенело своими бубенцами у дверей фантастического дворца, воздвигнутого поэтом. Оказавшись в таком крайнем положении, Натан, однако, все еще ждал счастливого случая и решил покончить с собою только в последний миг.
В течение последних дней, пока судебное постановление вступало в законную силу и подготовлялся приказ о личном задержании, Рауль появлялся всюду с тем холодно-мрачным, вопреки его воле, видом, который наблюдательные люди замечают у всех тех, кто обречен на самоубийство или замышляет его. Преследующая их мысль о смерти отбрасывает серые, сумрачные тени на лоб; в их усмешке есть нечто роковое, их движения торжественны. Эти несчастные словно стараются до последней капли осушить золотой кубок жизни; то и дело они опускают взор, словно целясь в собственное сердце, им слышится похоронный звон; они рассеянны. Однажды вечером, у леди Дэдлей, Мари заметила эти зловещие признаки; Рауль остался один на диване в будуаре, между тем как все общество беседовало в гостиной; графиня появилась в дверях, он не поднял головы, не услышал ни дыхания Мари, ни шелеста ее шелкового платья: неподвижный, отупелый от страдания взгляд был прикован к узору на ковре; он предпочитал смерть отречению от власти. Не всем достается такой пьедестал, как остров святой Елены. К тому же самоубийство в ту пору царило в Париже: оно и должно быть последним словом потерявшего веру общества! Рауль принял решение умереть. Отчаяние пропорционально надеждам, и единственным исходом для отчаяния Рауля была могила.
– Что с тобою? – спросила Мари, подбежав к нему.
– Ничего, – ответил он.
Между любящими друг друга есть такой способ сказать «ничего», который означает все. Мари пожала плечами.
– Вы настоящий ребенок, – сказала она. – С вами случилось какое-то несчастье?
– Нет, не со мною, – сказал он. – К тому же, Мари, вы о нем всегда узнали бы первая, – прибавил он нежно.
– О чем ты думал, когда я вошла? – спросила она настойчиво.
– Ты хочешь знать правду? Она наклонила голову.
– Я думал о тебе, я говорил себе, что на моем месте многие мужчины пожелали бы полной, беззаветной любви. Ведь такова твоя любовь, не правда ли?
– Да, – сказала она.
– И я оставляю тебя чистою, без угрызений совести, – продолжал он, обнимая ее за талию, и, уже не беспокоясь о том, что их могут увидеть, прижал к себе, чтобы поцеловать в лоб. – Я мог увлечь тебя в пропасть – и не сделал этого. Ты во всей своей славе, незапятнанная, останешься на ее краю. Но мне несносна одна мысль…
– Какая?
– Ты будешь меня презирать. Она ему ответила чудесной улыбкой.
– Да, ты никогда не поверишь, что я любил тебя свято; меня станут поносить потом, я знаю. Женщины не представляют себе, что, увязая в трясине, мы поднимаем глаза к небесам, безраздельно поклоняясь своей Марии. Они примешивают к этой святой любви мелкие вопросы, они не понимают, что люди высокого ума и глубоко поэтического склада умеют подняться душой над чувственными утехами, сберечь ее для некоего возвышенного служения. Между тем у нас. Мари, культ идеала всегда более пылок, чем у вас: мы находим этот идеал в женщине, которая даже и не ищет его в нас.
– К чему эта импровизация? – спросила она насмешливым тоном уверенной в себе женщины.
– Я покидаю Францию, почему и как – завтра узнаешь из письма, которое тебе принесет мой слуга. Прощай, Мари.
Рауль в неистовом порыве прижал к сердцу графиню и вышел, оставив ее в мучительной растерянности.
– Что с вами, дорогая? – спросила маркиза д'Эспар, придя за нею. – Что сказал вам господин Натан? Он покинул нас с таким мелодраматическим видом. Вы, быть может, не в меру благоразумны или слишком неразумны?
Графиня, взяв под руку маркизу д'Эспар, вернулась в гостиную, но через несколько минут уехала.
– Может быть, она отправилась на свое первое свидание, – сказала маркизе леди Дэдлей.
– Это я узнаю, – ответила уходя, маркиза д'Эспар.
Она села в ожидавший ее экипаж и велела кучеру ехать следом за графиней. Но карета графини де Ванденес направилась в сторону предместья Сент-Оноре. Г-жа д'Эспар прекратила свою прогулку только тогда, когда увидела, что карета графини де Ванденес свернула на улицу Роше. Возвратившись домой. Мари легла, но не могла заснуть и целую ночь читала какое-то путешествие на северный полюс, не понимая в нем ни слова. В половине девятого она получила письмо от Рауля и торопливо распечатала его. Письмо начиналось классическими словами:
«Моя дорогая возлюбленная, когда ты возьмешь в руки этот листок, меня уже не будет…»
Она не читала дальше, нервным, непроизвольным движением скомкала бумагу, позвонила горничной, поспешно накинула на себя платье, обулась в первые попавшиеся башмаки, закуталась в шаль, надела шляпку и вышла, поручив горничной сказать графу, что она поехала к своей сестре, г-же дю Тийе.
– Где вы оставили господина Натана? – спросила она слугу Рауля.
– В редакции газеты.
– Едемте туда.
К великому изумлению своих слуг, она ушла пешком, в девятом часу утра, несомненно в припадке безумия. По счастью для нее, горничная сказала ее мужу, что графиня получила от г-жи дю Тийе письмо, которое привело ее в необыкновенное волнение, и что она поспешила к сестре в сопровождении слуги, доставившего письмо. Ванденес стал ждать возвращения жены, чтобы узнать, что случилось. Графиня села в фиакр, быстро доставивший ее в редакцию газеты. В этот час просторные комнаты, занимаемые газетой в старом особняке на улице Фейдо, были безлюдны; там находился только рассыльный. Он удивился при виде заблудившейся здесь молодой дамы, которая, бегом пробегая по редакционным комнатам, спросила его, где господин Натан.
– Да, вероятно, у мадемуазель Флорины, – ответил рассыльный, приняв графиню за соперницу, собирающуюся устроить журналисту сцену ревности.
– А в какой комнате он здесь работает? – спросила она.
– У себя в кабинете, но ключ от него всегда уносит с собой.
– Пойдемте туда.
Посыльный повел ее в небольшую темную комнату, выходившую окнами на задний двор и когда-то служившую туалетной, она примыкала к большой спальне, в которой еще сохранился альков. Туалетная расположена была под прямым углом к спальне, и графиня, открыв окно, смогла увидеть через окно спальни все, что там происходило: Натан хрипел, полулежа в своем редакторском кресле.
– Взломайте эту дверь и ни слова никому! Я заплачу вам за молчание, – сказала она. – Вы ведь видите, господин Натан умирает Посыльный побежал в типографию, притащил туда железную раму и высадил ею дверь. Рауль покончил с собой, как простая швея, – он задыхался от угара, устроенного при помощи жаровни с углями. Он только что написал Блонде письмо, в котором просил объяснить его внезапную смерть параличом сердца. Графиня приехала вовремя; она распорядилась перенести Рауля в фиакр и, не зная, где оказать ему помощь, привезла его в ближайшую гостиницу, сняла там номер и послала рассыльного за врачом. Спустя несколько часов Рауль был вне опасности; но графиня не отошла от его постели, пока он ей не исповедался во всем. После того как поверженный во прах честолюбец излил перед нею в элегической форме свою ужасающую скорбь, она вернулась домой во власти всех тех терзаний, всех мыслей, которые накануне осаждали Натана.
– Я все устрою, – сказала она ему уходя, чтобы вдохнуть в него волю к жизни.
– Ну как? Что с твоей сестрой? – спросил Феликс, встречая жену. – Ты очень изменилась в лице.
– Это страшная история, но я должна хранить ее в глубокой тайне, – ответила она, собравшись с силами, чтобы притвориться спокойною.
Чтобы остаться наедине с собой и свободно отдаться мыслям. Мари вечером поехала в Итальянский театр, потом отправилась к сестре и открыла свое сердце, рассказав ей о страшном утреннем происшествии. Она просила у нее совета и помощи. Ни та, ни другая не могли в это время знать, что в той вульгарной жаровне, вид которой привел в ужас графиню де Ванденес, раскалил угли дю Тийе.
– Одна только я у него на свете, – сказала Мари сестре, – и я его не покину.
В этих словах разгадка тайны женского характера: женщина героична, когда уверена, что в ней – вся жизнь большого и безупречного человека.
Дю Тийе слышал о более или менее достоверном увлечении его свояченицы Натаном, но принадлежал к тем, кто отрицал это увлечение или считал его несовместимым с любовной связью между Раулем и Флориной. Актриса и графиня исключали друг друга. Но в этот вечер, когда банкир вернулся домой и застал у себя свояченицу, уже в Итальянском театре поразившую его своим взволнованным видом, он догадался, что Рауль рассказал графине о своих затруднениях. Стало быть, графиня любит его; она приехала просить у сестры денег для расплаты со стариком Жигонне. Г-жа дю Тийе, не знавшая источников этой с виду сверхъестественной прозорливости, обнаружила такое изумление, что догадка дю Тийе превратилась в уверенность. Банкир решил, что сможет удержать в своих руках нить интриг Натана. Никто не знал, что этот несчастный лежит в постели в меблированных комнатах на улице Майль под именем рассыльного из редакции, которому графиня обещала пятьсот франков за молчание о событиях той ночи и утра. Поэтому-то Франсуа Кийе и позаботился сказать привратнице, что Натану стало дурно от чрезмерной работы. Дю Тийе не удивлялся тому, что не видит Натана. Естественно было, что журналист прячется от людей, имевших приказ его арестовать. Сыщики, явившиеся для наведения справок, узнали, что утром какая-то дама увезла главного редактора. Только через два дня они установили номер фиакра, расспросили извозчика, нашли и обследовали гостиницу, где возвращался к жизни должник. Таким образом, принятые графинею меры предосторожности дали Натану трехдневную отсрочку.
Обе сестры провели мучительную ночь. Подобная катастрофа бросает отблеск своего пожара на всю жизнь; но она освещает не столько вершины, которые привлекали взгляд и до нее, сколько мели и подводные камни. Представляя себе страшное зрелище – молодой человек умирает, сидя в своем кресле, перед своей газетой, и по примеру римлян доверяет бумаге свои последние мысли, – бедная г-жа дю Тине могла думать только о том, как бы помочь ему, как бы вернуть жизнь этой душе, которою жила ее сестра. Останавливаться на следствиях до изучения причин – свойство нашего ума. Эжени снова одобрила возникшую у нее с самого начала мысль обратиться к баронессе Дельфине Нусинген, у которой ей предстояло обедать, и не сомневалась в успехе. Великодушная, как все люди, еще не втянутые в полированный стальной механизм современного общества, г-жа дю Тийе решила все взять на себя.
Графиня, счастливая тем, что уже спасла жизнь Натану, тоже всю ночь придумывала самые хитрые способы раздобыть сорок тысяч франков. В эти решительные минуты женщины непостижимы. На поводу у чувств они приходят к таким планам, которые бы изумили воров, дельцов и ростовщиков, если бы представители этих трех более или менее узаконенных промыслов чему-либо изумлялись. То графиня собиралась продать свои бриллианты и носить поддельные; то решалась попросить деньги у мужа, якобы для своей сестры, которую она и без того уже вывела на сцену. Но благородство внушало ей отвращение к бесчестным приемам; она их замышляла и отвергала. Деньги Ванденеса передать Натану! Она подскакивала на постели в ужасе от своей низости. Выдавать поддельные бриллианты за настоящие! Муж в конце концов заметил бы это. У нее мелькала мысль обратиться к Ротшильдам, у которых столько денег, к Парижскому архиепископу, который обязан помогать бедным; она металась от одной религии к другой, взывая ко всем с мольбою. Сокрушалась о том, что не близка к правительственным кругам, – в прежнее время она бы получила ссуду из сумм двора. Думала прибегнуть к помощи отца. Но отставной судья питал отвращение к незаконным действиям; дети его поняли в конце концов, как мало сочувствия находили в нем испытания любви; он и слышать о них не хотел, сделался мизантропом, терпеть не мог никаких интриг. Что до графини Гранвиль, то она жила в нормандской глуши, в одном из своих поместий, копя деньги и молясь, доживая свои дни среди священников и мешков с деньгами, равнодушная ко всему до последнего своего вздоха. Пусть бы даже Мари успела съездить в Байе, разве даст ей мать столько денег, не зная их назначения? Сослаться на долги? Пожалуй, она дала бы себя растрогать своей любимице. Да, да, в случае неуспеха надо поехать в Нормандию. Граф Гранвиль не откажется снабдить ее предлогом для поездки, хотя бы ложным сообщением о тяжелой болезни жены. Душераздирающее зрелище, перепугавшее ее утром, уход за Натаном, часы, проведенные у его изголовья, его прерывающийся рассказ, эта агония больного ума, этот полет гения, приостановленный пошлым, гнусным препятствием, – все вспоминалось ей, разжигая ее любовь. Она перебрала в памяти свои волнения и почувствовала себя увлеченною несчастьями Рауля еще больше, чем величием. Поцеловала ли бы она этот лоб, будь он увенчан успехом? Нет! Она находила бесконечно благородными последние слова, сказанные ей Натаном в будуаре у леди Дэдлей. Какое святое благородство в этом прощании! В этом отказе от счастья, которое бы стало для нее пыткой! Графиня хотела изведать волнения в жизни; теперь она была богата ими – страшными, жестокими, но дорогими ей волнениями. Она больше жила страданиями, чем удовольствиями. С каким наслаждением она говорила себе: «Я уже спасла его, я его еще раз спасу!» В ушах ее звучал его возглас: «Только несчастные знают, на что способна любовь!», – когда губы Мари коснулись его лба, – Ты нездорова? – спросил ее муж, придя к ней в комнату, чтобы позвать ее завтракать.
– Меня так угнетает драма, происходящая в доме моей сестры! – сказала она, и в этом была некоторая доля правды.
– Эжени попала в очень плохие руки. Позор для семьи – допустить в свою среду такого человека, как этот дю Тийе, человека без чувства чести. Если вашу сестру постигнет какое-нибудь большое горе, она не встретит жалости с его стороны.
– Какая женщина довольствуется жалостью? – сказала графиня, содрогнувшись. – Когда вы безжалостны, в суровости вашей – наше утешение.
– Я давно знаю ваше душевное благородство, – сказал Феликс, целуя руку жене, глубоко умиленный ее гордостью. – Женщина с таким образом мыслей не нуждается в присмотре.
– В присмотре? – переспросила она. – Это тоже позор, и не только для женщины, но и для мужа.
Феликс усмехнулся, но Мари покраснела. Женщины, знающие за собой тайную вину, драпируются в тогу женской гордости. Это душевное притворство надо ценить. Обман тогда полон достоинства, если не величия. Мари написала несколько строк Натану, на имя г-на Кийе, о том, что все идет хорошо, и послала эту записку через посыльного в гостиницу на улице Майль. Вечером в Опере графиня пожала плоды своей лжи, – муж нашел вполне естественным ее желание выйти из ложи, чтобы повидаться с сестрой, и проводил ее к ней, когда дю Тийе оставил жену одну. Как волновалась Мари, когда шла по коридору, когда появилась в ложе сестры и села там со спокойным и ясным лицом на глазах у великосветского общества, удивленного тем, что видит сестер вместе!








